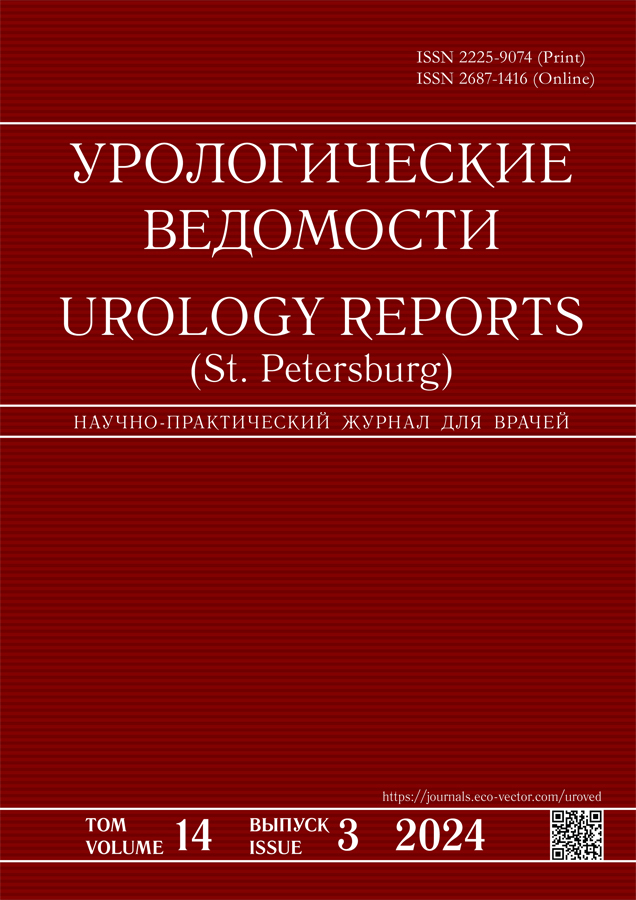Качество жизни и функциональные результаты после илеоцистопластики при микроцистисе туберкулезной этиологии
- Авторы: Чибиров К.Х.1, Протощак В.В.2, Бабкин П.А.2, Кушниренко Н.П.2, Горелова А.А.3, Паронников М.В.2
-
Учреждения:
- Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии
- Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова
- Санкт-Петербургский государственный университет
- Выпуск: Том 14, № 3 (2024)
- Страницы: 279-292
- Раздел: Оригинальные исследования
- Статья получена: 14.08.2024
- Статья одобрена: 17.09.2024
- Статья опубликована: 17.11.2024
- URL: https://journals.eco-vector.com/uroved/article/view/635170
- DOI: https://doi.org/10.17816/uroved635170
- ID: 635170
Цитировать
Аннотация
Актуальность. Исходом туберкулезного поражения мочевого пузыря является его необратимое сморщивание, стойкое нарушение накопительной функции и значительное ухудшение качества жизни больного. Супратригональная аугментационная илеоцистопластика и заместительная илеоцистопластика — стандартные виды лечения микроцистиса туберкулезной этиологии. На сегодняшний день преимущества и недостатки указанных методов изучены недостаточно.
Цель — провести сравнительную оценку качества жизни и функциональных результатов у пациентов с микроцистисом туберкулезной этиологии после супратригональной аугментационной и заместительной илеоцистопластики.
Материалы и методы. В исследовании были сформированы две группы. Первая группа включала 19 пациентов, перенесших супратригональную резекцию мочевого пузыря с аугментационной илеоцистопластикой, во вторую группу вошли 20 человек, которым выполняли заместительную илеоцистопластику. В период от 1 до 6 лет после операции изучалось качество жизни и проводилось комплексное уродинамическое исследование.
Результаты. Анализ значений «Общее состояние здоровья» согласно опроснику KHQ продемонстрировал худшее качество жизни в группе больных после резекции мочевого пузыря (р = 0,013). У них же по данным шкалы качества жизни QoL отмечался менее приемлемый результат по показателю «Качество жизни вследствие расстройств мочеиспускания» (р = 0,019). Показатели энтероцистометрии наполнения были сопоставимы между когортами пациентов и находились в удовлетворительном диапазоне. Все ключевые критерии, отражающие эвакуаторную функцию, оказались значимо хуже в первой группе: больший объем остаточной мочи (р = 0,001), меньшая максимальная скорость опорожнения (р = 0,034) и необходимость интермиттирующей самокатетеризации в большем числе случаев (р = 0,001). Расчет индекса обструкции показал широкую распространенность хронической задержки мочи среди указанной категории больных (р = 0,015). Так, участникам, перенесшим аугментационную илеоцистопластику, для инициации (р = 0,001) и поддержания (р = 0,036) опорожнения кишечного мочевого резервуара приходилось создавать в разы большее абдоминальное давление. Частота развития резервуаро-мочеточникового рефлюкса и инконтиненции была сопоставима в обеих группах (р > 0,05).
Выводы. Цистэктомия с заместительной илеоцистопластикой, как вмешательство с лучшими показателями качества жизни и функциональными результатами, является оптимальным выбором у пациентов с микроцистисом туберкулезной этиологии.
Полный текст
АКТУАЛЬНОСТЬ
Согласно Глобальному отчету Всемирной организации здравоохранения, в 2022 г. туберкулез впервые выявлен у 10,6 млн человек (5,8 млн мужчин, 3,5 млн женщин и 1,3 млн детей), из них около 3,1 млн не получали лечение ввиду несвоевременной диагностики. В структуре смертности, вызванной одним инфекционным агентом, в 2022 г. заболевание занимало 2-е место, уступая только коронавирусной инфекции COVID-19. Туберкулез стал причиной летальных исходов у 1,3 млн пациентов (в том числе 167 тыс. с ВИЧ) и оставался главным фактором ухода из жизни ВИЧ-позитивных людей [1]. На долю внелегочных форм приходится от 5 до 45 % наблюдений [2–4]. В среднем это значение приближается к 10 % и имеет тенденцию к уменьшению в развитых странах и повышению в развивающихся [5, 6]. Согласно данным, представленным на портале Единой межведомственной информационно-статистической системы — ЕМИСС Государственная статистика, в 2022 г. в России зарегистрировано более 45 тыс. пациентов с впервые выявленным активным туберкулезом. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения за указанный период равнялся 31,0. К внелегочным поражениям относилось 2,8 % впервые выявленных случаев заболевания [7]. Наиболее частыми локализациями внелегочного туберкулеза являлись костная ткань, урогенитальный тракт, лимфатические узлы, плевра и мозговые оболочки [8]. Доля урогенитального туберкулеза среди внелегочных форм широко варьирует в зависимости от географии региона, достигая 15–20 % в странах Африки, Азии, Восточной Европы и 2–10 % в Западной Европе и США, и занимает 2-е место, незначительно уступая туберкулезу костей и суставов. Более чем в 20 % наблюдений урогенитальный туберкулез встречается у пациентов с активным туберкулезом легких [8–10].
В структуре урогенитального туберкулеза частота заболевания мочевого пузыря составляет 10,6–52,3 % [5, 11–16]. Специфическое поражение мочевого пузыря приводит к необратимому уменьшению его емкости и последующему сморщиванию, что проявляется стойким нарушением накопительной функции и значительным ухудшением качества жизни [14, 17, 18]. Эффективная в начальных стадиях болезни консервативная терапия на данном этапе уже не может привести к регрессу патологических морфофункциональных изменений. Сморщенный мочевой пузырь, или микроцистис, или «малый» мочевой пузырь туберкулезной этиологии (ММПТЭ), или туберкулез мочевого пузыря 4-й стадии, является крайней клинической формой и показанием к хирургическому лечению [19].
Супратригональная резекция мочевого пузыря с последующей аугментационной илеоцистопластикой (АИЦП) и цистэктомия с заместительной илеоцистопластикой (ЗИЦП) — стандартные и наиболее часто выполняемые виды хирургических вмешательств при ММПТЭ. Эти методики имеют своей целью создание максимально приближенного к здоровому мочевому пузырю кишечного резервуара низкого давления, что может обеспечить сохранность функции верхних мочевых путей и улучшить качество жизни [11, 14, 20–25]. На сегодняшний день отсутствует консенсус по критериям выбора между указанными видами оперативных вмешательств. Ряд авторов отдает однозначное предпочтение ЗИЦП, тогда как другая группа при выборе хирургического пособия исходит из данных о функциональной емкости мочевого пузыря, предлагая выполнять АИЦП при его значениях выше 15–20 мл, а ЗИЦП, когда этот объем меньше. В основе такого подхода лежит гипотеза о том, что снижение показателя до 15–20 мл и менее является маркером вовлечения в патологический процесс треугольника мочевого пузыря и его сохранение становится нецелесообразным, в том числе и во избежание возможных осложнений. Однако публикации, обосновывающие это предположение, по уровню доказательности соответствуют экспертному мнению [14, 19, 22, 25–28].
Обзор литературы позволяет считать, что, несмотря на безальтернативность хирургического лечения при ММПТЭ, на сегодняшний день нет публикаций, в которых проводится сравнительный анализ качества жизни и результатов комплексного уродинамического исследования (КУДИ) после указанных видов вмешательств. Качеству жизни и функциональным результатам после оперативного лечения ММПТЭ посвящено малое количество трудов [22, 29–34]. Использование разных отделов желудочно-кишечного тракта, их разная протяженность, всевозможные способы их реконфигурации, несхожесть уровней резекции мочевого пузыря при отсутствии полного спектра уродинамических исследований позволяет констатировать неоднородность групп по ряду ключевых показателей в указанных работах. Это в свою очередь не дает возможности экстраполировать значимость полученных результатов на указанные ранее наиболее распространенные методики хирургического лечения.
Таким образом, выраженное и необратимое нарушение функции нижних мочевых путей и обусловленное этим снижение качества жизни при ММПТЭ, а также отсутствие аргументированных предпочтений в выборе методики выполнения илеоцистопластики определяют актуальность данного исследования.
Цель работы — сравнительная оценки качества жизни и функциональных результатов у пациентов с микроцистисом туберкулезной этиологии после супратригональной аугментационной и заместительной илеоцистопластики.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
С 2007 по 2019 г. в отделении урогенитального туберкулеза Санкт-Петербургского научно-исследовательского института фтизиопульмонологии выполнено более 100 оперативных вмешательств по поводу «малого» мочевого пузыря туберкулезной этиологии. В настоящее моноцентровое проспективное исследование было включено 39 пациентов: 21 мужчина (53,8 %) и 18 женщин (46,2 %), средний возраст участников составил 55 лет (от 21 до 76 лет). В зависимости от методики хирургического лечения были сформированы две группы. В группу 1 вошли 19 пациентов, перенесших супратригональную резекцию мочевого пузыря с последующей АИЦП. Вмешательство было выполненно по модифицированной методике Штудера и подразумевало широкий анастомоз резервуара с резецированным мочевым пузырем. В группу 2 включены 20 пациентов с цистэктомией и ЗИЦП по классической методике Штудера.
Пациентов включали в исследование в соответствии со следующими критериями: наличие «малого» мочевого пузыря туберкулезной этиологии (функциональная емкость не более 100 мл); хирургическое лечение в объеме супратригональной резекции мочевого пузыря с последующей АИЦП либо цистэктомии с ЗИЦП; срок от операции до включения в исследование не менее 1 года.
Критерии невключения: органическая инфравезикальная обструкция, в том числе обусловленная гиперплазией предстательной железы; обструкции верхних мочевыводящих путей; метаболический ацидоз; сопутствующие неврологические заболевания; детрузорно-сфинктерная диссинергия; пузырно-мочеточниковый рефлюкс; стрессовое недержание мочи и емкость мочевого пузыря менее 20 мл до хирургического лечения.
Группы были сопоставимы между собой по полу, возрасту, объему мочевого пузыря и предстательной железы (р > 0,05). На момент оперативного лечения все пациенты завершили противотуберкулезную химиотерапию или ее интенсивную фазу. Во время послеоперационного обследования во всех случаях было констатировано клиническое излечение туберкулеза либо подтверждалось отсутствие активности специфического процесса.
Отдаленные результаты прослежены через 1 год и более (максимально через 6 лет) после вмешательств, различия в сроках наблюдения были сопоставимы (р > 0,05). В рамках исследования выполнялось анкетирование. Влияние симптомов нижних мочевыводящих путей на качество жизни оценивали при помощи сопутствующего опроснику IPSS (International Prostate Symptom Score, Международный индекс симптомов предстательной железы) шкалы QoL (Quality of life due to urinary symptoms — «Качество жизни вследствие расстройств мочеиспускания») и опросника по здоровью KHQ (King’s Health Questionnaire). Последний ориентирован как на всеобъемлющую оценку качества жизни, связанного с мочеиспусканием, так и на выраженность различных расстройств — частоты, ноктурии, ургентности, недержания мочи, болевого синдрома, недержания мочи при половом акте [35]. Помимо качества жизни анкетирование проводили для регистрации субъективной оценки степени тяжести нарушений функции нижних мочевыводящих путей. Применяли соответствующую часть опросника KHQ и специализированный опросник IPSS. Исходно разработанный для пациентов с доброкачественной гиперплазией предстательной железы, опросник IPSS со временем стал широко применяться и при других заболеваниях, которые приводили к нарушению функции нижних мочевыводящих путей, в том числе у женщин [36]. В связи с этим, в адаптированном для стран Содружества Независимых Государств варианте этот опросник получил название «Международная система оценки симптомов нижних мочевыводящих путей в баллах» [37].
Объективную оценку функционального состояния нижних мочевыводящих путей проводили с помощью дневника мочеиспускания, ультразвукового исследования мочевого пузыря и КУДИ. Использовали сертифицированную в России уродинамическую систему Pico Smart SNYC0022 (Menfis biomedica, Италия) и весовой урофлоуметр Urocompact 6000 plus (Wiest, Германия). КУДИ включало определение объема остаточной мочи, урофлоуметрию, цистометрию наполнения и исследование «давление/поток» с тазовой электромиографией. Все указанные тесты в рамках исследовательской работы выполняли в соответствии с международными требованиями и рекомендациями подкомитета по кишечным резервуарам комитета по стандартизации терминологии международного общества по удержанию мочи от 1996 г. [38–41].
Проведение исследования одобрено независимым этическим комитетом при Федеральном государственном бюджетном учреждении «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации (выписка № 4.1 от 15.04.2013).
Статистический анализ клинических данных выполняли средствами системы Statistica for Windows (версия 12). Оценка характера распределения количественных параметров выполнена с использованием критерия Шапиро–Уилка. Их сравнение в исследуемых группах осуществляли с использованием критериев Манна–Уитни. Качественные параметры оценивали с помощью непараметрических методов χ2, χ2 с поправкой Йейтса (для малых групп), критерия Фишера. Результаты представлены в виде медианы и верхнего и нижнего квартилей — Ме [Q25; Q75]. Критерием статистической значимости получаемых результатов считали величину р < 0,05.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Пациенты обеих когорт после оперативного лечения отмечали полное исчезновение частых мочеиспусканий, ургентности и связанного с ней недержания мочи, боли и дискомфорта, связанных с позывом к мочеиспусканию. Следствием этого стали: нормализация сна, снижение зависимости или отказ от использования впитывающих гигиенических средств, отсутствие необходимости планировать поездки с учетом расположения общественных туалетов. В целом, при улучшении относительно исходного состояния проведенная оценка демонстрирует различия в достигнутых результатах. Так, согласно шкале QoL, в группе пациентов, перенесших резекцию мочевого пузыря, отмечается худший результат по показателю «Качество жизни вследствие расстройств мочеиспускания», чем после цистэктомии (р = 0,019). Здесь же, согласно опроснику KHQ, зарегистрированы менее приемлемые значения по домену «Общее состояние здоровья» (p = 0,013). По отдельным аспектам качества жизни, таким как степень выраженности ограничений в повседневных занятиях и в общении, деградация личных отношений, ухудшение сна и энергии и в целом степени серьезности своего состояния, когорты были сопоставимы (табл. 1). Лучшие оценки по доменам степени ограничения физической активности и эмоционального состояния выявлены в группе после цистэктомии, однако различия не достигли статистической значимости.
Таблица 1. Показатели качества жизни по опроснику KHQ, Me [Q25; Q75]
Table 1. Quality of life measures according to the King’s Health Questionnaire (KHQ), Me [Q25; Q75]
Показатель | Группы сравнения | Статистическая значимость, p | |
группа 1 | группа 2 | ||
Домен 1. Общее состояние здоровья, балл | 2 [2; 2] | 1 [1; 2] | 0,013 |
Домен 2. Влияние нарушений мочеиспускания на жизнь, балл | 3 [2; 3] | 3 [2; 3] | 0,448 |
Домен 3. Ограничения в повседневных занятиях, балл | 3 [2; 3] | 0,160 | |
Домен 4а. Ограничения в физической активности, балл | 2 [1; 4] | 0,148 | |
Домен 4b. Ограничения в общении, балл | 1 [1; 2] | 0,319 | |
Домен 5. Личные отношения, балл | 1 [1; 2] | 1 [1; 2] | 0,884 |
Домен 6. Эмоциональное состояние, балл | 2 [1; 4] | 0,164 | |
Домен 7. Сон/энергия, балл | 2 [1; 3] | 0,811 | |
Домен 8. Степень тяжести/серьезности, балл | 1 [1; 3] | 2 [1; 3] | 0,527 |
Общий балл IPSS у пациентов двух групп существенно не различался, оставаясь в диапазоне 15,40–17,64, что соответствует умеренной степени нарушений мочеиспускания (р = 0,178). Аналогичная картина полученных данных была свойственна и ирритативному домену IPSS (р = 0,119). Худшее значение обструктивного домена выявлено у пациентов 1-й группы — 12,29 балла по сравнению с 8,50 во 2-й группе, однако это отличие оказалась несущественным (р = 0,077). Схожее, но уже статистически значимое различие обнаружено при оценке частоты затрудненного мочеиспускания на основе 18-го вопроса опросника KHQ (р = 0,045). По остальным вопросам этой анкеты существенные расхождения не выявлены. Таким образом, анкетирование продемонстрировало, что качество жизни и характеристики акта мочеиспускания, достигнутые после ЗИЦП, получили более высокие оценки, чем после АИЦП.
Функциональная емкость кишечного мочевого резервуара (КМР), согласно дневникам мочеиспусканий, была сопоставима и находилась в диапазоне 350–400 мл. Средний объем разового опорожнения в группе 1 был равен 183 ± 104 мл против 241 ± 82 мл в группе 2, однако это различие оказалось статистически незначимым (р = 0,096).
Возможность самостоятельного опорожнения КМР имелась у всех наблюдаемых пациентов после ЗИЦП, тогда как после АИЦП полностью отсутствовала в 5 случаях (26,3 %). Помимо этого, у остальных 14 пациентов этой группы был зарегистрирован значительно больший объем остаточной мочи (р = 0,001). Он превышал 100 мл у 9 пациентов 1-й группы и только у одного — во 2-й группе. Таким образом, среди пациентов после АИЦП выявлена значительно большая распространенность хронической задержки мочи, 73,7 % против 26,3 %, а следовательно и более частая необходимость выполнения интермиттирующей самокатетеризации (р = 0,001).
Урофлоуметрию выполняли всем пациентам, у которых имелась возможность самостоятельного опорожнения (табл. 2). По четырем из шести оцениваемым показателям в группе 1 получены значимо худшие результаты, чем в группе 2. Помимо основного показателя — максимальной скорости опорожнения, менее приемлемые значения констатированы по средней скорости опорожнения, объему выделенной мочи и времени задержки опорожнения. По остальным пунктам различия не выявлены.
Таблица 2. Оценка показателей урофлоуметрии, Me [Q25; Q75]
Table 2. Evaluation of uroflowmetry data, Me [Q25; Q75]
Урофлоуметрический показатель | Группы сравнения | Статистическая значимость, p | |
группа 1 (n = 14) | группа 2 (n = 20) | ||
Максимальная скорость потока мочи, мл/с | 0,002 | ||
Средняя скорость потока мочи, мл/с | 0,002 | ||
Время до достижения максимальной скорости, с | 0,111 | ||
Время мочеиспускания, с | 0,506 | ||
Объем выделенной мочи, мл | 0,007 | ||
Время задержки мочеиспускания, с | 0,048 | ||
Не все пациенты с КМР имели возможность выделить более 120 мл мочи при разовом опорожнении. Данный факт, несмотря на отсутствие общепринятых стандартов выполнения урофлоуметрии после кишечной пластики мочевого резервуара, может ставить под сомнение репрезентативность полученных значений. В связи с этим проведена повторная сравнительная оценка результатов урофлоуметрии только тех пациентов, которые могли достичь при опорожнении мочевого резервуара объема больше 120 мл. Из 1-й группы в повторный анализ вошли только 7 из 14 пациентов, у которых была возможность самостоятельного опорожнения, а из 2-й группы — 15 из 20 (табл. 3).
Таблица 3. Результаты урофлоуметрии при объеме опорожнения более 120 мл, Me [Q25; Q75]
Table 3. The uroflowmetry findings with a volume of emptying more than 120 ml, Me [Q25; Q75]
Урофлоуметрический показатель | Группы сравнения | Статистическая значимость, p | |
группа 1 (n = 7) | группа 2 (n = 15) | ||
Максимальная скорость потока мочи, мл/с | 0,034 | ||
Средняя скорость потока мочи, мл/с | 0,105 | ||
Время до достижения максимальной скорости, с | 0,245 | ||
Время опорожнения, с | 0,916 | ||
Объем выделенной мочи, мл | 176,0 [131; 214] | 277,0 [188; 357] | 0,041 |
Время задержки опорожнения, с | 2,6 [0; 14] | 2,0 [1; 3] | 0,622 |
Анализ данных модифицированных групп продолжает демонстрировать лучшие результаты урофлоуметрии после цистэктомии, чем после супратригональной резекции мочевого пузыря. В первую очередь это касается главного показателя — максимальной скорости потока мочи, значения которого у пациентов 2-й группы находились в пределах нормальных величин и были значимо выше, чем у пациентов 1-й группы. Аналогичный характер различий получен при оценке объема выделенной мочи. По остальным показателям в группе 2 отмечались лучшие результаты, однако из-за ограниченной выборки после исключения из анализа большой части пациентов указанные различия не приобрели статистическую значимость.
Основным методом оценки резервуарной функции как мочевого пузыря, так и КМР является цистометрия наполнения. По всем объемным параметрам энтероцистометрии, таким как емкость резервуара при первом, нормальном и сильном позывах, а также максимальной энтероцистометрической емкости не получено статистически значимых различий. Несмотря на это, все четыре объемных показателя энтероцистометрии наполнения были больше в 1-й группе, а в трех из них различия имели характер тенденции. Сопоставимыми оказались и значения расчетного резервуарного давления при первом, нормальном, сильном позывах и при максимальной энтероцистометрической емкости (табл. 4).
Таблица 4. Показатели энтероцистометрии наполнения, Me [Q25; Q75]
Table 4. The filling enterocystometry measures, Me [Q25; Q75]
Уродинамический показатель | Группы сравнения | Статистическая значимость, p | |
группа 1 | группа 2 | ||
Емкость резервуара при первом позыве, мл | 0,933 | ||
Емкость резервуара при нормальном позыве, мл | 0,070 | ||
Емкость резервуара при сильном позыве, мл | 0,062 | ||
Максимальная энтероцистометрическая емкость, мл | 0,070 | ||
Расчетное резервуарное давление при первом позыве, см вод. ст. | 0,177 | ||
Расчетное резервуарное давление при нормальном позыве, см вод. ст. | 0,211 | ||
Расчетное резервуарное давление при сильном позыве, см вод. ст. | 0,369 | ||
Расчетное резервуарное давление при максимальной энтероцистометрической емкости, cм вод. ст. | 0,474 | ||
Комплаентность, мл/см вод. ст. | 0,369 | ||
Количество пациентов, c непроизвольными сокращениями стенки резервуара | 12,0 (63,16 %) | 13,0 (65,0 %) | >0,05 |
Число волн непроизвольного сокращения стенки резервуара | 0,092 | ||
Максимальное расчетное резервуарное давление при непроизвольном сокращении стенки резервуара, см вод. ст. | 0,624 | ||
Особенности пластического материала, использованного для формирования КМР, определяют необходимость учитывать фактор перистальтической активности, так как он может играть дестабилизирующую роль в воссоздании резервуара низкого давления. Указанная активность КМР зарегистрирована у 63,16 % пациентов 1-й группы и 65,0 % 2-й группы. Помимо этого, не получено статистически значимых различий при оценке числа непроизвольных перистальтических сокращений стенки КМР и максимального расчетного резервуарного давления при них. Значение последнего в большинстве случаев находилось в приемлемом диапазоне. Комплаентность стенки КМР в обеих группах оставалась в пределах допустимых величин и, что не менее важно, была сопоставима.
Всем пациентам с самостоятельным опорожнением КМР выполнена энтероцистометрия опорожнения с тазовой электромиографией (табл. 5). Непроизвольная электромиографическая активность не выявлена ни в одном из случаев.
Таблица 5. Данные энтероцистометрии опорожнения
Table 5. Emptying enterocystometry data
Уродинамический показатель | Группы сравнения | Статистическая значимость, p | |
группа 1 | группа 2 | ||
Расчетное резервуарное давление открытия, см вод. ст. | 25,3 | 0,847 | |
Абдоминальное давление открытия, см вод. ст. | 0,001 | ||
Время открытия на основе расчетного резервуарного давления, с | 0,107 | ||
Время открытия на основе абдоминального давления, с | 0,077 | ||
Расчетное резервуарное давление при максимальной скорости опорожнения, см вод. ст. | 0,600 | ||
Абдоминальное давление при максимальной скорости опорожнения, см вод. ст. | 0,036 | ||
Показатели расчетного резервуарного давления открытия значимо не отличались между группами по сравнению с абдоминальным давлением в данной точке. Оно было гораздо выше у пациентов группы 1, причем различия носили статистически значимый характер. Помимо давления открытия у всех пациентов этой группы зафиксированы большие, находящиеся вне допустимого диапазона, значения времени открытия, тогда как в группе 2 преобладали величины, соответствующие нормальным. Из-за широкой вариации полученных данных очевидные на первый взгляд отличия характеризовались только тенденцией к статистической значимости.
Показатели расчетного резервуарного давления при максимальной скорости опорожнения, как и в случае расчетного резервуарного давления открытия, оказались сопоставимы между группами. Сравнение же величин абдоминального давления при максимальной скорости опорожнения продолжает демонстрировать кратно большее давление в группе 1, различия имели статистически значимый характер.
Индекс обструкции рассчитан по методике Абрамса–Гриффитса, где эквивалентом детрузорного давления при максимальной скорости опорожнения закономерно является расчетное резервуарное давление. Полученные значения индекса обструкции позволили поделить пациентов внутри каждой группы по типу опорожнения кишечного мочевого резервуара на три подгруппы: обструктивный, необструктивный и неопределенный (см. рисунок). Представленные показатели демонстрируют статистически значимые различия между группами. Так, обструктивный тип опорожнения выявлен почти у половины пациентов после АИЦП, тогда как в другой группе только в одном случае (5 %).
Рисунок. Структура распределения типов опорожнения кишечного мочевого резервуара у пациентов групп 1 и 2; р = 0,015
Figure. The distribution structure for the types of the intestinal urinary reservoir emptying in patients of groups 1 and 2; р = 0.015
Учитывая ведущую роль абдоминального давления в опорожнении КМР, произведен повторный расчет индекса обструкции по методике Абрамса–Гриффитса на основе показателя абдоминального давления при максимальной скорости опорожнения. Полученные результаты не противоречат исходным расчетам и так же иллюстрируют статистически значимые различия между группами (p = 0,001). Необструктивный тип опорожнения зарегистрирован у всех пациентов после ЗИЦП, тогда как после АИЦП только в 42,1 % случаев. Последняя группа в остальных наблюдениях была представлена участниками как с обструктивным (36,8 %), так и с неопределенным (21,1 %) типом опорожнения. Ни у одного из пациентов не наблюдалось стрессового недержания мочи. Во всех случаях имело место так называемое недержание переполнения, которое беспокоило чаще всего во время ночного сна. В группе 1 указанный признак регистрировали реже, однако значимость различий не установлена (p > 0,05). Частота развития резервуарно-мочеточникового рефлюкса в обеих группах была сопоставима — 42,1 и 45,0 % (p > 0,05). Несмотря на сохранение мочепузырного треугольника, а вместе с ним и устьев мочеточников пациенты группы 1 не продемонстрировали преимущества в виде меньшей частоты развития резервуарно-мочеточникового рефлюкса.
ОБСУЖДЕНИЕ
Согласно опросника KHQ у пациентов, перенесших резекцию мочевого пузыря с АИЦП, отмечается значимо худшая оценка по домену «Общее состояние здоровья», при этом по показателю «Влияние нарушений мочеиспускания на жизнь» различия между группами отсутствуют. Исходя из этого, может сложиться мнение, что показатель по домену «Общее состояние здоровья» после АИЦП снижено не за счет нарушения функции опорожнения, а возможно, вследствие других сопутствующих патологий. Однако это предположение опровергается результатами по опроснику QoL, который демонстрирует значимо худший результат по домену «Качество жизни вследствие расстройств мочеиспускания» после АИЦП. Приведенное противоречие, на наш взгляд, обусловлено смещением акцента при формулировании вопроса в анкете KHQ с эмоционального статуса на функционально-ролевой аспект качества жизни следующим образом: «Как Вы думаете, в какой степени Ваши проблемы с мочеиспусканием влияют на Вашу жизнь?». Принципиально иная формулировка в опроснике QoL — «Как бы Вы отнеслись к тому, если бы Вам пришлось жить с имеющимися у Вас проблемами с мочеиспусканием до конца жизни?» Благодаря возможности выполнять самокатетеризацию пациенты с нарушенной эвакуаторной функцией могут не ограничивать свою физическую и социальную активность и не избегать посещения общественных мест. Однако перспектива сохранения затрудненного мочеиспускания и осознание необходимости постоянно (до конца жизни) выполнять самокатетеризацию, которая сопряжена с затратами значительного количества ресурсов, энергии, времени и возможными осложнениями, негативно отражается на самоощущении и в конечном итоге на качестве жизни, что и демонстрирует шкала QoL. Существенная роль этого фактора подтверждается и отсутствием различий между группами по функционально-ролевым аспектам качества жизни (табл. 1).
Субъективная оценка функции нижних мочевыводящих путей, проведенная на основе анкеты IPSS и соответствующего раздела опросника KHQ, обнаруживает сопоставимые значения показателей, отражающих резервуарную функцию и большую распространенность обструктивной симптоматики в первой группе. Ярким подтверждением этому является немалая доля пациентов после АИЦП, заявившая об отсутствии возможности самостоятельного опорожнения КМР.
Результатам субъективной оценки вторят данные объективного контроля. Значения показателей дневника мочеиспускания и энтероцистометрии наполнения оказались сопоставимыми, и что более важно, оставались в пределах допустимых значений. Это позволяет констатировать достижение удовлетворительной резервуарной функции в обеих группах. В отличие от резервуарной, анализ параметров эвакуаторной функции демонстрирует существенные различия. Значимо больший объем остаточной мочи и, как следствие, более частая необходимость выполнения интермиттирующей самокатетеризации характеризовали группу после АИЦП. Здесь же отмечались значительно худшие показатели урофлоуметрии. Все перечисленные находки указывают на нарушение эвакуаторной функции, однако не раскрывают его механизм. В связи с этим всем пациентам, имеющим возможность самостоятельного опорожнения КМР, выполнена энтероцистометрия опорожнения с последующим расчетом индекса обструкции по методике Абрамса–Гриффитса. Результаты свидетельствуют о соизмеримом вкладе стенки КМР в процесс опорожнения, однако из-за меньшей максимальной скорости в группе 1 индекс обструкции значимо чаще оказывался в обструктивном диапазоне. Этот факт, а также литературные данные ставят под сомнение валидность применения значений расчетного резервуарного давления при оценке инфравезикальной обструкции [42]. Известно, что пациентов с кишечными мочевыми резервуарами априори в значительной степени переводят на абдоминальный тип опорожнения, что обусловлено слабой и неконтролируемой произвольно сократительной способностью стенки КМР. Таким образом, основным механизмом запуска процесса опорожнения является абдоминальное давление [42–52]. Исходя из этого можно утверждать, что его значимость при интерпретации результатов энтероцистометрии опорожнения эквивалентна детрузорному давлению при сохранном мышечном слое мочевого пузыря и значимости абдоминального давления в случае декомпенсации детрузора. В свою очередь это позволяет проводить прямо пропорциональную связь между величиной абдоминального давления при опорожнении кишечного мочевого резервуара и выраженностью инфравезикальной обструкции. Учитывая это, ряд авторов для расчета индекса обструкции предлагают использовать показатель абдоминального давления [53, 54].
В нашем исследовании согласно значениям абдоминального давления, как открытия, так и при максимальной скорости опорожнения, пациентам группы 1 приходилось прилагать в разы большее усилие не только для инициации процесса опорожнения КМР, но и для его поддержания. Расчет индекса обструкции на основе абдоминального давления продолжает демонстрировать широкую распространенность инфравезикальной обструкции у пациентов группы 1. Все перечисленное позволяет говорить о неудовлетворительной эвакуаторной функции КМР после АИЦП по причине инфравезикальной обструкции. Прямая причинно-следственная связь обструктивного мочеиспускания и хронической задержки мочи с сохраненным мочепузырным треугольником проведена в ряде других работ [11, 32, 33, 55–59]. В отличие от них, в данном исследовании указанная связь не только констатируется, но и подтверждается результатами КУДИ. Дополнительным аргументом, подтверждающим ключевую роль сохраненного мочепузырного треугольника в нарушении эвакуаторной функции и развитии хронической задержки мочи, стали результаты последующего наблюдения и лечения: повторному хирургическому вмешательству подверглись 9 (50 %) участников из 1-й группы. В 8 случаях выполнена трансуретральная резекция шейки мочевого пузыря, и в одном — открытая резекция оставшихся тканей мочевого пузыря с последующим формированием резервуарно-уретрального анастомоза. Гистологическое исследование подтвердило выраженный фиброзный процесс у всех пациентов, а в 7 из 9 наблюдений восстановилось удовлетворительное опорожнение без хронической задержки мочи.
Несмотря на сохранение мочепузырного треугольника, у пациентов 1-й группы не отмечена меньшая частота развития резервуарно-мочеточникового рефлюкса. Ни у одного из пациентов не наблюдалось стрессового недержания мочи, во всех случаях выявлено «недержание переполнения», которое беспокоило чаще всего во время ночного сна. В группе 1 данный признак регистрировали реже, однако различия имели только характер тенденции. Отсутствие у всех участников исследования стрессового недержания мочи подтверждает самодостаточность наружного сфинктера уретры в обеспечении удержания мочи при напряжении и опровергает критическую значимость сохранения мочепузырного треугольника для этого. Наряду с этим механизмы континенции не имеют решающего значения для предотвращения ночного недержания, так как данный патологический процесс возникает вследствие переполнения КМР, как правило, при состоятельности структур, обеспечивающих удержание мочи. Поэтому лучшие показатели по частоте ночного недержания в 1-й группе на фоне схожих данных по стрессовому недержанию мочи мы рассматриваем как следствие зафиксированной у пациентов этой группы гиперконтиненции, что, на наш взгляд, не подлежит положительной оценке.
Таким образом, выдвинутая ранее гипотеза, что исходная емкость мочевого пузыря более 15–20 мл определяет сохранность структур шейки мочевого пузыря, а следовательно, и ее функциональную состоятельность, не получила подтверждения в нашем исследовании. Данное предположение, соответствуя по уровню доказательности экспертному мнению, игнорирует факторы неминуемой дезинтеграции структур функционально единого нейромышечного аппарата мочевого пузыря при его резекции и последующего рубцевания. Кроме этого, предполагаемая этапность распространения фиброзного процесса в стенке мочевого пузыря подвергается сомнению и с позиции течения туберкулезного процесса в мочевыводящих путях: основными воротами инфекции становятся мочеточники, и наиболее ранние проявления специфического процесса встречаются вокруг их устьев, следовательно, в зоне мочепузырного треугольника или близкой к нему [9, 19, 31]. По мнению ряда авторов, длительный воспалительный процесс стенки мочевого пузыря туберкулезной этиологии вызывает ее фиброзирование и ригидность, что в отдаленном периоде может приводить к развитию стриктур анастомоза, склерозу ее шейки, гиперконтиненции [11, 25, 27]. Кроме этого, несмотря на проводимую противотуберкулезную химиотерапию, сохраняется риск рецидива туберкулезной инфекции в оставшейся стенке мочевого пузыря [60].
ВЫВОДЫ
Выполнение супратригональной резекции мочевого пузыря с аугментационной илеоцистопластикой в отличие от цистэктомии с заместительной илеоцистопластикой при микроцистисе туберкулезной этиологии сопряжено с худшим качеством жизни и неудовлетворительной эвакуаторной функцией кишечного мочевого резервуара. Каких-либо преимуществ выполнения супратригональной резекции перед цистэтомией с позиции качества жизни и функциональных результатов данное исследование не выявило. Полученные результаты позволяют рассматривать цистэктомию с заместительной илеоцистопластикой как операцию выбора при микроцистисе туберкулезной этиологии.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Вклад авторов. Все авторы внесли существенный вклад в разработку концепции, проведение исследования и подготовку статьи, прочли и одобрили финальную версию перед публикацией. Личный вклад каждого автора: К.Х. Чибиров — разработка концепции и дизайна исследования, обзор литературы, сбор и обработка материала, анализ полученных данных, написание текста рукописи; В.В. Протощак, П.А. Бабакин, Н.П. Кушниренко — разработка концепции и дизайна исследования, анализ полученных данных, редактирование текста рукописи; А.А. Горелова, М.В. Паронников — обработка материала, анализ полученных данных, написание текста рукописи.
Источник финансирования. Авторы заявляют об отсутствии внешнего финансирования при проведении исследования.
Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией данной статьи.
Этический комитет. Протокол исследования был одобрен Независимым этическим комитетом при ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии» Минздрава России (протокол № 4.1 от 15.04.2013).
Информированное согласие на публикацию. Авторы получили письменное согласие пациентов на публикацию медицинских данных.
ADDITIONAL INFO
Authors’ contribution. All authors made a substantial contribution to the conception of the study, acquisition, analysis, interpretation of data for the work, drafting and revising the article, final approval of the version to be published and agree to be accountable for all aspects of the study. Personal contribution of each author: K.Kh. Chibirov — concept and design development; literature review, collecting and preparation of samples, data analysis, writing the main part of the text; V.V. Protoshchak, P.A. Babkin, N.P.Kushnirenko — concept and design development; data analysis, editing the text of the manuscript; A.A. Gorelova, M.V. Paronnikov — preparation of samples, data analysis, writing the main part of the text.
Funding source. This study was not supported by any external sources of funding.
Competing interests. The authors declare that they have no competing interests.
Ethics approval. The protocol of the study was approved by the Independent Ethics Committee of the Saint-Petersburg State Research Institute of Phthisiopulmonology (Protocol No. 4.1 dated 2013 April 15).
Consent for publication. Written consent was obtained from the patient for publication of relevant medical information within the manuscript.
Об авторах
Константин Хазбулатович Чибиров
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии
Автор, ответственный за переписку.
Email: 4chibirov@mail.ru
ORCID iD: 0009-0002-1724-6106
SPIN-код: 3552-7394
Россия, Санкт-Петербург
Владимир Владимирович Протощак
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова
Email: protoshakurology@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-4996-2927
SPIN-код: 6289-4250
д-р мед. наук, профессор
Россия, Санкт-ПетербургПавел Александрович Бабкин
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова
Email: pavelbabkin@yandex.ru
SPIN-код: 6551-4494
д-р мед. наук
Россия, Санкт-ПетербургНиколай Петрович Кушниренко
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова
Email: nikolaj.kushnirenko@yandex.ru
SPIN-код: 3892-8959
д-р мед. наук
Россия, Санкт-ПетербургАнна Андреевна Горелова
Санкт-Петербургский государственный университет
Email: gorelovauro@gmail.com
ORCID iD: 0000-0002-7010-7562
SPIN-код: 8568-9004
канд. мед. наук
Россия, Санкт-ПетербургМихаил Валерьевич Паронников
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова
Email: paronnikov@mail.ru
ORCID iD: 0009-0005-1762-6100
SPIN-код: 6147-7357
д-р мед. наук
Россия, Санкт-ПетербургСписок литературы
- iris.who.int [Электронный ресурс]. WHO. Global tuberculosis report 2023. Режим доступа: https://iris.who.int/handle/10665/373828
- nmrc.ru [Электронный ресурс]. ФГБУ «НМИЦФПИ» Минздрава России. Эпидемическая ситуация по туберкулезу в 2022 году. Режим доступа: https://nmrc.ru/for_specialists/main-directions/tuberculosis/?ysclid=lqz3st57tw931284544
- Lawn S.D., Zumla A.I. Tuberculosis // Lancet. 2011. Vol. 378, N 9785. P. 57–72. doi: 10.1016/S0140-6736(10)62173-3
- Kulchavenya E. Extrapulmonary tuberculosis: are statistical reports accurate? // Ther Adv Infect Dis. 2014. Vol. 2, N 2. P. 61–70. doi: 10.1177/2049936114528173
- Furin J., Cox H., Pai M. Tuberculosis // Lancet. 2019. Vol. 393, N 10181. P. 1642–1656. doi: 10.1016/S0140-6736(19)30308-3
- Figueiredo А.А., Lucon A.M., Junior R.F., Srougi M. Epidemiology of urogenital tuberculosis worldwide // Int J Urol. 2008. Vol. 15, N 9. P. 827–832. doi: 10.1111/j.1442-2042.2008.02099.x
- Figueiredo А.А., Lucon A.M., Srougi M. Urogenital tuberculosis // Microbiol Spectrum. 2017. Vol. 5, N 1. P. 1–16. doi: 10.1128/microbiolspec.TNMI7-0015-2016
- Muneer A., Macrae B., Krishnamoorthy S., Zumla A. Urogenital tuberculosis — epidemiology, pathogenesis and clinical features // Nat Rev Urol. 2019. Vol. 16, N 10. P. 573–598. doi: 10.1038/s41585-019-0228-9
- Singh J.P., Priyadarshi V., Kundu A.K., et al. Genito-urinary tuberculosis revisited — 13 years’ experience of a single centre // Indian J Tuberc. 2013. Vol. 60, N 1. P. 15–22.
- Sourial M.W., Brimo F., Horn R., Andonian S. Genitourinary tuberculosis in North America: A rare clinical entity // Can UrolAssoc J. 2015. Vol. 9, N 7–8. P. e484–489. doi: 10.5489/cuaj.2643
- Mochalova T.P., Starikov I.Y. Reconstructive surgery for treatment of urogenital tuberculosis: 30 years of observation // World J Surg. 1997. Vol. 21, N 5. P. 511–515. doi: 10.1007/pl00012278
- Зубань О.Н., Комяков Б.К., Биспен А.В., и др. Оперативное лечение больных с микроцистисом туберкулезной и иной этиологии // Проблемы туберкулеза и болезней легких. 2006. Т. 83, № 11. С. 50–54.
- Холтобин Д.П., Кульчавеня Е.В., Хомяков В.Т. Туберкулез мочевого пузыря 4-й стадии: Как восстановить мочеиспускание? // Урология. 2014. № 5. С. 26–29. EDN: TFDOHB
- Gupta N.P., Kumar R., Mundada O.P., et al. Reconstructive surgery for the management of genitourinary tuberculosis: a single centre experience // J Urol. 2006. Vol. 175, N 6. P. 2150–2154. doi: 10.1016/S0022-5347(06)00310-7
- Mishra K.G., Ahmad A., Singh G., et al. current status of genitourinary tuberculosis: presentation, diagnostic approach and management-single centre experience at IGIMS (Ptana, Bihar, India) // Indian J Surg. 2020.Vol. 82, N 5. P. 817–823. doi: 10.1007/s12262-020-02115-z
- Jayarajah U., Gunawardene M., Willaraarachchi M., et al. Clinical characteristics and outcome of genitourinary tuberculosis in Sri Lanka: an observational study // BMC Infect Dis. 2021. Vol. 21. ID 1279. doi: 10.1186/s12879-021-06990-z
- Cek M., Lenk S., Naber K.G., et al. EUA guidelines for the management of genitourinary tuberculosis // Eur Urol. 2005. Vol. 48, N 3. P. 353–362. doi: 10.1016/j.eururo.2005.03.008
- Gow J.C., Barbosa S. Genitourinary tuberculosis: a study of 1,117 cases over a period of 34 years // Br J Urol. 1984. Vol. 56, N 5. P. 449–455.
- Shah H.N., Badlani G.H. Genitourinary tuberculosis; an update // Curr Bladder Dysfunct Rep. 2013. Vol. 8, N 3. P. 186–196. doi: 10.1007/s11884-013-0197-4
- Welowski S. Late results of cystoplasty in chronic tubercular cystitis // Br J Urol. 1970. Vol. 42, N 6. P. 697–703. doi: 10.1111/j.1464-410X.1970.tb06794.x
- Kerr W.K., Gale G.L., Peterson K.S.S. Reconstructive surgery for genitourinary tuberculosis // J Urol. 1969.Vol. 101, N 3. P. 254–266. doi: 10.1016/S0022-5347(17)62324-3
- de Figueiredo A.A., Lucon A.M., Srougi M. Bladder augmentation for the treatment of chronic tuberculous cystitis. Clinical and urodynamic evaluation of 25 patients after long term follow-up // Neurourol Urodyn. 2006. Vol. 25, N 5. P. 433–440. doi: 10.1002/nau.20264
- Carl P., Stark L. Indications for surgical management of genitourinary tuberculosis // World J Surg. 1997. Vol. 21, N 5. P. 505–510. doi: 10.1007/pl00012277
- Aswathaman K., Devasia A. Thimble bladder // ANZ J Surg. 2008. Vol. 78, N 11. ID 1049. doi: 10.1111/j.1445-2197.2008.04742.x
- Hemal A.K., Aron M. Orthotopic neobladder in management of tubercular thimble bladders: initial experience and long term results // Urology. 1999. Vol. 53, N 2. P. 298–301. doi: 10.1016/s0090-4295(98)00504-4
- Singh V., Sinha R.J., Sankhwar S.N., Sinha S.M. Reconstructive surgery for tuberculous contracted bladder: experience of a center in northern India // Int Urol Nephrol. 2011. Vol. 43, N 2. P. 423–430. doi: 10.1007/s11255-010-9815-7
- Nurse D.E., Mundy A.R., Webster G., et al. Ileal augmentation cystoplasty. В кн.: Reconstructive urology. Vol. 1 / D.E. Nurse, A.R. Mundy, G. Webster, et al. editors. Boston: Blackwell Scientific, 1993. P. 421–431.
- Bansal P., Bansal N. The surgical management of urogenital tuberculosis our experience and long-term follow-up // Urol Ann. 2015. Vol. 7, N 1. P. 49–52. doi: 10.4103/0974-7796.148606
- Муслим М.М. Ортотопическая цистопластика у больных с неопухолевыми заболеваниями мочевого пузыря: автореф. дис. … канд. мед. наук. Санкт-Петербург, 2010. 19 с. Режим доступа: https://search.rsl.ru/ru/record/01004600855
- Чотчаев Р.М. Функциональная оценка результатов илеоцистопластики микроцистиса в зависимости от длины аутотрансплантата: дис. … канд. мед. наук. Санкт-Петербург, 2011. 120 с. Режим доступа: https://www.dissercat.com/content/rezultaty-ileoplastiki-mikrotsistisa-v-zavisimosti-ot-dliny-kishechnogo-transplantata
- Gönülalani U., Kofan M., Öztürk B., et al. The effects of etiological factors on the results of augmentation enterocystoplasty: spinal cord injuries versus chronic tuberculosis cystitis // Turk J Urol. 2012. Vol. 38, N 3. P. 154–158. doi: 10.5152/tud.2012.033
- Abel B.J., Gow J.G. Results of caecocystoplasty for tuberculous bladder contracture // Br J Urol. 1978. Vol. 50, N 7. P. 511–516. doi: 10.1111/j.1464-410x.1978.tb06202.x
- Семенов С.А. Клинико-морфологические критерии прогноза исходов реконструктивных операций при туберкулезе мочевого пузыря: дис. … канд. мед. наук. Санкт-Петербург, 2016. 142 c. Режим доступа: https://www.dissercat.com/content/prognozirovanie-otdalennykh-rezultatov-uvelichitelnoi-ileotsistoplastiki-malogo-mochevogo
- Протощак В.В., Паронников М.В., Бабкин П.А., Кисилев Ф.О. Качество жизни урологических больных // Урология. 2018. № 5. С. 160–168. EDN: VQRWNU doi: 10.18565/urology.2018.5.160-168
- Пушкарь Д.Ю., Гвоздев М.Ю., Тупикина Н.В. Вопросники как инструмент оценки качества жизни пациентки урогинекологического профиля // Российский вестник акушера-гинеколога. 2013. Т. 13, № 1. С. 23–29. EDN: PXVRFN
- Okamura K., Nojiri Y., Osuga Y., Tange C. Psychometric analysis of international prostate symptom score for female lower urinary tract symptoms // Urology. 2009. Vol. 73, N 6. P. 1199–1202. doi: 10.1016/j.urology.2009.01.054
- Савченко Н.Е., Скобеюс И.А., Олифиренко С.А., и др. Утверждение IPSS в странах СНГ с учетом культурных и языковых особенностей // Урология и нефрология. 1997. № 5. С. 26–27.
- Schafer W., Abrams P., Liao L., et al. International Continence Society. Good urodynamic practices: Uroflowmetry, filling cystometry, and pressure-flow studies // Neurourol Urodyn. 2002. Vol. 21, N 3. P. 261–274. doi: 10.1002/nau.10066
- Gammie A., Clarkson B., Constantinou C., et al. International Continence Society guidelines on urodynamic equipment performance // Neurourol Urodyn. 2014. Vol. 33, N 4. P. 370–379. doi: 10.1002/nau.22546
- Rosier P.F.W.M., Schaefer W., Lose G., et al. International continence society good urodynamic practices and terms 2016: Urodynamics, uroflowmetry, cystometry, and pressure-flow study // Neurourol Urodyn. 2017. Vol. 36, N 5. P. 1243–1260. doi: 10.1002/nau.23124
- Thuroff J.W., Mattiasson A., Andersen J.T., et al. The standardization of terminology and assessment of functional characteristics of intestinal urinary reservoirs // Br J Urol. 1996. Vol. 78, N 4. P. 516–523. doi: 10.1046/j.1464-410x.1996.01394.x
- Sekido N. Bladder contractility and urethral resistance relation: What does a pressure flow study tell us? // Int J Urol. 2012. Vol. 19, N 3. P. 216–228. doi: 10.1111/j.1442-2042.2011.02947.x
- Studer U.E., Danuser H., Thalmann G.N., et al. Antireflux nipples or afferent tubular segments in 70 patients with ileal low pressure bladder substitutes: long-term results of a prospective randomized trial // J Urol. 1996. Vol. 156, N 6. P. 1913–1917. doi: 10.1016/S0022-5347(01)65390-4
- Keszthelyi A., Majoros A., Nyirády P., et al. Voiding symptoms and urodynamic findings in patients with modified ileal neobladder // Pathol Oncol Res. 2009. Vol. 15, N 3. P. 307–313. doi: 10.1007/s12253-008-9099-8
- Wang D., Li L.-J., Liu J., Qiu M.-X. Long-term urodynamic evaluation of laparoscopic radical cystectomy with orthotopic ileal neobladder for bladder cancer // Oncol Lett. 2014. Vol. 8, N 3. P. 1031–1034. doi: 10.3892/ol.2014.2281
- Palleschi G., Cardi A., Falsaperla M. Urodynamic assessment of orthotopic urinary diversions // Front Urol. 2022. Vol. 2. ID 885826. doi: 10.3389/fruro.2022.885826
- Weinberg S.R., Tanenbaum B., Bertoni C. Hypotonic bladder // Urology. 1974. Vol. 3, N 1. P. 43–47. doi: 10.1016/s0090-4295(74)80058-0
- Yang J.M., Huang W.-C. Implications of abdominal straining in women with lower urinary tract symptoms // Urology. 2002. Vol. 60, N 3. P. 428–433. doi: 10.1016/s0090-4295(02)01768-5
- Mijailovich S.M., Sullivan M.O., Yalla S.V., Venegas J.G. Theoretical analysis of the effects of viscous losses and abdominal straining on urinary outlet function // Neurourol Urodyn. 2004. Vol. 23, N 1. P. 76–85. doi: 10.1002/nau.10146
- Jiang Y.-H., Kuo H.-C. Video-urodynamic characteristics of non-neurogenic, idiopathic underactive bladder in men — A comparison of men with normal tracing and bladder outlet obstruction // PLoS ONE. 2017. Vol. 12, N 4. ID e0174593. doi: 10.1371/journal.pone.0174593
- Li X., Liao L.-M., Chen G.-Q., et al. Clinical and urodynamic characteristics of underactive bladder. Data analysis of 1726 cases from a single center // Medicine. 2018. Vol. 97, N 3. ID e9610. doi: 10.1097/MD.0000000000009610
- Chow P.-M., Hsiao S.-M., Kuo H.-C. Identifying occult bladder outlet obstruction in women with detrusor-underactivity-like urodynamic profiles // Nature. 2021. Vol. 11. ID 23242. doi: 10.1038/s41598-021-02617-0
- Han J.H., Yu H.S., Lee J.Y., et al. Simple modification of the bladder outlet obstruction index for better prediction of endoscopically-proven prostatic obstruction: A preliminary study // PLoS ONE. 2015. Vol. 10, N 10. ID e0141745. doi: 10.1371/journal.pone.0141745
- Liu H., Tian Y., Luo G., et al. Modified bladder outlet obstruction index for powerful efficacy prediction of transurethral resection of prostate with benign prostatic hyperplasia // BMC Urology. 2021. Vol. 21, N 1. ID 170. doi: 10.1186/s12894-021-00937-x
- Gow J.G. Genitourinary tuberculosis: a 7-year review // Br J Urol. 1979. Vol. 51, N 4. P. 239–244. doi: 10.1111/j.1464-410x.1979.tb04700.x
- Mclnerney P.D., DeSouza N., Thomas P.J., Mundy A.R. The role of urodynamic studies in the evaluation of patients with augmentation cystoplasties // Br J Urol. 1995. Vol. 76, N 4. P. 475–478. doi: 10.1111/j.1464-410x.1995.tb07749.x
- Thomas P.J., DeSouza N.M., Mundy A.R. The effects of detubularization and outflow competence in substitution cystoplasty // Br J Urol. 1996. Vol. 78, N 5. P. 681–685. doi: 10.1046/j.1464-410x.1996.02033.x
- Turner-Warwick R.T., Ashken M.H. The functional results of partial, subtotal and total cystoplasty with special reference to ureterocaecocystoplasty, selective sphincterotomy and cystocystoplasty// Br J Urol. 1967. Vol. 39, N 1. P. 3–12. doi: 10.1111/j.1464-410x.1967.tb11774.x
- Studer U.E., Stenzl A., Mansson W., Mills R. Bladder replacement and urinary diversion // Eur J Urol. 2000. Vol. 38, N 6. P. 790–800. doi: 10.1159/000020385
- Gerhartz E.W., Roosen A., Manson W. Complications and quality of life following urinary diversion after cystectomy // Eur Urol. 2005. Vol. 3, N 3. P. 156–167. doi: 10.1016/j.euus.2005.07.002
Дополнительные файлы