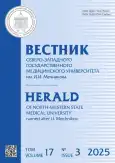Прогностическая роль цитокинов в оценке течения острого панкреатита: систематический обзор и метаанализ
- Авторы: Орбелян Л.К.1, Дурлештер В.М.1,2
-
Учреждения:
- Кубанский государственный медицинский университет
- Краевая клиническая больница № 2, Краснодар
- Выпуск: Том 17, № 3 (2025)
- Страницы: 16-30
- Раздел: Метаанализы
- Статья получена: 27.07.2025
- Статья одобрена: 16.09.2025
- Статья опубликована: 29.09.2025
- URL: https://journals.eco-vector.com/vszgmu/article/view/688368
- DOI: https://doi.org/10.17816/mechnikov688368
- EDN: https://elibrary.ru/KWQAVV
- ID: 688368
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Острый панкреатит — воспалительное заболевание поджелудочной железы с потенциально тяжелыми осложнениями. Несмотря на существующие в клинической практике шкалы прогноза тяжести, сохраняется необходимость в более точных и оперативных методах раннего прогнозирования течения заболевания.
Представлена систематическая оценка значимости уровней интерлейкинов в сыворотке крови пациентов с острым панкреатитом для прогнозирования тяжести заболевания.
Исследование выполнено по стандарту PRISMA. Проведен систематический поиск публикаций 2013–2024 гг. в базах PubMed и Google Scholar. Извлечены и проанализированы данные о диагностической точности интерлейкинов по площади под ROC-кривой, чувствительности и специфичности. Определено качество анализа методом оценки качества исследований диагностической точности (QUADAS-2), а также вычислены метарегрессия и чувствительность.
В метаанализ включены 11 исследований интерейкина-6 (n=1377) и 5 исследований интерейкина-8 (n=535). Объединенная площадь под ROC-кривой (AUC) для интерлейкина-6 составила 0,84 по модели случайных эффектов при высокой гетерогенности (92%), для интерлейкина-8 — 0,843 при гетерогенности 80,76%. Площадь под иерархической обобщенной ROC-кривой составила 0,697 для интерлейкина-6 (чувствительность — 80,9%, специфичность — 54,5%) и 0,595 для интерлейкина-8 (чувствительность — 87,7%, специфичность — 39,6%), что указывает на умеренную обобщенную точность обоих маркеров. Подгрупповой анализ для интерлейкина-6 с порогами ≥100 пг/мл продемонстрировал AUC 0,852 и площадь под иерархической обобщенной ROC-кривой 0,621. Для интерлейкина-8 при точке отсечения <39,55 пг/мл, AUC составила 0,726 (при гетерогенности 80%), а при точке отсечения ≥39,55 пг/мл —0.949 (при гетерогенности 69,5%). Полученные результаты показывают, что при более высоких порогах уровня интерлейкина-8 (≥39,55 пг/мл) результаты не только более точны (AUC=0,95), но и более однородны, чем при более низких порогах (гетерогенность снижена).
Динамика уровня интерлейкина-22 показала наивысшую прогностическую точность среди вторичных цитокинов (AUC=0,857, чувствительность — 83%, специфичность — 85%). Несмотря на признаки публикационного смещения, результаты были устойчивыми при анализе чувствительности.
Интерлейкин-6 — наиболее информативный биомаркер для раннего прогнозирования тяжелого острого панкреатита. Интерлейкин-8 дополняет оценку тяжести, отражая нейтрофильную активацию, тогда как нтерлейкин-10 и -22 указывают на баланс воспалительного ответа и обладают потенциалом в качестве мишеней для терапии. Использование цитокинового профиля совместно с клиническими шкалами может повысить точность стратификации риска и улучшить исходы.
Ключевые слова
Полный текст
ВВЕДЕНИЕ
Острый панкреатит (ОП) представляет собой воспалительное поражение поджелудочной железы с внезапным началом и интенсивной абдоминальной болью [1]. Это самая частая причина госпитализаций, связанная с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Летальность достигает 25% при развитии тяжелых местных или системных осложнений [2].
Несмотря на большое внимание к ОП, основным вопросом до сих пор остается развитие его тяжелых форм и осложнений (у 20–30% больных) [3]. В случае отсутствия своевременного и адекватного лечения при легком течении ОП, заболевание может прогрессировать до тяжелых форм, что увеличивает риски летального исхода [4]. Частое развитие осложненных форм ОП значительно повышает нагрузку на системы здравоохранения по всему миру за счет увеличения длительности пребывания пациентов в стационаре, в частности в отделениях реанимации [5]. Ряд исследований показал, что первые 48 ч после появления симптомов очень важны для выявления пациентов с риском развития осложненного течения [6]. Таким образом, становится очевидным, что максимально раннее и точное прогнозирование тяжести ОП необходимо для принятия клинических решений, направленных на профилактику осложнений и развития тяжелых форм [7].
Мировая статистика показала, что до 80% случаев развития ОП связаны с алкогольно-алиментарным фактором и желчнокаменной болезнью [8]. Наименее распространенными причинами являются: прием лекарственных препаратов, травматическое повреждение поджелудочной железы, аутоиммунные заболевания и другие, редко встречающиеся факторы [9].
Однако, независимо от этиологии ОП, во время заболевания происходит высвобождение ряда про- и противовоспалительных медиаторов с развитием местной воспалительной реакции. Интерстициальное повреждение стимулирует секрецию цитокинов, что приводит к системной воспалительной реакции и в конечном итоге к органной недостаточности [10, 11].
Несмотря на множество работ, посвященных проблеме ОП, по-прежнему неясно, какой именно предиктор или способ оценки наиболее оптимален для раннего прогнозирования тяжести ОП и развития осложнений [12]. В связи с этим важно определить клинически значимый прогностический биомаркер ОП, высвобождаемый с повышением уровня уже на самой начальной стадии заболевания. Анализ современной литературы убедительно показал наличие интереса к новым прогностическим моделям для определения риска развития тяжелого ОП, основанным на изменениях уровня воспалительных биомаркеров.
В патогенезе ОП центральную роль играет каскад про- и противовоспалительных реакций, опосредованных цитокинами, в частности интерлейкинами (ИЛ) — важными медиаторами системной воспалительной реакции [12]. Наиболее активно изучают ИЛ-6: его концентрация в сыворотке крови коррелирует со степенью повреждения паренхимы поджелудочной железы и позволяет прогнозировать тяжесть течения заболевания с высокими чувствительностью и специфичностью [13]. Другие цитокины, такие как ИЛ-8 (отражающие раннюю нейтрофильную инфильтрацию) и ИЛ-10 (противовоспалительный регулятор), также демонстрируют прогностический потенциал при оценке риска органной недостаточности и летального исхода [14].
Несмотря на существование отдельных метаанализов, результаты исследований прогностической роли ИЛ отличаются значительной гетерогенностью в связи с вариабельностью методик измерения, временных точек забора проб и используемых клинических критериев тяжести. Объединение данных по различным ИЛ в едином систематическом обзоре и метаанализе позволит уточнить их истинную прогностическую ценность, выработать единые рекомендации для клинической практики и оптимизировать алгоритмы ранней стратификации пациентов с ОП [15, 16].
ОТБОР ИССЛЕДОВАНИЙ И МЕТОДЫ АНАЛИЗА ДАННЫХ
В работе соблюдены стандарты Prefered Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) для систематических обзоров и метаанализов [17].
Два независимых исследователя произвели систематический поиск научных источников, опубликованных в период с 2013 по 2024 г. включительно, в базах данных PubMed, Google Scholar по следующим запросам: («acute pancreatitis») AND («prognosis» OR «severity prognosis» OR «prognostic scales») AND «interleukins» AND («AUC» OR «AUC» OR «ROC»). Кроме того, использовали списки литературы найденных публикаций, а также рекомендации из раздела Similar articles. При поиске статьи не подвергали языковым ограничениям.
После исключения дубликатов оставшиеся исследования проверены на соответствие критериям включения: возраст пациентов старше 18 лет; забор биоматериала произведен в период до 48 ч после появления первых симптомов; прогноз тяжести ОП сформулирован на основе уровней цитокинов. Окончательное решение о включении публикации в исследование принимали после анализа полнотекстовых статей. Исследования исключали, если: в них использовали иные маркеры для прогнозирования тяжести ОП; они не содержали информацию о прогностической ценности в отношении оцениваемых исходов; в них не спрогнозирована тяжесть течения заболевания по классификации Атланта (2012); тип публикации соответствовал клиническому случаю и систематическому обзору.
Два исследователя по отдельности проводили скрининг, анализ и оценку качества литературы, а любые разногласия решали путем консультаций с участием научного руководителя до достижения консенсуса.
Полученная информация внесена в предварительно разработанную форму в MicroSoft Excel (MicroSoft, США), включающую: общую информацию о публикации (первый автор, год публикации, название журнала, дизайн исследования), размер выборки, средний возраст и пол пациентов, информацию об оцениваемом параметре и точку отсечения, время забора крови, площадь под ROC-кривой (AUC), исход (тяжесть течения, органная недостаточность, летальный исход, некроз поджелудочной железы, системные осложнения). После независимого анализа данных авторы сопоставили полученные формы, чтобы выявить разногласия и прийти к общему решению.
Независимо друг от друга два исследователя определили риск систематической ошибки включенных исследований, используя метод оценки качества исследований диагностической точности (QUADAS-2) [18].
Публикационное смещение и эффект малых исследований оценивали с помощью теста Эггера и анализа воронкообразных диаграмм [19]. Степень достоверности доказательств была выявлена методом GRADE. Построены иерархические обобщенные ROC-кривые (HSROC-кривые) и вычислена AUC. Гетерогенность оценивали с помощью χ²-теста (Q) и статистики I2. Чтобы определить устойчивость полученных результатов анализировали чувствительность с поэтапным исключением отдельных исследований. Рассчитаны значения объединенной AUC и гетерогенности (I2) с поочередным удалением каждого исследования (проведен leave-one-out анализ). Для выявления возможных источников вариабельности дополнительно выполняли метарегрессию.
Весь HSROC-анализ выполнен в Python 3.9 (Jupyter Notebook, США) с использованием библиотек pandas и numpy (для обработки данных), scipy (для логит-преобразований и расчета доверительных интервалов), statsmodels (для построения бивариантной модели случайных эффектов, то есть иерархической SROC-модели по Rutter & Gatsonis), scikit-learn (metrics, для вычисления AUC и оптимальной точки по индексу Юдена). Библиотека matplotlib применена для визуализации HSROC-кривой, а также отображения индивидуальных точек исследований и маркировки порога: сначала для каждого исследования рассчитывали чувствительность и специфичность, затем логиты Se и Sp использовали в иерархической модели, по ее параметрам строили сглаженную кривую и по ее AUC оценивали обобщенную точность теста, а оптимальный порог определяли как максимум (Se — FPR1).
ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЙ
Характеристика исследований, включенных в систематический обзор
В ходе первоначального поиска публикаций найдено 137 исследований, удовлетворяющих запросу. Дополнительный поиск позволил идентифицировать еще 34 статьи. После изучения аннотаций публикаций исключена 141 работа. Далее были изучены полные тексты и дополнительные материалы оставшихся статей.
По итогам отбора получено 14 статей, удовлетворяющих критериям соответствия. Потоковая диаграмма, иллюстрирующая процесс отбора научных статей, представлена на рис. 1.
Рис. 1. PRISMA-диаграмма отбора исследований.
Fig. 1. PRISMA flow diagram of study selection.
Из включенных исследований в 11 — оценивали роль ИЛ-6 в прогнозе тяжести ОП [20–30], в 5 — ИЛ-8 [22, 24 31–33], в 2 — ИЛ-10 [22, 27], в 1 — ИЛ-22 [23], в 1 — фактора некроза опухоли альфа [24]. Основные характеристики работ собраны в табл. 1.
Таблица 1. Общая характеристика исследований, включенных в систематический обзор
Table 1. General characteristics of studies included in the systematic review
Прогностический фактор | Авторы, год и дизайн исследования | Размер выборки | Исход | Время забора крови от первых симптомов, ч | Площадь под ROC-кривой (95% ДИ) | Ч/С, % | Точка отсечения, пг/мл |
ИЛ-6 | W. Kolber и соавт. (2018) [20], проспективное | n=95 (8 ТОП, 58 УТОП, 29 ЛОП) | Тяжесть течения | 24–48 | 0,753 (0,590–0,917) | 57,0/82,0 | 211 |
Органная недостаточность | 0,767 (0,578–0,956) | 62,0/88,0 | 262 | ||||
Летальный исход | 0,781 (0,610–0,953) | 57,0/83,0 | 229 | ||||
A.K. Khanna и соавт. (2013) [21], проспективное | n=72 (31 ТОП) | Тяжесть течения | 24–48 | 0,90 (0,81–0,99) | 93,1/96,8 | ≥50 | |
Некроз поджелудочной железы | 0,86 (0,77–0,94) | 94,1/72,1 | |||||
Летальный исход | 0,80 (0,69–0,91) | 100,0/62,7 | |||||
D.W. Ćeranić и соавт. (2020) [22], проспективное | n=96 (16 ТОП/УТОП, 80 ЛОП) | Тяжесть течения | 24 | 0,782 (0,644–0,920) | 80,0/70,1 | 70,05 | |
Тяжесть течения | Через 48 | 0,835 (0,719–0,950) | 86,7/75,0 | 35,1 | |||
L. Orbelian и соавт. (2024) [23], проспективное | n=149 (23 ТОП, 41 УТОП, 85 ЛОП) | Тяжесть течения | 24 | 0,873±0,04 | 83,0/82,0 | >279 | |
Тяжесть течения | 48 | 0,795±0,05 | 91,0/62,0 | >341 | |||
M. Bhowmick и соавт. (2024) [24], проспективное | n=50 (10 ТОП, 16 УТОП, 24 ЛОП) | Тяжесть течения | 24 | 0,99 (0,911–1,000) | 96,2/95,8 | >46,38 | |
H. Sternby и соавт. (2017) [25], проспективное | n=175 (10 ТОП) | Тяжесть течения | 36 | 0,749 (0,674–0,825) | 89,0/54,0 | >23,6 | |
F. Xu и соавт. (2024) [26], ретроспективное | n=223 (60 ТОП, 77 УТОП, 86 ЛОП) | Тяжесть течения | 24 | 0,947 (0,918–0,977) | 76,7/95,7 | 14,0 | |
F. Tian и соавт. (2022) [27], проспективное | n=312 (92 ТОП, 220 не ТОП) | Тяжесть течения | 24 | 0,904 (0,872–0,936) | 94,6/78,6 | 6,875 | |
S.A. Rao и соавт. (2017) [28], проспективное | n=40 (35 ТОП, 5 не ТОП) | Тяжесть течения | 24 | 0,714±0,1 | 62,9/80,0 | ≥28,90 | |
J. Li и соавт. (2022) [29], ретроспективное | n=67 (35 ТОП, 22 УТОП, 10 ЛОП) | Тяжесть течения | 48 | 0,69 (0,56–0,82) | 67,7/67,7 | ≥121,1 | |
X. Lin и соавт. (2025) [30], проспективное | n=98 (30 ТОП) | Тяжесть течения | 24 | 0,749 (0,620–0,879) | 81,0/71,0 | ≥70 | |
ИЛ-8 | DW. Ćeranić и соавт. (2020) [22], проспективное | n=96 (16 ТОП/УТОП, 80 ЛОП) | Тяжесть течения | 24 | 0,672 (0,522–0,822) | 80,0/61,0 | 21,7 |
Тяжесть течения | Через 48 | 0,696 (0,558–0,834) | 73,3/69,7 | 16,5 | |||
A.K. Penttilä и соавт. (2017) [31], проспективное когортное | n=176 (23 ТОП, 32 УТОП, 121 ЛОП) | Тяжесть течения | 5 дней | 0,73 (0,56–0,91) | 50,0/92,0 | ≥120,9 | |
M. Bhowmick и соавт. (2024) [24], кросс-секционное | n=50 (10 ТОП, 16 УТОП, 24 ЛОП) | Тяжесть течения | 24 | 0,973 (0,882–0,998) | 92,3/91,7 | >39,55 | |
C. Landmead и соавт. (2021) [32], проспективноекогортное | n=133 (37 ТОП, 34 УТОП, 62 ЛОП) | Тяжесть течения | 24 | 0,78±0,07 | 73,0/75,0 | 33 | |
A.S. El Gamal и соавт. (2020) [33], проспективное когортное | n=80 (24 ТОП, 56 не ТОП) | Тяжесть течения | 24 | 0,951±0,04 | 91,0/96,0 | 40,3 | |
ИЛ-10 | F. Tian и соавт. (2022) [27], когортное | n=312 (92 ТОП, 220 не ТОП) | Тяжесть течения | 24 | 0,707 (0,632–0,781) | 58,7/90,0 | 1,715 |
D.W. Ćeranić и соавт. (2020) [22], проспективное | n=96 (16 ТОП/УТОП, 80 ЛОП) | Тяжесть течения | 24 | 0,742 (0,580–0,903) | 73,3/59,7 | 5,35 | |
Тяжесть течения | Через 48 | 0,705 (0,543–0,868) | 60,0/84,2 | 5,45 | |||
ИЛ-22 | L. Orbelian и соавт. (2024) [23], проспективное | n=149 (23 ТОП, 41 УТОП, 85 ЛОП) | Тяжесть течения | 24 | 0,803±0,06 | 87,0/75,0 | >122 |
Тяжесть течения | 48 | 0,754±0,05 | 91,0/64,0 | ≤43 | |||
Дельта-ИЛ-22 | Тяжесть течения | 24–48 | 0,857±0,04 | 83,0/85,0 | ≤−92 | ||
Фактор некроза опухоли альфа | M. Bhowmick и соавт. (2024) [24], кросс-секционное | n=50 (10 ТОП, 16 УТОП, 24 ЛОП) | Тяжесть течения | 24 | 0,825 (0,692–0,918) | 53,9/95,8 | >11,80 |
Примечание. ИЛ — интерлейкин; ЛОП — легкий острый панкреатит; ТОП — тяжелый острый панкреатит; УТОП — умеренно-тяжелый острый панкреатит; ДИ — доверительный интервал; Ч/С — чувствительность/специфичность.
Результаты оценки качества с помощью инструмента QUADAS-2 приведены на рис. 2 и 3.
Рис. 2. Оценка риска систематической ошибки.
Fig. 2. Risk of bias assessment.
Рис. 3. Распределение риска и применимости по доменам.
Fig. 3. Distribution of risk of bias and applicability across domains.
Характеристика исследований, включенных в метаанализ
В метаанализ включено 11 исследований ИЛ-6 (n=1377) и 5 исследований ИЛ-8 (n=535). Доля тяжелых форм панкреатита в отдельных работах варьировала от ~6 до 87%, что отражает различные клинические выборки (стационаров общего профиля, реанимационных отделений и др.). В большинстве исследований анализируемые цитокины измеряли в первые 24 ч после дебюта заболевания (в отдельных работах — до 36–48 ч). Пороговые значения уровней ИЛ-6 и -8, оптимально разделяющие тяжелое и легкое течение, существенно различались между исследованиями. Для ИЛ-6 границы отсечения составили от 6,8 до 279 пг/мл (медиана — 50 пг/мл), тогда как для ИЛ-8 — от 21,7 до 120,9 пг/мл (медиана — 40 пг/мл). Это указывает на отсутствие единого стандарта и возможные методические различия (например, различные тест-системы или моменты времени измерения).
РОЛЬ ИНТЕРЛЕЙКИНА-6 В ПРОГНОЗИРОВАНИИ ТЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА
В метаанализ включены 11 исследований (данные о 1377 пациентах). Каждое из них содержало значение площади под ROC-кривой (AUC) и его стандартную ошибку. Поскольку между исследованиями выявлена значительная вариабельность результатов, метаанализ проводили с оценкой по модели фиксированных эффектов и модели случайных эффектов для сравнения.
В модели фиксированных эффектов объединенная оценка AUC составила 0,938 [95% доверительный интервал (ДИ) 0,926–0,950]. Эта модель предполагает, что все исследования оценивают одну истинную величину AUC. Однако применимость фиксированного эффекта вызывает сомнения из-за высокой гетерогенности. В модели случайных эффектов объединенная AUC составила 0,840 (95% ДИ 0,786–0,895), что заметно ниже оценки фиксированной модели. Модель случайных эффектов учитывает разброс истинных эффектов между исследованиями, добавляя дисперсию случайных эффектов (τ2) для межисследовательской вариации.
Статистика Кохрана Q=125,37 (при степени свободы df=10; p <0,001) свидетельствует о значимой гетерогенности между исследованиями. Индекс I2=92.0%, указывающий на очень высокий уровень гетерогенности [34]. Оценка τ2 по методу ДерСимониана–Ларда составила 0,00654 (τ2=0,081). Таким образом, 92% общей вариации обусловлено различиями между исследованиями, а не случайной погрешностью. Поскольку I2 значительно превышала 75%, гетерогенность считали высокой, и модель случайных эффектов была более уместна для суммарной оценки.
Для наглядности на рис. 4 представлена форест-диаграмма, где показаны оценки AUC и 95% ДИ каждого исследования, а также объединенные эффекты по фиксированной и случайной моделям.
Рис. 4. Форест-диаграмма, представляющая площади под ROC-кривыми в исследованиях интерлейкина-6.
Fig. 4. Forest plot showing the areas under the ROC curves in studies of interleukin-6.
В тесте Эггера интерсепт в регрессии значительно отклонился от нуля: B0=−4,74 (95% ДИ от −6,72 до 2,76; p=0,0004). Формально нулевую гипотезу (отсутствие смещения, B0=0) отвергли, что свидетельствует о возможном смещении публикаций. Тест Бегга–Мазумдара показал τ2=−0,574 (p=0,015), то есть значимую обратную корреляцию: исследования с большей ошибкой (меньшим размером) демонстрируют тенденцию к более низким AUC. Этот результат также указывает на возможное смещение: полученное p=0,015 (p <0,05) позволяет заподозрить наличие систематических эффектов малого исследования. Оба теста в совокупности свидетельствуют об асимметрии распределения эффектов, что может быть обусловлено публикационным смещением (например, отсутствием крупных негативных исследований) или другими систематическими факторами. Именно поэтому следует с осторожностью интерпретировать полученную высокую суммарную AUC. Реальная эффективность теста может быть несколько ниже, если были бы учтены неопубликованные или отсутствующие данные. Тем не менее, по общему выводу, ИЛ-6 обладает диагностической ценностью, хотя ее величина может быть завышена в опубликованных исследованиях.
В результате метаанализа получено высокое суммарное значение AUC, превышающее 0,80 в обеих моделях, что указывает на общую высокую диагностическую способность теста (ИЛ-6) среди рассмотренных работ. При этом существенная гетерогенность результатов означает, что размер эффекта заметно варьирует между исследованиями.
Различие между моделями обусловлено тем, что при высокой гетерогенности модель фиксированных эффектов переоценивает вклад крупных публикаций с экстремально высокими AUC. В данном случае исследование M. Bhowmick и соавт., (2024) [24] показало AUC 0,99 с очень малой ошибкой (SE≈0,009) и сильно повлияло на фиксированный эффект (приподнимая его до 0,94). Модель случайных эффектов снижает вес этого исследования за счет τ2 и дает более консервативную оценку общей AUC — 0,84. Тем не менее оба 95% ДИ не пересекаются с 0,5. Это подтверждает, что концентрация ИЛ-6 статистически значимо дискриминирует состояние пациентов во всех исследованиях (статистически значимо суммарная AUC >0,5).
Метарегрессия
Изучено, позволяют ли различия в дизайне исследований или характеристиках пациентов объяснить разброс значений AUC. Для этого проведена метарегрессия с использованием следующих ковариат (модераторов):
- средний возраст пациентов в исследовании (в годах);
- доля тяжелых форм заболевания (в процентах);
- время забора крови от начала заболевания (в часах);
- пороговый уровень ИЛ-6 (в пикограммах на миллилитр), использованный как критерий положительного теста;
- год публикации;
- размер выборки (количество пациентов);
- дизайн исследования (проспективное или ретроспективное).
Метарегрессию выполняли на основе модели случайных эффектов (взвешенного регрессионного анализа с учетом дисперсий). Результаты показали отсутствие статистически значимых связей между перечисленными факторами и величиной AUC. Ни одна ковариата не была значимо связана с изменением AUC (p >0,3 для всех). В табл. 2 приведены коэффициенты регрессии (β) для каждого фактора и 95% ДИ.
Таблица 2. Метарегрессия исследования по оценке прогностической ценности интерлейкина-6
Table 2. Meta-regression analysis of studies assessing the prognostic value of interleukin-6
Ковариата (модератор) | β | 95% ДИ β | p |
Средний возраст, лет | −0,0026 | от −0,0092 до 0,0039 | 0,45 |
Доля тяжелых форм заболевания, % | −0,0015 | от −0,0043 до 0,0014 | 0,34 |
Время забора крови от начала заболевания, ч | −0,0029 | от −0,0098 до 0,0041 | 0,44 |
Пороговый уровень интерлейкина-6, пг/мл | −0,00018 | от −0,0009 до 0,0006 | 0,65 |
Год публикации исследования | 0,0092 | от −0,0073 до 0,0258 | 0,30 |
Размер выборки | 0,00036 | от −0,0004 до 0,0011 | 0,36 |
Дизайн (проспективное или ретроспективное) | −0,0099 | от −0,1768 до 0,1570 | 0,91 |
Примечание. β — коэффициент регрессии; ДИ — доверительный интервал.
Как видно, все доверительные интервалы β включают ноль, а p >0,05. Это означает, что ни один из рассмотренных факторов существенно не обусловливает межисследовательскую вариацию AUC. Практически, высокое значение I2 (92%) осталось почти неизменным при учете этих ковариат, что указывает на присутствие иных источников гетерогенности. Таким образом, несмотря на логические предположения (например, что время забора крови или порог уровня ИЛ-6 могут влиять на диагностическую ценность), статистически значимых подтверждений этому не получено.
Для объединения данных о чувствительности и специфичности по всем включенным исследованиям построена HSROC (рис. 5). В нее вошли 11 исследований, содержащих достаточные данные для расчета истинно положительных, ложноположительных, истинно отрицательных и ложноотрицательных значений. Площадь под HSROC-кривой составила 0,697, что указывает на умеренную обобщенную диагностическую точность ИЛ-6 в распознавании тяжелого панкреатита. Оптимальная точка отсечения по индексу Юдена соответствовала чувствительности 80,9% и специфичности 54,5% (специфичность составила 45,5%). На графике HSROC-кривой отдельные исследования сгруппированы преимущественно в зоне высокой чувствительности, но демонстрируют разброс по специфичности, что отражает вариативность применяемых порогов ИЛ-6, методов лабораторного анализа и диагностических шкал. Умеренный изгиб на кривой в направлении верхнего левого угла без выраженной асимметрии свидетельствует о сбалансированном соотношении между чувствительностью и специфичностью в совокупности.
Рис. 5. Иерархическая обобщенная ROC-кривая для выявления роли интерлейкина-6 в прогнозе тяжелого острого панкреатита. AUC — площадь под ROC-кривой; TPR — true positive rate (доля истинно положительных результатов); FPR — false positive rate (доля ложноположительных результатов).
Fig. 5. Hierarchical summary ROC (HSROC) curve illustrating the role of interleukin-6 in predicting severe acute pancreatitis. AUC, area under the ROC curve; TPR, true positive rate; FPR, false positive rate.
Анализ чувствительности
Для оценки устойчивости объединенного результата проведен leave-one-out-анализ чувствительности — последовательно исключали каждое исследование и пересчитывали суммарную AUC (модель случайных эффектов). Диапазон полученных оценок был от 0,823 до 0,855. Например, наименьшую суммарную AUC (0,99) наблюдали при исключении исследования M. Bhowmick и соавт. (2024) [24] — объединенное значение снизилось до 0,823. Наибольшая суммарная AUC (0,855) получалась при исключении исследования J. Li и соавт., 2022 [29] (с самой низкой AUC 0,69). Однако во всех случаях оценка оставалась около 0,84, и ее 95% ДИ все еще перекрывались с таковыми у полного анализа, то есть ни одно отдельное исследование не изменяло радикально выводы. Это говорит о том, что суммарный результат метаанализа стабилен и не определен полностью каким-либо одним исследованием. Даже удаление исследования с экстремально высокой AUC (0,99) или с самой низкой AUC (0,69) не привело к существенному изменению общей оценки — разница составила 0,03 по AUC. Таким образом, результаты метаанализа устойчивы к исключению любого отдельного исследования.
Подгрупповой анализ
Исследования были стратифицированы по точке отсечения ИЛ-6. Подгруппа с порогом ≥100 пг/мл (n=6) показала AUC=0,852 (95% ДИ 0,814–0,889), при этом гетерогенность I2=76,5% была значительно ниже исходной. Для этой подгруппы также построена HSROC-кривая (AUC=0,621, чувствительность — 83,2%, специфичность — 43,6%; рис. 6).
Рис. 6. Иерархическая обобщенная ROC-кривая для выявления роли интерлейкина-6 в прогнозе тяжелого острого панкреатита для исследования с точкой отсечения ≥100 пг/мл. AUC — площадь под ROC-кривой; TPR —true positive rate ; FPR — false positive rate.
Fig. 6. Hierarchical summary ROC (HSROC) curve illustrating the role of interleukin-6 in predicting severe acute pancreatitis for studies with a cutoff value ≥100 pg/mL. AUC, area under the ROC curve; TPR, true positive rate; FPR, false positive rate.
РОЛЬ ИНТЕРЛЕЙКИНА-8 В ПРОГНОЗИРОВАНИИ ТЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА
В метаанализ исследований ИЛ-8 включены 5 работ, содержащих значения AUC для прогноза тяжелого ОП. В модели фиксированных эффектов объединенная AUC составила 0,917 (95% ДИ 0,875–0,959), а в модели случайных эффектов — 0,843 (95% ДИ 0,734–0,951). Статистика Кохрана Q=20,79 (df=4; p=0,0003) и индекс гетерогенности I2=80,76% (95% ДИ 55,02–91,77) свидетельствуют о высокой межисследовательской вариабельности. Для наглядности на форест-диаграмме (рис. 7) показаны индивидуальные точки AUC и 95% ДИ каждого исследования и объединенные эффекты по обеим моделям.
Рис. 7. Форрест-диаграмма, представляющая площади под ROC-кривыми в исследованиях интерлейкина-8.
Fig. 7. Forest plot showing the areas under the ROC curves in studies of interleukin-8.
При проверке публикационного смещения тест Эггера выявил значимое отклонение интерсепта от нуля (B0=−4,661; 95% ДИ от −6.948 до −2.374; p=0,0074), а тест Бегга–Мазумдара показал τ2=−0,7379 (p=0,0707), что свидетельствует о возможном смещении в сторону публикации «позитивных» результатов. Несмотря на это, объединенная AUC осталась статистически значимой (p <0,001), что подтверждает высокую диагностическую ценность ИЛ-8 для выявления тяжелых форм ОП.
Метарегрессия
Метарегрессия выполнена на основе модели случайных эффектов со взвешиванием по обратной дисперсии. Она включала в качестве модераторов: средний возраст пациентов в исследовании, долю тяжелых форм заболевания, время забора крови от начала заболевания, пороговый уровень ИЛ-8, год публикации и размер выборки. Константа модели оказалась значимой (β=0,672; 95% ДИ 0,186–1,158; p=0,030), а для всех остальных ковариат доверительные интервалы включали ноль и p >0,05, что указывает на отсутствие их статистически значимого влияния на AUC (табл. 3).
Таблица 3. Метарегрессия исследования по оценке прогностической ценности интрелейкина-8
Table 3. Meta-regression analysis of studies assessing the prognostic value of interleukin-8
Ковариата (модератор) | β | 95% ДИ β | p |
Константа | 0,672 | 0,186–1,158 | 0,030 |
Средний возраст, лет | −0,001 | от −0,007 до 0,005 | 0,755 |
Доля тяжелых форм заболевания, % | 0,050 | от −0,358 до 0,458 | 0,818 |
Время забора крови от начала заболевания, ч | 0,005 | от −0,009 до 0,019 | 0,467 |
Пороговый уровень интерлейкина-6, пг/мл | 0,000 | от −0,000 до 0,000 | 0,883 |
Год публикации исследования | 0,002 | 0,000–0,004 | 0,215 |
Размер выборки | 0,000 | 0,000–0,000 | 0,954 |
Примечание. β — коэффициент регрессии; ДИ — доверительный интервал.
Над HSROC-кривой для ИЛ-8 (рис. 8) отмечены отдельные исследования, демонстрирующие высокую чувствительность (0,7–1,0) при весьма вариабельной специфичности (0,2–0,8), что отражает разнообразие используемых порогов уровня ИЛ-8 и методических подходов. Линия HSROC-кривой, полученная на основе логит-модели чувствительности и специфичности, изгибается в направлении верхнего левого угла, однако остается сравнительно пологой, что говорит об умеренном балансе между чувствительностью и специфичностью. AUC составила 0,595, что указывает на низкую обобщенную диагностическую точность ИЛ-8 для предсказания тяжелого ОП. На кривой показана оптимальная точка по индексу Юдена, где чувствительность достигает 87,7%, а специфичность — около 39,6%. Пунктирная диагональ служит ориентиром «отсутствия дискриминации». Такое расположение кривой и рассеяние точек обозначают сильную значимость ИЛ-8 при выявлении случаев тяжелого течения ОП, но ограниченность в точности при исключении пациентов с легким течением.
Рис. 8. Иерархическая обобщенная ROC-кривая для выявления роли интерлейкина-8 в прогнозе тяжелого острого панкреатита. AUC — площадь под ROC-кривой; TPR — true positive rate (доля истинно положительных результатов); FPR — false positive rate (доля ложноположительных результатов).
Fig. 8. Hierarchical summary ROC (HSROC) curve illustrating the role of interleukin-8 in predicting severe acute pancreatitis. AUC, area under the ROC curve; TPR, true positive rate; FPR, false positive rate.
Анализ чувствительности
Для оценки влияния каждого отдельного исследования на общий результат выполнен leave-one-out-анализ. При поочередном исключении пяти работ объединенная AUC варьировала от 0,858 до 0,936, а индекс гетерогенности I2 оставался на уровне 71,9–84,9%. Наибольшее снижение I2 (до 71,9%) и увеличение AUC (до 0,936) наблюдали при исключении исследования D.W. Ceranić и соавт. (2020) [22], а при удалении работы M. Bhowmick и соавт. (2024) [24] AUC снизилась до 0,858, а I2 составил 78,1%. Таким образом, именно эти два исследования вносят наибольший вклад в методологическую и клиническую вариабельность результатов.
Подгрупповой анализ
Исследования стратифицированы по медианному порогу уровня ИЛ-8 (39,55 пг/мл). При точке отсечения <39,55 пг/мл (n=2) объединенная AUC составила 0,726 (95% ДИ 0,615–0,837), I2=0%, а при точке отсечения ≥39,55 пг/мл (n=3) объединенная AUC была равна 0,949 (95% ДИ 0,904–0,995), I2=69,5%.
В подгруппе с более высокими порогами уровня ИЛ-8 (≥39,55 пг/мл) результаты оказались не только более точными (AUC=0,95), но и более однородными, чем в группе низких порогов (I2 снизилась с 80 до 69,5%). На рис. 9 показана HSROC-кривая для ИЛ-8 в прогнозе тяжелого ОП для исследования с точкой отсечения ≥39,55 пг/мл. Площадь под HSROC-кривой составила 0,620 с чувствительностью 89,2% и специфичностью 55,6%.
Рис. 9. Иерархическая обобщенная ROC-кривая для выявления роли интерлейкина-8 в прогнозе тяжелого острого панкреатита для исследования с точкой отсечения ≥39,55 пг/мл. AUC — площадь под ROC-кривой; TPR — true positive rate (доля истинно положительных результатов); FPR — false positive rate (доля ложноположительных результатов).
Fig. 9. Hierarchical summary ROC (HSROC) curve illustrating the role of interleukin-8 in predicting severe acute pancreatitis for studies with a cutoff value ≥39.55 pg/mL. AUC, area under the ROC curve; TPR, true positive rate; FPR, false positive rate.
ДРУГИЕ ЦИТОКИНОВЫЕ БИОМАРКЕРЫ
Фактор некроза опухоли альфа. В работе M. Bhowmick и соавт. (2024) у 50 пациентов уровень фактора некроза опухоли альфа в первые сутки болезни продемонстрировал умеренную диагностическую точность (AUC=0,83) для прогнозирования тяжелого течения ОП. При пороговом значении >11,8 пг/мл показатель отличался высокой специфичностью (96%), однако чувствительность была низкой (54%), что указывает на ограниченную самостоятельную ценность этого маркера (многие случаи тяжелого течения ОП невозможно выявить по фактору некроза опухоли альфа без ложноположительных результатов).
Интерлейкин-10 рассмотрен в двух работах. В крупном когортном исследовании F. Tian и соавт. (2022; n=312) сывороточный уровень ИЛ-10, измеренный в первые 24 ч, показал AUC 0,707 (95% ДИ 0,632–0,781) при прогнозировании тяжелого панкреатита [27]. Чувствительность при оптимальном пороге составила 59%, специфичность — 90%, то есть повышенные уровни ИЛ-10 были ассоциированы с менее тяжелым течением ОП (у тяжелых пациентов наблюдали относительно низкие концентрации ИЛ-10). В проспективном исследовании D.W. Ćeranić и соавт. (2020; n=96) получены сходные результаты: AUC 0,742 (95% ДИ 0,580–0,903) для ИЛ-10 на 24-й час (чувствительность — 73%, специфичность — 60%). Через 48 ч прогностическая точность ИЛ-10 снижалась (AUC=0,705, чувствительность 60%, специфичность 84%), отражая динамику противовоспалительного ответа [22]. В целом ИЛ-10 рассматривают как антивоспалительный цитокин, поскольку его относительно более высокие ранние уровни характерны для благоприятного исхода, а у пациентов с тяжелым течением отмечают недостаточный рост содержания ИЛ-10 в первые сутки заболевания.
Интерлейкин-22 исследовала одна группа авторов. В проспективной работе L. Orbelian и соавт (2024; n=149) продемонстрировано, что повышенный уровень ИЛ-22 в начале болезни связан с ее тяжелым течением [23]. В первые сутки уровень ИЛ-22 ≥122 пг/мл предсказывал развитие тяжелого панкреатита с чувствительностью 87% и специфичностью 75% (AUC=0,803). Однако ко вторым суткам у тяжелых пациентов отмечено снижение содержания ИЛ-22: при пороге ≤43 пг/мл на 48-й час AUC составила 0,75 (чувствительность — 91%, специфичность — 64%). Наибольшую информативность продемонстрировал показатель дельта-ИЛ-22 в виде уменьшения концентрации за первые 48 ч: резкое снижение ИЛ-22 (более чем на 90 пг/мл) наблюдали при тяжелом течении ОП (AUC=0,857, чувствительность — 83%, специфичность — 85%). Этот единичный по сути анализ указывает, что динамические изменения уровня ИЛ-22 могут превосходить по прогностической значимости разовые измерения.
Интерлейкин-18 упоминают в литературе как ключевой медиатор системного воспаления при тяжелом панкреатите, однако данных для количественной оценки его прогностической ценности недостаточно. В ранних работах отмечено статистически значимое повышение уровней ИЛ-18 у пациентов с тяжелым течением по сравнению с показателями при легком течении. Обнаружена также корреляция уровней ИЛ-18 и фактора некроза опухоли альфа с развитием органной дисфункции (в частности, печеночной). Однако данные о прогностической роли маркера в оценке риска летального исхода противоречивы и не выявлено корреляции между уровнем ИЛ-18 и выживаемостью [35–37].
Тем не менее, ни одно из включенных в обзор недавних исследований не предоставило данных по ROC-метрикам для ИЛ-18, что свидетельствует о пробеле в современной доказательной базе. Аналогично, некоторые другие цитокины (например, ИЛ-1β, -12, интерферон гамма) изучены преимущественно в контексте патогенеза и различий между группами, выделенными по тяжести заболевания, но без оценки универсальных порогов и точности прогноза в формате, сопоставимом с предложенным в вышеописанных работах.
Совокупные результаты по альтернативным биомаркерам значительно уступают по объему и однородности данным по ИЛ-6 и -8, что не позволяет выполнить полноценный метаанализ. Представленные единичные исследования указывают на потенциальную роль некоторых цитокинов (фактора некроза опухоли альфа, ИЛ-10, -22, -18 и др.) в прогнозировании тяжести ОП, однако их диагностическая точность и воспроизводимость подлежат дальнейшему изучению в более крупных и стандартизированных исследованиях, прежде чем эти маркеры смогут быть интегрированы в клиническую практику.
ОБСУЖДЕНИЕ
ОП сопровождается выраженной воспалительной реакцией, определяющей тяжесть течения и исход заболевания. Первичное повреждение ацинарных клеток (при желчнокаменной болезни, употреблении алкоголя, травме и др.) вызывает преждевременную активацию ферментов и самопереваривание ткани железы [38]. Это запускает каскад воспаления: ацинарные клетки и макрофаги продуцируют провоспалительные цитокины, активирующие нейтрофилы. Последние усиливают повреждение, выделяя протеазы и реактивные формы кислорода. Одновременно включается противовоспалительный ответ — выработка ИЛ-10, подавляющего синтез провоспалительных медиаторов и снижающего риск полиорганной недостаточности [39]. Таким образом, исход ОП определен балансом между про- и противовоспалительными факторами.
Многочисленные исследования подтверждают, что уровень провоспалительных цитокинов: фактора некроза опухоли альфа, ИЛ-1β и -6 значительно выше при тяжелых формах ОП, тогда как уровень противовоспалительного ИЛ-10 чаще повышен при легком течении заболевания [40]. Дисбаланс уровней этих медиаторов лежит в основе синдрома системной воспалительной реакции (SIRS) и полиорганной дисфункции. Важно учитывать не только абсолютные значения, но и динамику изменений цитокинов. Так, H. Sternby и соавт. показали, что именно дельта-ИЛ-6 является наиболее точным ранним предиктором тяжелого течения ОП [41].
ИЛ-10 выполняет регулирующую функцию: его повышение отражает попытку организма ограничить иммунный ответ [39]. Однако чрезмерно высокий уровень ИЛ-10 на ранней стадии тяжелого ОП может свидетельствовать о неэффективности компенсации и неблагоприятном прогнозе. В целом увеличение уровней провоспалительных и снижение уровней противовоспалительных цитокинов рассматривают как основной механизм прогрессирования воспаления при ОП, что обосновывает интерес к цитокинам как потенциальным прогностическим маркерам тяжести заболевания [42].
Ранняя стратификация риска крайне важна, но применение традиционных шкал, таких как Ranson, Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II (APACHE II), Bedside Index of Severity in Acute Pancreatitis (BISAP), очень трудоемко. В связи с этим активно изучают цитокины как простые и перспективные лабораторные маркеры [43].
ИЛ-6 высвобождается уже в первые часы болезни и инициирует синтез белков острой фазы [38]. Его уровень при поступлении достоверно выше у пациентов с тяжелым течением. W. Kolber и соавт. (2018) показали, что уровень ИЛ-6 в крови на момент госпитализации является сильным предиктором тяжелого течения ОП. AUC составила 0,75–0,78, что сопоставимо с прогностической точностью мультифакторных шкал [20]. A.K. Khanna и соавт. (2013) показали еще более высокую прогностическую точность (AUC до 0,90) [21]. Важно отметить, что в отличие от С-реактивного белка, достигающего пика к 72 ч болезни, ИЛ-6 информативен уже в первые сутки [44]. Особый интерес представляет динамика уровня ИЛ-6 в первые 48 ч болезни. Упомянутое исследование H. Sternby и соавт. (2021) показало, что прирост уровня ИЛ-6 за первые сутки (дельта-ИЛ-6) существенно выше при тяжелом панкреатите, тогда как при легкой форме рост минимален [41]. Это подтверждает ценность повторных измерений. Однако разное время забора крови между исследованиями может влиять на сопоставимость данных [45].
ИЛ-8 — хемоаттрактант нейтрофилов, также изучаемый как маркер тяжести заболеваний. В исследовании A.K. Penttilä и соавт. (2017) уровень ИЛ-8 позволял предсказать развитие тяжелого ОП: AUC составила 0,73. При этом уровень ИЛ-8 ≥130,9 пг/мл был статистически значимым предиктором развития персистирующей органной недостаточности (AUC=0,88) [31]. Хотя ИЛ-8 и уступает по точности ИЛ-6, он может быть полезен для ранней стратификации риска [12].
ИЛ-10 ассоциирован с легким течением ОП, но при тяжелых формах его чрезмерный рост указывает на дисбаланс иммунного ответа. F. Tian и соавт. (2019) изучили прогностическую ценность одновременного определения про- и противовоспалительных цитокинов [27]. У пациентов с тяжелым ОП уровни ИЛ-6 на ранней стадии в разы превышают таковые при легком течении, в то время как уровень ИЛ-10 повышен умеренно во всех случаях панкреатита и еще больше возрастает у тех, у кого впоследствии развивается тяжелая форма. Тем не менее, прогностическая точность ИЛ-10 значительно ниже, чем у ИЛ-6: AUC составляет 0,71 против 0,90 [27]. Таким образом, ИЛ-10 лучше интерпретировать в комплексе с другими маркерами.
ИЛ-22, с одной стороны, рассматривают как потенциальный маркер тяжести: в остром периоде его уровень в крови повышается [46]. С другой стороны, в той же работе не обнаружили различий по содержанию ИЛ-22 между тяжелым и легким панкреатитом. Данные L. Orbelian и соавт. (2024) показали, что у больных тяжелым ОП уровень ИЛ-22 на момент поступления действительно выше, чем при легком/среднетяжелом течении заболевания, но уже через 48 ч у тяжелых пациентов концентрация ИЛ-22 снижается гораздо более значительно, чем у остальных, и становится даже ниже, чем при благоприятном течении [23]. То есть при тяжелом панкреатите наблюдают всплеск ИЛ-22 в самом начале с последующим истощением его уровня. Расчет дельта-ИЛ-22 подтвердил, что степень снижения этого цитокина за 2 дня тем больше, чем тяжелее панкреатит [23]. В логистической регрессии прирост ИЛ-6 и снижение уровня ИЛ-22 были включены в число независимых предикторов тяжелого течения. Эти противоречивые, на первый взгляд, результаты отражают двойственную природу ИЛ-22: ранний подъем его уровня может служить маркером тяжелого воспаления, а последующее падение — признаком потребления защитного ресурса организма. M. Jin и соавт. продемонстрировали, что в модели ОП у мышей уровень ИЛ-22 сначала повышается в ответ на воспаление, что является частью компенсаторной противовоспалительной реакции, но при тяжелом течении этот ресурс быстро истощается [47]. Экзогенное введение ИЛ-22 в эксперименте, напротив, приводило к улучшению выживаемости животных, уменьшению некроза поджелудочной железы и снижению повреждения органов-мишеней, в частности кишечника [42].
По данным метаанализа, тест на ИЛ-6 правильно идентифицирует около 80% пациентов с развитием тяжелого ОП уже в начале болезни. Анализ устойчивости (чувствительности) подтвердил надежность общей оценки. Тем не менее обнаружены признаки публикационного смещения. Визуальная оценка графика «воронкообразного» размаха и расчеты теста Эггера указывают, что в выборке, вероятно, отсутствуют исследования с отрицательными или менее впечатляющими результатами (они могли не быть опубликованы). Это могло привести к несколько завышенной объединенной оценке точности ИЛ-6. Подобное смещение типично для области исследований диагностических маркеров. Поэтому итоговые цифры стоит интерпретировать с осторожностью. Практическое значение этих выводов состоит в следующем: уровень ИЛ-6 по совокупности данных действительно обладает высокой диагностической ценностью для раннего прогнозирования тяжелого течения ОП. Однако клиницистам не следует переоценивать среднее значение точности. Рекомендовано использовать тест на ИЛ-6 как часть комплексной оценки с учетом диапазона возможных исходов. Высокий уровень ИЛ-6 — серьезный тревожный сигнал, но отрицательный (низкий) результат не гарантирует благополучного течения, особенно если прошел значительный интервал времени с начала заболевания или у пациента есть другие факторы риска. Необходимо дальнейшее накопление данных: желательно проведение крупных проспективных исследований или метаанализов, включающих неопубликованные результаты, чтобы уточнить истинную прогностическую точность ИЛ-6 и выработать оптимальные диагностические пороги.
В метаанализе, охватившем пять исследований, сводная чувствительность указывает на хорошую эффективность измерения ИЛ-8 при выявлении действительно тяжелого течения ОП с наличием ложноположительных результатов. ИЛ-8 проявляет высокую чувствительность и приемлемую специфичность для ранней стратификации рисков тяжелого панкреатита, но его точность зависит от выбранного порога и времени забора проб. Для клинической практики рекомендовано калибровать cut-off под местные условия и использовать ИЛ-8 в составе панелей с другими маркерами.
Настоящее исследование содержит ряд ограничений. Количество включенных работ в метаанализе (n=11) относительно невелико для обнаружения модераторных эффектов средней силы. При таком объеме выборки возможности метарегрессии ограничены, и некоторые влияющие факторы могли остаться невыявленными. Кроме того, высокая гетерогенность результатов снижает доверие к интегральным оценкам. Тем не менее полученные данные подтверждают значимость воспалительных цитокинов, прежде всего ИЛ-6, в патогенезе и прогнозировании ОП. ИЛ-6 зарекомендовал себя как надежный ранний индикатор тяжелого течения заболевания, сопоставимый или превосходящий по точности традиционные шкалы. ИЛ-8 и -10 могут дополнять информацию, но уступают ИЛ-6 по прогностической ценности. ИЛ-22 представляет особый интерес: будучи маркером дисбаланса иммунного ответа, он одновременно выступает как потенциальный терапевтический агент для защиты органов при панкреатите. В обозримом будущем комбинация цитокиновых профилей с клиническими данными и шкалами может привести к созданию более точных и быстрых инструментов стратификации риска при ОП, что позволит улучшить исходы для пациентов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате систематического обзора и метаанализа установлено, что измерение ИЛ-6 в первые 24 ч после дебюта ОП обладает высокой прогностической точностью (AUC 0,84–0,94) и позволяет своевременно выявлять пациентов высокого риска, тогда как ИЛ-8 играет вспомогательную роль благодаря чувствительности к ранней нейтрофильной инфильтрации, а противовоспалительные цитокины (ИЛ-10, -22) освещают дисбаланс иммунного ответа и потенциально могут быть мишенями для иммуномодулирующей терапии. Практическое значение полученных данных заключается во внедрении рутинного определения ИЛ-6 на основании локально валидированных порогов, а также комбинировании цитокинового профиля с существующими шкалами тяжести ОП (APACHE II, BISAP и др.). Мониторинг динамики ИЛ-22 и -10 рассмотрен как перспективный инструмент для решения вопроса о назначении противовоспалительных и иммуномодулирующих методов, однако необходимы его дальнейшие исследования. Определение этих маркеров могло бы повысить точность ранней стратификации тяжести ОП, оптимизировать распределение ресурсов, обоснованно индивидуализировать патогенетическую терапию и, как следствие, снизить летальность и частоту осложнений.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Вклад авторов. Л.К. Орбелян — определение концепции, проведение исследования, написание черновика рукописи, пересмотр и редактирование рукописи; В.М. Дурлештер — определение концепции, проведение исследования, анализ данных, пересмотр и редактирование рукописи. Все авторы одобрили рукопись (версию для публикации), а также согласились нести ответственность за все аспекты работы, гарантируя надлежащее рассмотрение и решение вопросов, связанных с точностью и добросовестностью любой ее части.
Этическая экспертиза. Неприменимо.
Источники финансирования. Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 24-25-00164).
Раскрытие интересов. Авторы заявляют об отсутствии отношений, деятельности и интересов за последние три года, связанных с третьими лицами (коммерческими и некоммерческими), интересы которых могут быть затронуты содержанием статьи.
Оригинальность. При создании настоящей работы авторы не использовали ранее опубликованные сведения (текст, иллюстрации, данные).
Доступ к данным. Все данные, полученные в настоящей работе, представлены в статье.
Генеративный искусственный интеллект. При создании настоящей статьи технологии генеративного искусственного интеллекта не использовали.
Рассмотрение и рецензирование. Настоящая работа подана в журнал в инициативном порядке и рассмотрена по ускоренной процедуре. В рецензировании участвовали один внешний рецензент и два внутренних рецензента.
ADDITIONAL INFORMATION
Author contributions: L.K. Orbelian: conceptualization, investigation, writing—original draft; writing—review & editing; V.M. Durleshter: conceptualization, investigation, formal analysis, writing—review & editing. All the authors approved the version of the manuscript to be published and agreed to be accountable for all aspects of the work, ensuring that questions related to the accuracy or integrity of any part of the work are appropriately investigated and resolved.
Ethics approval: Not applicable.
Funding sources: The study was funded by a grant from the Russian Science Foundation (Project No. 24-25-00164).
Disclosure of interests: The authors have no relationships, activities, or interests over the past three years related to for-profit or not-for-profit third parties whose interests may be affected by the content of the article.
Statement of originality: No previously obtained or published material (text, images, or data) was used in this work.
Data availability statement: All data obtained in this study are available in this article.
Generative AI: No generative artificial intelligence technologies were used to prepare this article.
Provenance and peer-review: This paper was submitted unsolicited and reviewed following the fast-track procedure. The peer review process involved an external reviewer and two in-house reviewers from the Editorial Board.
1 False positive rate (доля ложноположительных результатов).
Об авторах
Людмила Кареновна Орбелян
Кубанский государственный медицинский университет
Автор, ответственный за переписку.
Email: orbelyan@mail.ru
ORCID iD: 0000-0003-1428-393X
SPIN-код: 8123-4311
MD
Россия, КраснодарВладимир Моисеевич Дурлештер
Кубанский государственный медицинский университет; Краевая клиническая больница № 2, Краснодар
Email: durleshter59@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-7420-0553
SPIN-код: 6229-6933
д-р мед. наук, профессор
Россия, Краснодар; КраснодарСписок литературы
- Silva-Vaz P, Abrantes AM, Castelo-Branco M, et al. Multifactorial scores and biomarkers of prognosis of acute pancreatitis: applications to research and practice. Int J Mol Sci. 2020;21(1):338. doi: 10.3390/ijms21010338 EDN: FEHVWB
- Hey-Hadavi J, Velisetty P, Mhatre S. Trends and recent developments in pharmacotherapy of acute pancreatitis. Postgrad Med. 2023;135(4):334–344. doi: 10.1080/00325481.2022.2136390 EDN: OOCNJX
- Leppäniemi A, Tolonen M, Tarasconi A, et al. 2019 WSES guidelines for the management of severe acute pancreatitis. World J Emerg Surg. 2019;14:27. doi: 10.1186/s13017-019-0247-0 EDN: MSWSPE
- Hirota M, Takada T, Kawarada Y, et al. JPN Guidelines for the management of acute pancreatitis: Severity assessment of acute pancreatitis. J Hepatobiliary Pancreat Surg. 2006;13(1):33–41 doi: 10.1007/s00534-005-1049-1 EDN: MNPJHV
- Silva-Vaz P, Abrantes, AM, Castelo-Branco M, et al. Murine models of acute pancreatitis: a critical appraisal of clinical relevance. Int J Mol Sci. 2019;20(11):2794 doi: 10.3390/ijms20112794 EDN: YOARXZ
- Silva-Vaz P, Abrantes AM, Morgado-Nunes S, et al. Evaluation of prognostic factors of severity in acute biliary pancreatitis. Int J Mol Sci. 2020;21(12):4300. doi: 10.3390/ijms21124300 EDN: SFIWEH
- Hu JX, Zhao CF, Wang SL, et al. Acute pancreatitis: a review of diagnosis, severity prediction and prognosis assessment from imaging technology, scoring system and artificial intelligence. World J Gastroenterol. 2023;29(37):5268–5291. doi: 10.3748/wjg.v29.i37.5268 EDN: NVEMFI
- Walkowska J, Zielinska N, Karauda P, et al. The pancreas and known factors of acute pancreatitis. J Clin Med. 2022;11:5565. doi: 10.3390/jcm11195565 EDN: GUKOZM
- Boxhoorn L, Voermans RP, Bouwense SA, et al. Acute pancreatitis. Lancet. 2020;396(10252):726–734. doi: 10.1016/S0140-6736(20)31310-6 EDN: PUPZPQ
- Lankisch PG, Apte M, Banks PA. Acute pancreatitis. Lancet. 2015;386(9988):85–96. doi: 10.1016/S0140-6736(14)60649-8 EDN: UTVOUZ
- Singh P, Garg PK. Pathophysiological mechanisms in acute pancreatitis: current understanding. Indian J Gastroenterol. 2016;35(3):153–166. doi: 10.1007/s12664-016-0647-y EDN: XYXNDD
- Mititelu A, Grama A, Colceriu M-C, et al. Role of interleukin 6 in acute pancreatitis: a possible marker for disease prognosis. Int J Mol Sci. 2024;25(15):8283. doi: 10.3390/ijms25158283 EDN: REJTDL
- Aoun E, Chen J, Reighard D, et al. Diagnostic accuracy of interleukin-6 and interleukin-8 in predicting severe acute pancreatitis: a meta-analysis. Pancreatology. 2009;9(6):20777–20785. doi: 10.1159/000214191 EDN: NZDNWN
- Zhang J, Niu J, Yang J. Interleukin-6, interleukin-8 and interleukin-10 in estimating the severity of acute pancreatitis: an updated meta-analysis. Hepatogastroenterology. 2014;61(129):215–220.
- Metri A, Bush N, Singh VK. Predicting the severity of acute pancreatitis: current approaches and future directions. Surg Open Sci. 2024;19:109–117. doi: 10.1016/j.sopen.2024.03.012 EDN: QMLYXG
- Lee DW, Cho CM. Predicting severity of acute pancreatitis. Medicina (Kaunas). 2022;58(6):787. doi: 10.3390/medicina58060787 EDN: MFOBVM
- Page MJ, McKenzie JE, Bossuyt PM, et al. The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. BMJ. 2021;372:n71. doi: 10.1136/bmj.n71
- Whiting PF, Rutjes AWS, Westwood ME, et al. Quadas-2: a revised tool for the quality assessment of diagnostic accuracy studies. Ann Intern Med. 2011;155(8):529–536. doi: 10.7326/0003-4819-155-8-201110180-00009
- Lin L, Chu H. Quantifying publication bias in meta-analysis. Biometrics. 2018;74(3):785–794. doi: 10.1111/biom.12817
- Kolber W, Dumnicka P, Maraj M, et al. Does the automatic measurement of interleukin 6 allow for prediction of complications during the first 48 h of acute pancreatitis? Int J Mol Sci. 2018;19(6):1820. doi: 10.3390/ijms19061820
- Khanna AK, Meher S, Prakash S, et al. Comparison of Ranson, Glasgow, MOSS, SIRS, BISAP, APACHE-II, CTSI Scores, IL-6, CRP, and procalcitonin in predicting severity, organ failure, pancreatic necrosis, and mortality in acute pancreatitis. HPB Surg. 2013;2013:367581. doi: 10.1155/2013/367581
- Ćeranić DB, Zorman M, Skok P. Interleukins and inflammatory markers are useful in predicting the severity of acute pancreatitis. Bosn J Basic Med Sci. 2020;20:99–105. doi: 10.17305/bjbms.2019.4253
- Orbelian L, Trembach N, Durleshter V. The role of inflammatory and hemostatic markers in the prediction of severe acute pancreatitis: an observational cohort study. Recent Adv Inflamm Allergy Drug Discov. 2024. doi: 10.2174/0127722708356543241209060544 EDN: DNHHEV
- Bhowmick M, Lal M, Kumawat A. Correlation of inflammatory biomarkers (interleukin-6, interleukin-8, and tumor necrosis factor-alpha) with severity of acute pancreatitis. India J Med Specialities. 2024;15(4):235–239. doi: 10.4103/injms.injms_194_23 EDN: PWWTIQ
- Sternby H, Hartman H, Johansen D, et al. IL-6 and CRP are superior in early differentiation between mild and non-mild acute pancreatitis. Pancreatology. 2017;17(4):550–554. doi: 10.1016/j.pan.2017.05.392
- Xu F, Hu X, Li SL. Value of serum CRP and IL-6 Assays combined with pancreatitis activity scoring system for assessing the severity of patients with acute pancreatitis. Pak J Med Sci. 2024;40(1Part-I):145–149. doi: 10.12669/pjms.40.1.7550 EDN: IEZPJB
- Tian F, Lin T, Zhu Q, et al. Correlation between severity of illness and levels of free triiodothyronine, interleukin-6, and interleukin-10 in patients with acute pancreatitis. Med Sci Monit. 2022;28:e933230. doi: 10.12659/MSM.933230 EDN: IUESYK
- Rao SA, Kunte AR. Interleukin-6: an early predictive marker for severity of acute pancreatitis. Indian J Crit Care Med. 2017;21(7):424–428. doi: 10.4103/ijccm.IJCCM_478_16
- Li J, Chen Z, Li L, et al. Interleukin-6 is better than C-reactive protein for the prediction of infected pancreatic necrosis and mortality in patients with acute pancreatitis. Front Cell Infect Microbiol. 2022;12:933221. doi: 10.3389/fcimb.2022.933221 EDN: FAEOJM
- Lin Xu, Meng Lin, Chao Liu, Guochao Zhu. The value of LAR and IL-6 in early diagnosis and prognostic assessment of severe acute pancreatitis. Nutrition Clinique et Métabolisme. 2025;39(2):142–148. doi: 10.1016/j.nupar.2025.04.002
- Penttilä AK, Lindström O, Hästbacka J, et al. Interleukin 8 and hepatocyte growth factor in predicting development of severe acute pancreatitis. Cogent Medicine. 2017;4(1):1396634. doi: 10.1080/2331205X.2017.1396634
- Langmead C, Lee PJ, Paragomi P, et al. A novel 5-cytokine panel outperforms conventional predictive markers of persistent organ failure in acute pancreatitis. Clin Transl Gastroenterol. 2021;12(5):e00351. doi: 10.14309/ctg.0000000000000351 EDN: MQIAXO
- El-Gamal AS, Osman NF, AlKhateap YM, Maarek AM. Role of interleukin-6, interleukin-8, and [beta]-2 microglobulin in assessment of severity of pancreatitis. Menoufia Med J. 2020;33(4):1335–1340.
- Carrière K, Khoury B, Günak MM, Knäuper B. Mindfulness-based interventions for weight loss: a systematic review and meta-analysis. Obes Rev. 2018;19(2):164–177. doi: 10.1111/obr.12623
- Rau B, Baumgart K, Paszkowski AS, et al. Clinical relevance of caspase-1 activated cytokines in acute pancreatitis: high correlation of serum interleukin-18 with pancreatic necrosis and systemic complications. Crit Care Med. 2001;29(8):1556–1562. doi: 10.1097/00003246-200108000-00010
- Liang J, Zhou Y, Wang Z, Chen H. Relationship between liver damage and serum levels of IL-18, TNF-alpha and NO in patients with acute pancreatitis. Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao. 2010;30(8):1912–1914.
- Endo S, Inoue Y, Fujino Y, et al. Interleukin 18 levels reflect the severity of acute pancreatitis. Res Commun Mol Pathol Pharmacol. 2001;110(5–6):285–291.
- Inagaki T, Hoshino M, Hayakawa T, et al. Interleukin-6 is a useful marker for early prediction of the severity of acute pancreatitis. Pancreas. 1997;14(1):1–8. doi: 10.1097/00006676-199701000-00001
- Laveda R, Martinez J, Munoz C, et al. Different profile of cytokine synthesis according to the severity of acute pancreatitis. World J Gastroenterol. 2005;11(34):5309–5313. doi: 10.3748/wjg.v11.i34.5309
- Kostić I, Spasić M, Stojanovic B, et al. Early cytokine profile changes in interstitial and necrotic forms of acute pancreatitis. Serbian J Exp Clin Res. 2015;16(1):33–37. doi: 10.1515/SJECR-2015-0005
- Sternby H, Hartman H, Thorlacius H, Regnér S. The initial course of IL-1β, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12, IFN-γ and TNF-α with regard to severity grade in acute pancreatitis. Biomolecules. 2021;11(4):591. doi: 10.3390/biom11040591 EDN: GTVCRD
- Bai J, Bai J, Yang M. Interleukin-22 attenuates acute pancreatitis-associated intestinal mucosa injury in mice via STAT3 activation. Gut Liver. 2021;15(5):771–781. doi: 10.5009/gnl20210 EDN: VMQBTB
- Chen CC, Wang SS, Lee FY, et al. Proinflammatory cytokines in early assessment of the prognosis of acute pancreatitis. Am J Gastroenterol. 1999;94(1):213–218. doi: 10.1111/j.1572-0241.1999.00709.x EDN: BDGYQJ
- Jiang CF, Shiau YC, Ng KW, Tan SW. Serum interleukin-6, tumor necrosis factor alpha and C-reactive protein in early prediction of severity of acute pancreatitis. J Chin Med Assoc. 2004;67(9):442–446.
- Kumar S, Aziz T, Kumar R, et al. Diagnostic accuracy of interleukin-6 as a biomarker for early prediction of severe acute pancreatitis: a systematic review and meta-analysis. J Family Med Prim Care. 2025;14(2):667–674. doi: 10.4103/jfmpc.jfmpc_1366_24 EDN: JGFQZJ
- Vasseur P, Devaure I, Sellier J, et al. High plasma levels of the pro-inflammatory cytokine IL-22 and the anti-inflammatory cytokines IL-10 and IL-1ra in acute pancreatitis. Pancreatology. 2014;14(6):465–469. doi: 10.1016/j.pan.2014.08.005
- Jin M, Zhang H, Wu M, et al. Colonic interleukin-22 protects intestinal mucosal barrier and microbiota abundance in severe acute pancreatitis. FASEB J. 2022;36(3):e22174. doi: 10.1096/fj.202101371R EDN: ENCLXO
Дополнительные файлы