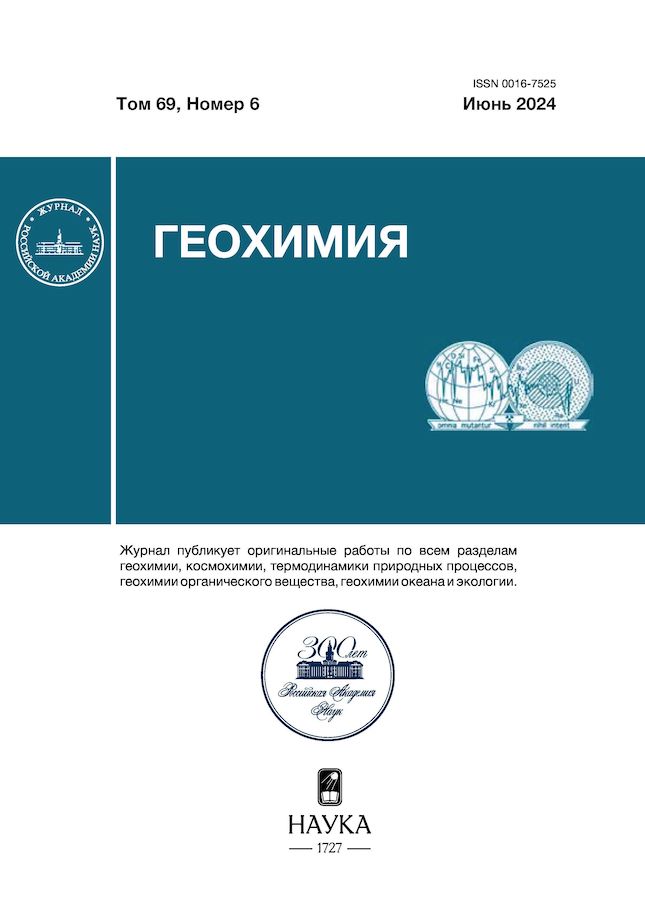Исследование влияния различных факторов на рост кристаллов из раствора с помощью атомно-силовой микроскопии
- Авторы: Пискунова Н.Н.1
-
Учреждения:
- Институт геологии им. академика Н. П. Юшкина ФИЦ Коми НЦ УрО РАН
- Выпуск: Том 69, № 6 (2024)
- Страницы: 535-548
- Раздел: Статьи
- URL: https://journals.eco-vector.com/0016-7525/article/view/660523
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0016752524060045
- EDN: https://elibrary.ru/JAZRUA
- ID: 660523
Цитировать
Полный текст
Аннотация
В целях кристаллогенетической реконструкции процессов роста кристаллов минералов и установления фундаментальных закономерностей роста в наномасштабе, проведено моделирование влияния различных факторов на характеристики послойного роста кристаллов из раствора с помощью атомно-силовой микроскопии. В эксперименте по росту в области царапины, с помощью оригинального метода обработки данных АСМ показано, что диаграммы средней скорости представляют собой картину процесса самоорганизации — устойчивых автоколебаний скорости роста. Сравнение результатов с данными по росту аналогичных холмиков без какого-либо воздействия, позволяют сделать вывод о том, что гигантские флуктуации и явление одновременного роста и растворения на локальных участках вызваны именно наноиндентированием, когда напряжение от специально созданных дефектов сильно повлияло на эволюцию поверхности. В АСМ-эксперименте по захвату твердых инородных частиц растущим кристаллом на наноуровне зарегистрирован процесс формирования винтовой дислокации, инициированный частицей примеси. Для теоретического объяснения процесса предложен трехстадийный механизм, который заключается в релаксации напряжений вокруг примесной частицы путем формирования одной или нескольких дислокаций еще до ее зарастания на первой стадии, присоединения к ним краевых дислокаций в момент зарастания на второй стадии и появлением результирующей дислокации после полного зарастания частицы на третьей стадии. При изучении роста в проточной ячейке, установлен механизм переориентирования холмика роста по направлению потока в наномасштабе, а также зарегистрировано явление смены доминирующего холмика. Полученные картины растворения в протоке, являются яркой демонстрацией принципа Кюри, утверждающего сохранение тех элементов симметрии объекта, которые совпадают с симметрией окружающей среды.
Ключевые слова
Полный текст
Об авторах
Н. Н. Пискунова
Институт геологии им. академика Н. П. Юшкина ФИЦ Коми НЦ УрО РАН
Автор, ответственный за переписку.
Email: piskunova@geo.komisc.ru
Россия, 167982, Сыктывкар, ул. Первомайская, 54
Список литературы
- Асхабов А. М., Маркова Н. Н. (с 1996 г. — Пискунова Н. Н.) (1997) Влияние гидродинамики на кинетические параметры роста кристаллов из раствора. ДАН. 353(4), 462–464.
- Пискунова Н. Н. (2011) Кристаллы из лекарственных растворов как модельные объекты для изучения элементарных процессов роста и растворения. Минералогические перспективы: Материалы межд. минерал. семинара с межд. участием, 17–20 мая 2011 г. Сыктывкар: Геопринт, 132–134.
- Пискунова Н. Н., Никулова Н. Ю., Крючкова Л. Ю., Исаенко С. И. (2016)Наноморфология зерен пирита из туфогравелитов хребта Сабля. Современные проблемы теоретической, экспериментальной и прикладной минералогии: Материалы III межд. мин. семинара с межд. участием, 17–20 мая 2016 г. Сыктывкар: Геопринт, 51–53.
- Пискунова Н. Н., Сокерина Н. В., Николаев А. Г., Исаенко С. И., Попов М. П. (2018) Наноморфология включений в кристаллах фенакита Уральских Изумрудных копей. Современные проблемы теоретической, экспериментальной и прикладной минералогии: Материалы IV мин. семинара с межд. участием, 22–24 мая 2018 г. Сыктывкар: Геопринт, 81–82.
- Пискунова Н. Н., Кряжев А. А. (2021) Нано- и микроморфологические доказательства коллоидной структуры содержимого включений кольцевых силикатных кристаллов. Вестник геонаук. 8(320), 16–26.
- Пригожин И., Кондепуди Д. (2002) Современная термодинамика. От тепловых двигателей до диссипативных структур. М.: Мир, 461 с.
- Рашкович Л. Н., Петрова Е. В., Шустин О. А., Черневич Т. Г. (2003) Формирование дислокационной спирали на грани (010) кристалла бифталата калия. Физика твердого тела. 45(2), 378.
- Сокерина Н. В., Пискунова Н. Н. (2011) Условия роста кристаллов кварца на месторождении Желанное, приполярный Урал (по данным изучения флюидных и твердых включений). Геохимия. (2), 192–201.
- Sokerina N. V., Piskunova N. N. (2011) Growth Condition of Quartz Crystals at the Zhelannoe Deposit in the Nether Polar Urals: Evidence from Fluid and Solid Inclusions. Geochem. Int. 49(2), 181–190.
- Сокерина Н. В., Шанина С. Н., Зыкин Н. Н., Пискунова Н. Н., Исаенко С. И. (2013) Условия формирование золоторудной минерализации на проявлении Синильга, Приполярный Урал (по данным изучения флюидных включений). ЗРМО. (6), 89–105.
- Трейвус Е. Б., Пискунова Н. Н., В. И. Силаев. (2011) Метакристаллы пирита с Приполярного Урала с признаками пластических деформаций. Материалы межд. минерал. семинара с межд. участием, 17–20 мая 2011 г. Сыктывкар: Геопринт, 150–153.
- Трейвус Е. Б., Пискунова Н. Н., Симакова Ю. С. (2011) Скульптура кубических граней кристаллов пирита из Испании и возможная причина ее возникновения. Известия Коми научного центра УрО РАН. (8), 60–64.
- Чернов A. A., (1975) Устойчивость плоского фронта при анизотропной поверхностной кинетике. В кн. Рост кристаллов. Т. 11. Ереван: изд. Ереванского ун-та, 221–230.
- Чернов А. А., Гиваргизов Е. И., Багдасаров Х. С., Кузнецов В. А., Демьянец Л. Н., Лобачев А. Н. (1980) Современная кристаллография. Т. 3. М.: Наука, 407с.
- Capellades G., Bonsu J. O., Myerson A. S. (2022) Impurity Incorporation in Solution Crystallization: Diagnosis, Prevention, and Control. Cryst. Eng. Comm. 24, 1989–2001.
- Davis K. J., Nealson K. H., Lüttge A. (2007) Calcite and dolomite dissolution rates in the context of microbe–mineral surface interactions. Geobiology. 5(2), 191–205.
- Elhadj S., Chernov A. A., De Yoreo J. (2008) Solvent-mediated Repair and Patterning of Surfaces by AFM. Nanotechnol. 19, 105304 (1–9).
- Heiman R. B. (1975) Auflösung von Kristallen. Theorie und technische Anwendung. New York: Springer-Verlag, 45–65.
- Land T. A., Martin T. L., Potapenko S., Palmore G. T., De Yoreo J. J. (1999) Recovery of Surfaces from Impurity Poisoning During Crystal Growth. Nature. 399(3), 442–445.
- Lee-Thorp J.P., Shtukenberg A. G., Kohn R. V. (2017) Effect of Step Anisotropy on Crystal Growth Inhibition by Immobile Impurity Stoppers. Cryst. Growth Des. 17(10), 5474–5487.
- Lucre`ce H., Nicoud A., Myerson S. (2019) The Influence of Impurities and Additives on Crystallization. In: Handbook of Industrial Crystallization. (Eds.: Myerson, A.S.; Erdemir, D.; Lee, A.Y.). Cambridge: Cambridge University Press. 4, 115–135.
- Lutjes N. R., Zhou S., Antoja-Lleonart J., Noheda B., Ocelík V. (2021) Spherulitic and rotational crystal growth of Quartz thin films. Sci. Rep. 11, 14888.
- Nakada T., Sazaki G., Miyashita S., Durbin S. D., Komatsu H. (1999) Direct AFM Observations of Impurity Effects on a Lysozyme Crystal. J. Cryst. Growth. 196, 503–510.
- Poornachary S. K., Chow P. S., Tan R. B.H. (2008) Impurity Effects on the Growth of Molecular Crystals: Experiments and Modeling. Adv. Powder Technol. 19, 459–473.
- Rusli I. T., Schrader G. L., Larson M. A. (1989) Raman spectroscopic study of NaNO3 solution system — solute clustering in supersaturated solutions. J. Cryst. Growth. 97(2), 345–351.
- Silaev V. I., Kokin A. V., Kiseleva D. V., Piskunova N. N., Lutoev V. P. (2013) New Potentially Industrial Type of Indium Sulfide-Manganese Ore. In: Indium. Properties, Technological Applications and Health Issues (Eds.: Hsaio G. Woo, Huang Tsai Choi). New York: Nova Science Publishers, 261–272.
- Teng H., Dove P., Orme C., De Yoreo J. (1998) Thermodynamics of Calcite Growth: Baseline for Understanding Biomineral Formation. Science. 282, 724–727.
- Zareeipolgardani B., Piednoir A., Colombani J. (2019) Tuning biotic and abiotic calcite growth by stress. Cryst. Growth Des. 19(10), 5923–5928.
- Zhong X., Shtukenberg A. G., Hueckel T., Kahr B., Ward M. D. (2018) Screw Dislocation Generation by Inclusions in Molecular Crystals. Cryst. Growth Des. 18(1), 318–323.
Дополнительные файлы