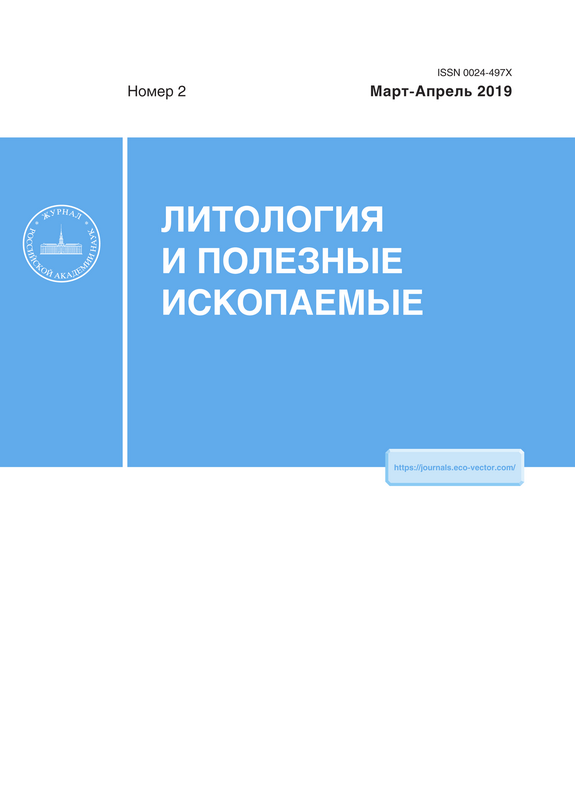Geological and biological reasons for the collapse of reef formation, Paleozoic
- Authors: Kuznetsov V.G.1, Zhuravleva L.M.1
-
Affiliations:
- Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University)
- Issue: No 2 (2019)
- Pages: 119-129
- Section: Articles
- URL: https://journals.eco-vector.com/0024-497X/article/view/11515
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0024-497X20192119-129
- ID: 11515
Cite item
Full Text
Abstract
Paleozoic reef formation developed cyclically, and its global termination has been caused by the biological reasons — biotic crises and mass extinctions near the borders early and middle Cambrian, Ordovician and Silurian, Frasnian and Famennian, Serpukhovian and Bashkirian, Permian and Triassic. The Early Cambrian reef formation has ended along with disappearance of archaeocyathid. In the later stages reefs were much more difficult ecosystems, and they stopped developing before the full extinction of the reef-building communities. The interruption of reef formations within the separate stages have been connected with the geological and paleogeographic reasons – volcanism, regression, climate aridization etc.
Full Text
Рифовые сооружения являются одним из важных элементов осадочного чехла. Их геологическое значение весьма велико — это один из наиболее показательных объектов для исследования во-первых, биогенного карбонатообразования и последующих преобразований пород, во-вторых, взаимовлияния жизни и геологических процессов.
Рифовая биоценотическая система представляет собой один из наиболее сложных биологических объектов на планете, как по составу и разнообразию участвующих в ней организмов, так и по способам их функционирования и взаимосвязям, что является результатом длительной эволюции.
В целом, жизнь в течение геологического времени, включая созданные организмами биоценозы, развивались и усложнялись не прямолинейно — в геологической истории отмечаются как периоды бурного расцвета, так и периоды большего или меньшего затухания, вплоть до массовых вымираний, однако, несмотря на подобную неравномерность развитие идет по пути последовательного усложнения. Это, в частности, прослеживается в формировании палеозойских рифов. Их развитие, равно как и исчезновение, обусловлено как геологическими, так и биологическими причинами. Анализ влияния тех и других факторов составило цель настоящей статьи.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ И ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ
Рифовые образования представляют собой своеобразные объекты, в формировании которых тесно взаимодействуют и переплетаются геологические и биологические факторы, поэтому они являются как геологическими, так и биологическими, а ископаемые — палеобиологическими объектами. В биоценозе большинства рифов организмы представлены скелетными, в том числе, каркасными формами, но существуют постройки, созданные бактериально-водорослевыми сообществами, которые, несколько утрируя, часто описываются обобщенным термином «иловые холмы».
С точки зрения геологии, риф — это карбонатный массив, сложенный, по крайней мере, частично, остатками организмов и продуктами их разрушения, возвышающийся в период своего формирования над дном окружающего моря и образующий волнолом. Поскольку скорость роста рифа превышает скорость накопления окружающих осадков, его мощность больше мощности вмещающих синхронных отложений, что и определяет холмовидную форму последнего. При этом локализация рифов, их развитие и, соответственно, строение, а также развитие в истории Земли, связанное с общей эволюцией планеты, подтверждают отнесение рифов к объектам геологического профиля.
С точки зрения биологии эти объекты являются продуктами жизнедеятельности организмов, образующих сложный биоценоз, характеризующийся значительным разнообразием функционально различных организмов — активных и пассивных рифостроителей, рифолюбов. Эта сложная экосистема система функционирует в определенных условиях и видоизменяется согласно общей эволюции органического мира.
В геологической истории Земли были эпохи широкого развития рифов и, напротив, эпохи резкого ослабления рифообразования и даже отсутствия рифов. В частности, в палеозое установлено пять этапов активного развития рифов — ранний кембрий, средний–поздний ордовик, силур–фран, поздний визе–серпухов, пермь–триас.
Прекращение рифообразования, как правило, связывают с геологическими причинами — изменениями палеогеографической ситуации, климата, регрессиями и другими геологическими факторами. Вместе с тем, установлены и другие, биологические, причины этого феномена. Анализ соотношения этих факторов, двойного воздействия как причин прекращения развития рифов на примере палеозойского этапа геологической истории составил содержание настоящего сообщения.
РАЗВИТИЕ РИФОВ В ПАЛЕОЗОЕ
Поставленную проблему целесообразно рассмотреть в историческом аспекте, поэтому, прежде всего, необходимо дать краткий обзор палеозойского рифообразования и его соотношения с крупнейшими биотическими событиями — массовыми вымираниями, которые установлены на границах раннего и среднего кембрия, ордовика и силура, франского и фаменского, серпуховского и башкирского веков, перми и триаса.
В венде, при относительном разнообразии, многоклеточные были мягкотелыми, бесскелетными и не обладали способностью создавать какие-либо твердые и, тем более, каркасные образования. Формой нахождения бактерий, в том числе, цианей, были биопленки, биоматы, что обусловило формирование слоистых строматолитов. Столбчатые строматолиты, как показали И. К. Королюк [1960], В. П. Маслов [1960], см. также [Кузнецов, 2008] возвышались над дном водоема на несколько сантиметров и также не формировали рельефных форм.
Само появление рифов, в указанном узком смысле, было обусловлено становлением и развитием в кембрии групп организмов с известковым скелетом, способных к тому же создавать определенный каркас.
Наиболее полно кембрийские рифы развиты и изучены на Сибирской платформе и в пределах Алтае-Саянской складчатой области.
Биогермы и биогермные массивы, созданные, в том числе, археоциатами, появились на Сибирской платформе практически с начала кембрия, а рифы — с середины томмотского века. Первые образования были микробиально-водорослевыми. Становление именно рифов было обусловлено появлением кубковидных археоциат и индивидуализированных организмов, выделенных В. А. Лучининой [1989, 1990] в особую группу кальцибионтов, или, по другой терминологии, кальцимикробов — ренальцисов, хабаковий и, особенно, ветвистых вертикально растущих эпифитонов. Конечно, тончайшие хрупкие веточки последних были не очень стойкими, но все же росли вверх и задерживали карбонатный ил.
Археоциатово-водорослевые рифы закончили свое развитие с вымиранием археоциат к на- чалу среднего кембрия. Они, в частности, образуют Западно-Якутский барьерно-рифовый комплекс на границе Юдомо-Оленекского глубоководного бассейна с черносланцевой седиментацией на северо-востоке (в современных координатах) с расположенным западнее и юго-западнее шельфовым Турухано-Иркутско-Олекминским бассейном. Другая группа рифов обрамляет отдельные отмели в пределах шельфового бассейна — Непско-Ботуобинскую, Байкитскую и в пределах бассейна — Далдыно-Мархинскую и Туруханскую [Кузнецов и др., 2000; Стратиграфия …, 2016]. Позднее, в начале среднего кембрия, рифообразование было чисто микробиально-водорослевым (рис. 1).
Рис. 1. Схема стратиграфического распределения рифов в кембрии Сибирской платформы. Интервалы развития археоциатовых рифов заштрихованы.
В Алтае-Саянской области археоциаты появились позже, и рифы формировались начиная с атдабанского века (базаихский подгоризонт местной стратиграфической шкалы), в ряде случаев закончили свое развитие в ботомском веке, но в отдельных районах продолжали формироваться и в обручевское время, сопоставимое с тойонским веком общей шкалы (рис. 2). Прекращение образования рифов с археоциатами в раннем и продолжение микробиально-водорослевого в среднем кембрии отмечено и в глобальном масштабе [Zhuravlev, 2001]. Ситуация существенно, изменилась, когда в результате великой ордовикской биодиверсификации спектр организмов-рифостроителей значительно расширился и включил табулят, ругоз, строматопороидей, мшанок при постоянном присутствии микробиально-водорослевых сообществ. Созданные ими рифы достаточно широко развиты в среднем ордовике, сандбийском и низах катийского яруса верхнего ордовика. Рифы этого возраста известны в Северном и Центральном Казахстане, на Пай-Хое и Печорском Урале, частично, Прибалтике [Антошкина, 1994, 2003; Львова и др., 1964; Мянниль, Эйнасто, 1968; Никитин и др., 1974; Copper, 2001a, b; Webby, 2002].
Рис. 2. Схема стратиграфического распределения рифов в кембрии Алтае-Саянской области [Задорожная, 1986]. 1 — усинская свита (массивные археоциатово-водорослевые известняки); 2 — тонкослоистые черные известняки; 3 — тонкослоистые черные известняки и доломиты; 4 — гравелиты и конгломераты с биогермами; 5 — эффузивы, туфы с прослоями известняков и алевролитов. Свиты: as — азертальская, sl — солонцовская, bgr — баградская, dm — долгомасская, kr — куренинская, tn — тунгужульская, bg — богоюльская.
На Северном и Полярном Урале изучены рифы верхнего катия. Нижнехирнантские отложения представлены седиментационно-диагенетическими брекчиями бадьяшорской свиты, перекрытые, в свою очередь, мелководными карбонатами каменнобабской свиты [Антошкина и др., 2015]. Другими словами, карбонатонакопление в хирнантском веке продолжалось, но рифов не отмечено. Вместе с тем, в ряде районов — в Прибалтике, Восточной Канаде — в хирнанте продолжали формироваться небольшие постройки — микробиально-водорослевые биогермы. Каркасные, потенциально рифостроящие организмы еще существовали, но вне рифового биоценоза (рис. 3).
Рис. 3. Схема стратиграфического распределения рифов и биогермов в верхнем ордовике. 1 — рифы; 2 — биогермы, покрывающие рифы отложения; 3 — известняки; 4 — обломочные породы.
После биотического кризиса и массового вымирания на границе ордовик–силур рифообразование достаточно быстро восстановилось и с теми или иными вариациями продолжалось до конца франа, до следующего кризиса на границе франа — фамена, известного как событие Келльвассер. Вообще девон — один из максимумов рифостроения в истории Земли, а в палеозое особенно. Набор рифостроителей был в целом тем же, по крайней мере, на уровне классов — строматопороидеи, ругозы, табуляты, разнообразные водоросли, в меньшей степени, мшанки.
Как и в предыдущем случае, рифы исчезли до конца франа, еще до глинистых слоев, фиксирующих указанное событие Келльвассер, причем, потенциально рифостроящие строматопороидеи встречаются даже в низах фамена, но значения в строении рифов они не имеют. Подобная картина наблюдается в девоне обрамления Прикаспийской впадины, Тимано-Печорской синеклизе, Западно-Канадском бассейне, бассейне Кэннинг Западной Австралии, Южном Китае, Гарце Германии (рис. 4) [Кузнецов, Журавлева, 2018а, б; Журавлева, 2017; Gelszetzer, 1995; Playford et al., 1989; Shen et al., 2010; Veevers, Wells, 1961; Weller, 1991].
Рис. 4. Схема стратиграфического распределения рифов и иловых холмов вблизи границы франа и фамена. 1 — каркасные рифы; 2 — иловые холмы; 3 — не рифовые карбонатные отложения; 4 — глинистые толщи; 5 — стратиграфические перерывы.
В течение этого периода рифообразования существовали рифы достаточно длительного развития. Таковы, например, «герцинские известняки» Урала — силурийско-нижнедевонский рифовый комплекс. Чаще же отдельные рифы имели более ограниченный возрастной интервал и перекрывались не карбонатными породами — солями и глинами. Примерами первых являются соленосные толщи формации Сэлайна верхнего силура Мичиганского бассейна США, Маскег, Блэк-Крик и их возрастных аналогов девона Западно-Канадского бассейна, вторых — формация Айртон того же бассейна, воробьевские, муллинские, саргаевские, мендымские, волгоградские глины девона Нижнего Поволжья и Прикаспийской впадины и др.
В фаменский век наступил длительный период формирования микробиально-водорослевых иловых холмов с редкими остатками скелетной фауны, не имеющей однако породообразующего значения, продлившийся в течение фамена, турне и значительной части визе.
Следующий, поздневизейско-серпуховский, этап интенсификации, который закончился в связи с биотическим кризисом на границе серпухов-башкир, характеризовался относительно ограниченным набором рифостроящих организмов — это мшанки, водоросли, кальцибионты, хотя присутствуют фораминиферы, кораллы, криноидеи [Кузнецов, Антошкина, 2005].
Пермское рифообразование локализовалось в двух палеогеографических областях — континентальном блоке северной Пангеи и в Палеотетисе. Рифообразование в первой происходило в ранней (восток Русской платформы), в средней и, возможно, начале поздней перми (Пермский бассейн США, цехштейн Европы). Основными рифостроителями были мшанки, тубифиты, в меньшей степени губки, различные водоросли. В биоценоз входили многочисленные и разнообразные фораминиферы, брахиоподы и другие организмы. Прекращение рифообразования во всех случаях было обусловлено палеогеографическими причинами — сменой карбонатонакопления осаждением соленосных толщ конца артинского и кунгурского ярусов в ранней перми, солей формации Очоа в США и серии Верра в Европе, и никак не связаны с биотическими событиями.
Иная картина в Тетической области. Среднепермские рифы развиты на Памире, Приморье, Южном Китае. Позднепермское рифообразование было менее интенсивным, и рифы этого возраста известны на Кавказе (урушанский горизонт) и Южном Китае в пределах платформы Янцзы. Рифовый биоценоз этих образований включал широкий спектр организмов — многочисленные и, главное, разнообразные сфинктозои, инозои, мшанки, водоросли, кальцимикробы, среди некаркасных — брахиоподы, моллюски, фораминиферы, иглокожие.
На ряде детально изученных примеров примеров рифов этого региона показано, что рифы закончили свое развитие до конца перми (рис. 5), причем, организмы — потенциальные рифостроители в это время еще существовали, как в областях рифообразования, то есть в палеогеографических, в том числе, и палеогеоморфологических условиях, благоприятных для формирования рифов (тот же Южный Китай) [Enos, 1995; Fan et al., 1982; Li Shushun et al.,1985; Liu Huaibo et al., 1991; Wu Xichin et al., 1990], так и во внерифовых обстановках, например, Закавказье [Развитие и смена …, 1965].
Рис. 5. Схема стратиграфического распределения рифов в средней и верхней перми.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Приведенные выше материалы показывают, что прекращение формирования рифов на глобальном уровне, который отмечает границы основных этапов палеозойского рифообразования вообще, обусловлено биологическими причинами — массовыми вымираниями биоты, в том числе, рифостроящей, во время биотических кризисов на границах ранний‒средний кембрий, ордовик–силур, фран–фамен, серпухов–башкир и пермь–триас.
При этом ход подобного процесса несколько различен для разных этапов. В кембрии каркасные рифы прекратили свое существование одновременно с исчезновением археоциат — единственных скелетных каркасообразующих организмов той эпохи. На границах франа и фамена, перми и триаса рифы перестали формироваться до завершения биотического кризиса, когда потенциальные каркасообразующие рифостроители еще существовали. К сожалению, в интервале серпухов — башкир не удалось найти содержащих рифы разрезов с очень дробной стратиграфической разметкой, поэтому точное время прекращения рифообразования на этой границе не установлено.
Подобное обстоятельство — специфика прекращения рифообразования в моменты разных биотических кризисов можно, видимо, связывать со свойствами рифовой экосистемы и ее особенностями на разных этапах палеозойской истории.
В процессе сукцессии рифы через какое-то время достигают климаксной стадии — полного становления сложного биоценоза, одной из особенностей которого является обилие и, главное, разнообразие рифостроящих и обитающих, в том числе, поставляющих карбонатный материал, на нихорганизмов. При этом количество индивидуумов одного вида или рода может быть относительно невелико. Последнее означает, что в этих конкретных условиях сложились не только медиотопические, но и многочисленные взаимовыгодные трофические связи, которые обусловливают оптимальное развитие всей системы при данных фациально-палеогеографических и геохимических условиях внешней среды. Если же эти условия меняются, то сбалансированная, но в целом замкнутая сама на себя система, оказывается неустойчивой, быстро деградирует, т. е. рифообразование прекращается, хотя отдельные составляющие ее компоненты — потенциально рифостроящие таксоны продолжают существовать, но уже не в рифовом биоценозе. Собственно вымирание и смена таксонов происходит несколько позднее, отражая в целом сам ход этого феномена — постепенное, в геологическом смысле быстрое, но никак не одномоментное, мгновенное событие. Естественно, что при этом раньше исчезает более организованная биота — те же каркасообразующие строматопороидеи, кораллы, мшанки, кальциспонги, а более толерантные и устойчивые к изменениям условий водоросли и, особенно, бактериальные сообщества еще существуют и могут даже создавать морфологически выраженные постройки, в том числе, биостромы и биогермы, завершая предыдущее каркасное рифообразование.
После подобного кризиса в течение краткого или длительного времени, формируются микробиально-водорослевые образования — иловые холмы, хотя потенциально рифостроящая фауна в это время, может быть, еще и существует, но, повторим, вне рифовой экосистемы.
Исключение для кембрийского периода, когда рифообразование прекращается вместе с исчезновением археоциат, лишь подтверждает высказанное положение. Дело в том, что кембрийский биоценоз еще очень примитивен, биота была практически однообразна, и такой сложной экосистемы, как в более поздние времена, еще не сложилось.
Ни в коей мере не ставя задачи выяснять причины биотических кризисов и массовых вымираний, отметим, что подобное обстоятельство является одним, хотя и косвенным контраргументом идеи о причинах массовых вымираний как практически одноактных событиях, обусловленных одним катастрофическим явлением типа импактного воздействия. Процесс вымирания, хотя геологически очень быстрый, продолжается какое-то время. И сложная экосистема рифов реагирует на него быстрее, чем вся биота в целом. Так называемые события отмечают скорее завершение вымирания, а не его причину.
Иная ситуация на более низком, если можно так выразиться, региональном, уровне прекращения образования и развития рифов. Тут ведущими оказываются уже геологические факторы — вулканизм, регрессии, климатические, палеогеографические изменения, приводящие к частичной изоляции бассейнов и смене образования типов пород и т. д.
При региональных регрессиях карбонатонакопление, в том числе, рифообразование, сменяется накоплением глинистых толщ, которые перекрывают рифы и заполняют в той или иной степени глубоководные бассейны предшествующего рифообразования. В случае аридизации климата и частичной изоляции бассейнов аналогичную функцию выполняют толщи эвапоритов. Таковы, например, песчано-глинистые пачки в разрезе силура — нижнего девона на севере Урала (рис. 6), соленосные формации Сэлайна в силуре Мичиганского и Иллинойского бассейнов США, Прериа, Маскег и глинистая Айртон Западно-Канадского бассейна (рис. 7), глинистые и песчано-глинистые отложения воробьевского, муллинского, пашийского, саргаевского, петинского горизонтов, перекрывающих рифы в районах Нижнего Поволжья и обрамления Прикаспийской впадины, серий Верра и Штассфурт в цехштейне Германии и др. Менее изученным в этом отношении является прекращение рифообразования в областях развития вулканизма, но последний также прекращал рост органогенных построек, что, в частности, зафиксировано в пределах Дедебулакской биогермной гряды в Киргизии [Тесленко и др., 1983].
Рис. 6. Циклическое развитие рифов верхнего ордовика–среднего девона на севере Урала [Антошкина, 2003] (изменено с учетом современной стратиграфической схемы). 1 — конгломераты; 2 — песчаники, алевролиты; 3 — кремнисто-глинистые сланцы; 4 — доломиты; 5 — известняки; 6 — глинистые известняки; 7 — рифы; 8 — биогермы, биостромы; 9 — эвапориты.
Рис. 7. Циклическое развитие рифов среднего и верхнего девона Западно-Канадского бассейна. 1 — рифы; 2 — мелководные известняки и доломиты; 3 — глины и глинистые сланцы; 4 — битуминозно-глинистые известняки; 5 — эвапориты (с — каменная соль, ʌ — ангидрит).
Если подобный геологический фактор прекращения рифообразования происходит вблизи границы вымираний, то даже после последующей трансгрессии, наличии палеогеоморфологичеких условий и возобновлении карбонатной седиментации, рифообразование не возобновляется, как это видно, в частности, на примере девона Западно-Канадского бассейна. В среднем девоне после соленакопления, прервавшего рифообразование последнее возобновилось в позднем, но завершающая франский ярус карбонатная формация Ниску рифов не содержит.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В палеозойской истории Земли намечается пять этапов каркасного рифообразования — раннекембрийский, средне–позднеордовикский, силур–франский, поздневизейско–серпуховский, пермский.
Прекращение рифостроения в глобальном масштабе на границах этапов вызвано биологическими причинами — биотическими кризисами и массовыми вымираниями организмов, в том числе, рифостроителей.
В перерывах между этапами рифостроения, как правило, шло формирование иловых холмов микробиально-водорослевой природы. Наиболее массовое и длительное развитие последних — фран–турне –начало визе.
В раннем кембрии образование рифов прекратилось одновременно с исчезновением археоциат; на других этапах оно закончилось раньше окончательного вымирания основных каркасообразующих рифостроителей. Последнее объясняется тем, что сложная, многокомпонентная внутреннесбалансированная экосистема климаксной стадии развития рифов реагирует на изменение внешних условий, приводящих в итоге к биотическому кризису, раньше окончательного вымирания, и каркасное рифообразование прекращается, когда потенциальные рифостроители еще существуют. В значительно более простой экосистемы кембрия этот феномен не наблюдается.
Прекращение рифообразования внутри этапов определяется уже геологическими причинами — регрессиями, вызывавшими смену карбонатонакопления образованием глинистых толщ, аридизацией климата, повлекшей накопление эвапоритов и т. д.
После биотических кризисов и формирования иловых холмов рифообразование возобновлялось с иным, часто принципиально иным, составом рифостроителей, в то время как в новом рифообразовании после перерыва, обусловленного геологическими причинами, состав рифостроящей биоты принципиально не менялся.
БЛАГОДАРНОСТИ
Авторы выражают искреннюю благодарность А. И. Антошкиной за глубокий и доброжелательный анализ рукописи, ценные советы и рекомендации, учтенные в последней редакции.
About the authors
V. G. Kuznetsov
Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University)
Author for correspondence.
Email: vgkuz@yandex.ru
Russian Federation, 65/1, Leninskii pr., Mosсow, 119991
L. M. Zhuravleva
Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University)
Email: zhurawlewa.lilia@yandex.ru
Russian Federation, 65/1, Leninskii pr., Mosсow, 119991
References
- Антошкина А. И. Рифы в палеозое Печорского Урала. СПб.: Наука, 1994. 154 с.
- Антошкина А. И. Рифообразование в палеозое (север Урала и сопредельные области). Екатеринбург: УрО РАН, 2003. 304 с.
- Антошкина А. И., Салдин В. А., Никулова Н. Ю. и др. Реконструкция осадконакопления в палеозое Тимано-Северо-Уральского региона: направления исследований, результаты, проблемы и задачи // Известия Коми научного центра УрО РАН, Сыктывкар. 2015. Вып. 1 (21). С. 55–72.
- Журавлева Л. М. Влияние биотического кризиса на границе франа — фамена на рифообразование в пределах Печорской синеклизы // Известия вузов. Геология и разведка. 2017. № 1. С. 30–36.
- Заварзин Г. А., Рожнов С. В. Рифы в эволюции гео-биологических систем. Постановка проблемы // Рифогенные формации и рифы в эволюции биосферы. М.: ПИН РАН, 2011. С. 4–25.
- Задорожная Н. М. Ископаемые органогенные постройки — особая категория геологических тел // Cов. геология. 1986. № 5. С. 49–58.
- Королюк И. К. Строматолиты нижнего кембрия и протерозоя Иркутского амфитеатра // Геолого-геохимические исследования нефтегазоносных отложений СССР // Тр. ИГИРГИ. Т. 1. М.: Изд-во АН СССР, 1960. С. 112–161.
- Кузнецов В. Г. Существовали ли рифы в протерозое? // Литология и полез. ископаемые. 2008. № 2. С. 202–208.
- Кузнецов В. Г. Рифы позднего ордовика и биотический кризис на границе ордовика‒силура // Стратиграфия. Геол. корреляция. 2018. Т. 26. № 3. С. 24–30.
- Кузнецов В. Г., Антошкина А. И. Поздневизейско-серпуховский этап палеозойского рифообразования // Стратиграфия. Геол. корреляция. 2005. Т. 13. № 4. С. 61‒77.
- Кузнецов В. Г., Журавлева Л. М. Рифовые образования Западно-Канадского бассейна и их нефтегазоносность // Литология и полез. ископаемые. 2018а. № 3. С. 257‒273.
- Кузнецов В. Г., Журавлева Л. М. Девонское рифообразование в обрамлении Прикаспийской впадины // Литология и полез. ископаемые. 2018б. № 5. С. 432‒443.
- Кузнецов В. Г., Илюхин Л. Н., Постникова О.В. и др. Древ- ние карбонатные толщи Восточной Сибири и их нефтегазоносность. М.: Научный мир, 2000. 104 с.
- Лучинина В. А. Известковые водоросли // Микрофоссилии докембрия СССР. М.: Наука. 1989. С. 30‒32.
- Львова Т. Н., Дементьев П. К., Иванов Д. И. и др. Строение рифогенных отложений в нижнем палеозое Северного Казахстана // Материалы по региональной тектонике СССР / Под ред. Н. А. Беляевского. М.: Недра, 1964. С. 44–54.
- Маслов В. П. Строматолиты (их генезис, методы изучения, связь с фациями и геологическое значение на примере ордовика Сибирской платформы // Тр. ГИН СССР. Вып. 41. М.: Изд-во АН СССР, 1960. 188 с.
- Мянниль Р. М., Эйнасто Р. Э. Распространение рифогенных образований ордовика и силура в Балтийском бассейне // Ископаемые рифы и методика их изучения // Труды Третьей палеоэколого-литологической сессии. Свердловск: Институт геологии УФ АН СССР, 1968. С. 72–78.
- Никитин И. Ф., Гниловская М. В., Журавлева И. Т. и др. Андеркенская биогермная гряда и история ее образования // Среда и жизнь в геологическом прошлом. Палеоэкологические проблемы. Новосибирск: Наука, 1974. С. 122–159.
- Одум Ю. Основы экологии. М.: Мир, 1975. 740 с.
- Развитие и смена морских организмов на рубеже палеозоя–мезозоя // Труды ПИН АН СССР. Т. 108. М.: Наука, 1965. 431 с.
- Стратиграфия нефтегазоносных бассейнов Сибири. Кембрий Сибирской платформы. Новосибирск: ИНГГ СО РАН, 2016. Т. 1. 497 с., Т. 2. 344 с.
- Тесленко И. Л., Мамбетов А. М., Журавлева И. Т. и др. Дедебулакская биогермная гряда и история ее развития // Среда и жизнь в геологическом прошлом. Палеобиогеография и палеоэкология / Под ред. О. А. Бетехтиной, И. Т. Журавлевой. Новосибирск: Наука, 1983. С. 124–138.
- Copper P. Reefs during the multiple crises towards the Ordovician‒Silurian boundary: Anticosty Island, eastern Canada, and worldwide // Can. J. Earth Sci. 2001a. V. 38. P. 153–171.
- Copper P. Evolution, Radiations and Extinctions in Proterozoic to Mid-Paleozoic Reefs // The History and Sedimentology of Ancient Reef Systems / Ed. G. D. Stanley. N.Y.: Kluwer Academic, Plenum Publishers, 2001b. P. 89–119.
- Enos P. The Permian of China//Permian of Northern Pangea. V. 2 / Eds P. A. Scholle, T. M. Peryt, D. S. Ulmer-Scholle. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 1995. P. 225‒256.
- Fan J., Ma X., Zhang Y., Zhang W. The Upper Permian Reefs in West Hubei, China // Facies. 1982. V. 6. P. 1–14.
- Geldzetzer H. H. J. The Frasnian–Famennian boundary in western Canada // Event markers in Earth history. Calgary, Alberta, Canada, 1991. P. 35.
- Huaibo L., Rigby J. K., Guisen L. et al. Upper Permian Carbonate Buildaps and Associated Lithofacies, Western Hubei — Eastern Sichuan Provinces, China // AAPG Bull. 1991. V. 75. № 9. P. 1447–1467.
- Lees A., Miller J. Waulsortian banks // Carbonate Mud Mounds // Blackwell Science. 1995. P. 191–272.
- Li Shushun, Liu Dacheng, Gu Shunhua. Characteristics of the Honghua Reef in Kai Country of Sichuan and its Significance in Finding the New Types Hydrocarbon Reservoir // Natural Gas Industry. 1985. V 5. № 2. P. 24–29 (in Chinese with English Abstract).
- Playford P. E., Hurley N. F., Kerans C., Middleton M. F. Reefal platform development, Devon of the Kanning basin, Western Australia // Control on Carbonate Platform and Basin development / Eds P. D. Crevello, J. L. Wilson, J. F. Sarg, J. F. Read // SEPM Spec. Publ. 1989. № 44. P. 187–202.
- Shen J., Webb G. E., Ging H. Microbial mounds prior to the Frasnian‒Famennian mass extinctions, Hantang, Guilin, South China // Sedimentology. 2010. V. 57. P. 1615–1639.
- Veevers J. J., Wells A. T. The Geology of the Canning basin, Western Australia // Bulletin — Bureau of Mineral Resources, Geology and Geophysics Australia. 1961. № 60. 323 p.
- Webby B. D. Patterns of Ordovician reef development // Phanerozoic Reef Patterns // SEPM Spec. Publ. 2002. № 72. P. 129–179.
- Weller H. Facies and development of the Devonian (Givetian/Frasnian) Elbingerode reef complex in the Garz area (Germany) // Facies. 1991. V. 25. P. 1‒50.
- Wu X. C., Liu X. Z., Yang Z. L., Chen Xinsheng. Formation of reef-bound reservoirs of Upper Permian Changxing Formation in East Sichuan // Oil and Gas Geology. 1990. V. 11. № 3. P. 283–299 (in Chinese with English Abstract).
- Zhuravlev A.Yu. Paleoecology of Cambrian Reef ecosystems // The History and Sedimentology of Ancient Reef Systems / Ed. G. D. Stanley. N.Y.: Kluwer Academic, Plenum Publishers, 2001. P. 121–157.
Supplementary files