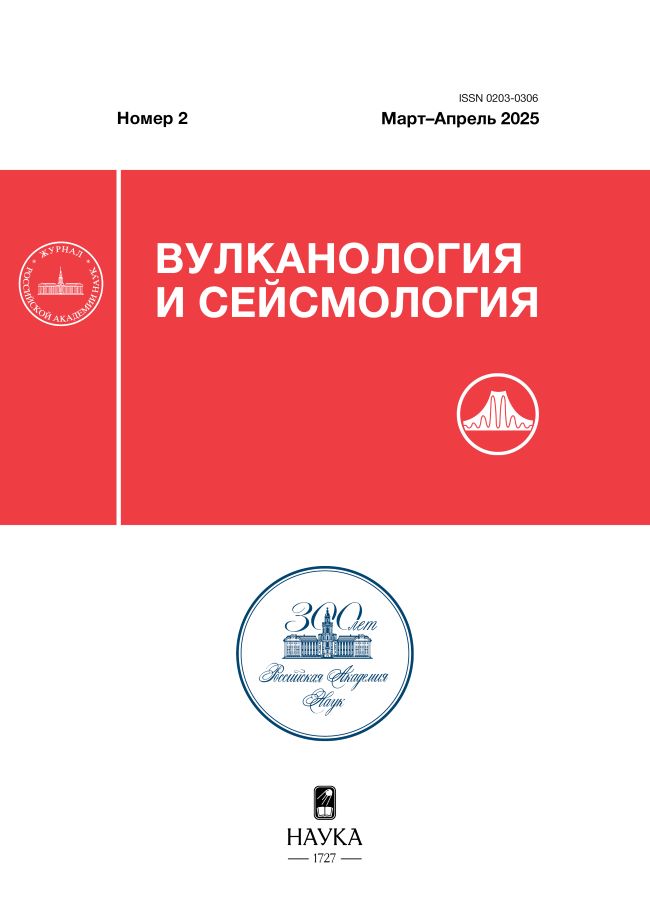Comments on the article by G. N. Kopylova, Yu. K. Serafimova, V. A. Kasimova “On the manifestation of precursors of strong (MW ≥ 6.6) earthquakes in Kamchatka”
- 作者: Saltykov V.A.1
-
隶属关系:
- Kamchatka Branch of the Geophysical Survey of the Russian Academy of Sciences
- 期: 编号 2 (2025)
- 页面: 99-102
- 栏目: DISCUSSIONS
- URL: https://journals.eco-vector.com/0203-0306/article/view/688427
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0203-03062025299-102
- ID: 688427
如何引用文章
全文:
作者简介
V. Saltykov
Kamchatka Branch of the Geophysical Survey of the Russian Academy of Sciences
编辑信件的主要联系方式.
Email: salt@emsd.ru
俄罗斯联邦, 9, Piip Blvd., Petropavlovsk-Kamchatsky, 683006
参考
- Гусев А.А. Прогноз землетрясений по статистике сейсмичности // Сейсмичность и сейсмический прогноз, свойства верхней мантии и их связь с вулканизмом на Камчатке. Новосибирск: Наука, 1974. С. 109–119.
- Копылова Г.Н., Серафимова Ю.К., Касимова В.А. О проявлении предвестников сильных (Mw ≥ 6.6) землетрясений Камчатки // Вулканология и сейсмология. 2025. № 2. С.
- Салтыков В.А. О возможности использования приливной модуляции сейсмических шумов в целях прогноза землетрясений // Физика Земли. 2017. № 2. С. 84–96. https://doi.org/10.7868/S0002333717010124
- Molchan G.M. Strategies in strong earthquake prediction // Phys. Earth and Planet. Inter. 1990. V. 61. P. 84–98.
补充文件
附件文件
动作
1.
JATS XML
2.
Fig. 1. Relationship between earthquake parameters M / lgd and d / L. (a) - functional dependence of d / L on M / lgd for a set of magnitudes; (b) - reconstruction of Fig. 6 from [Kopylova et al. 6 from the paper [Kopylova et al., 2025] in accordance with the data given in it (Tables 2, 3). Filled elements correspond to earthquakes with ECPT, while non-filled elements correspond to earthquakes without ECPT.
下载 (134KB)