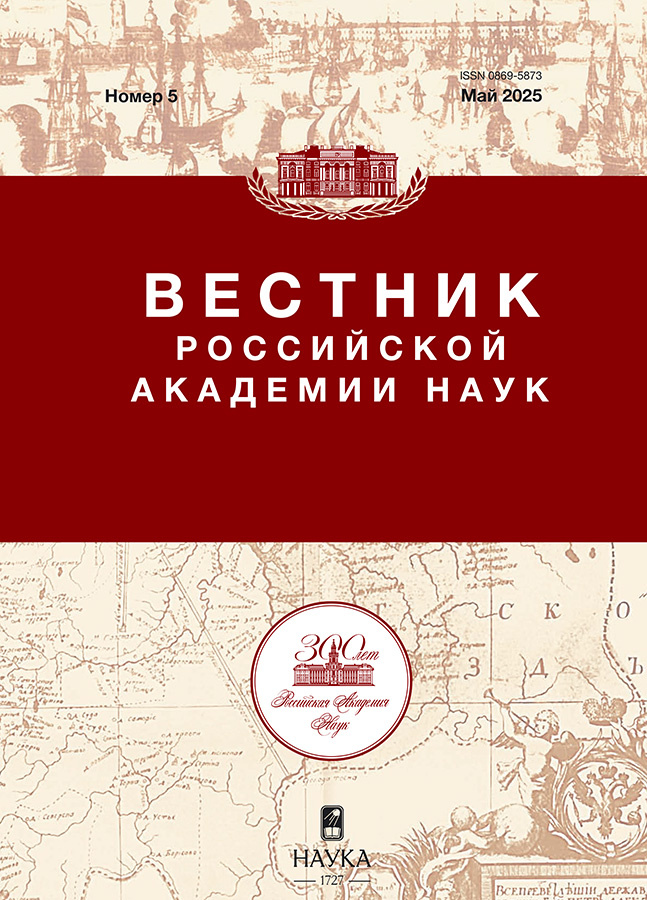Political struggle around the unconditional capitulation of nazi germany
- Authors: Zalessky K.A.1
-
Affiliations:
- Association of Historians of the Second World War named after O.A. Rzheshevsky
- Issue: Vol 95, No 5 (2025)
- Pages: 3-15
- Section: For the 80th anniversary of Victory in the Great Patriotic War 1941–1945
- URL: https://journals.eco-vector.com/0869-5873/article/view/686670
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0869587325050012
- EDN: https://elibrary.ru/EJXMTL
- ID: 686670
Cite item
Abstract
The article is devoted to a dramatic moment in the history of the Great Patriotic War and the Second World War – the signing of the Act of Unconditional Surrender of Nazi Germany. A serious struggle unfolded around this event with the participation of the leadership of Germany, Great Britain, the United States of America and the Soviet Union. The leadership of the USSR did everything possible to prevent the conclusion of a separate peace between Germany and Great Britain, which the government of K. Dönitz sought. The author traces all the stages of this military-political collision, within the framework of which it was not only about the post-war status of Germany, but also about a new system of international relations.
Keywords
Full Text
About the authors
K. A. Zalessky
Association of Historians of the Second World War named after O.A. Rzheshevsky
Author for correspondence.
Email: ka_zet@mail.ru
вице-президент Ассоциации историков
Russian Federation, MoscowReferences
- Heiber H. (Hrsg.) Hitlers Lagebesprechungen. Protokollfragmente seiner militärischen Konferenzen 1942–1945. Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt, 1962.
- Русский архив: Великая Отечественная. Т. 15 (4–5). М.: ТЕРРА, 1995. Russian archive: The Great Patriotic War. Vol. 15 (4–5). Moscow: TERRA, 1995. (In Russ.)
- Дёниц К. Десять лет и двадцать дней. Воспоминания главнокомандующего военно-морскими силами Германии. 1935–1945 гг. М.: Центрполиграф, 2004. http://militera.lib.ru/memo/german/doenitz_k/text.html#t22 (дата обращения 23.01.2025). Dönitz K. Ten Years and Twenty Days. Memories of the Commander-in-Chief of the German Navy. 1935–1945. Moscow: Centerpoligraf, 2004. http://militera.lib.ru/memo/german/doenitz_k/text.html#t22 (accessed 23.01.2025). (In Russ.)
- Монтгомери Б. Мемуары фельдмаршала. М.: Вагриус, 2006. Montgomery B. Memoirs of a Field Marshal. Moscow: Vagrius, 2006. (In Russ.)
- Погью Ф.С. Верховное командование / Сокр. пер. с англ. М.: Воениздат, 1959. Pogyu F.S. Supreme Command / Abridged translation from English. Moscow: Voenizdat, 1959. (In Russ.)
- Кынин Г.П., Морозова И.М. Германия капитулирует безоговорочно // Историко-документальный департамент МИД России. ttps://idd.mid.ru/informational_materials/germaniya-kapituliruet-bezogovorochno/ (дата обращения 9.11.2024). Kynin G.P., Morozova I.M. Germany capitulates unconditionally // Historical and Documentary Department of the Ministry of Foreign Affairs of Russia. https://idd.mid.ru/informational_materials/germaniya-kapituliruet-bezogovorochno/ (accessed 9.11.2024). (In Russ.)
- Эйзенхауэр Д. Крестовый поход в Европу. Смоленск: Русич, 2000. Eisenhower D. Crusade to Europe. Smolensk: Rusich, 2000. (In Russ.)
- Штеменко С.М. Генеральный штаб в годы войны. М.: Воениздат, 1981. Shtemenko S.M. General Staff during the war. Moscow: Voenizdat, 1981.
- Germany Surrenders Unconditionally. Facsimiles of the documents // National Archives publication (Washington, D.C.), 1945. (In Russ.)
- Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами США и Премьер-министрами Великобритании во время Великой отечественной войны 1941–1945 гг. М.: Политиздат, 1958. https://www.hrono.ru/libris/stalin/sc45_05.html (дата обращения 18.11.2024). Correspondence of the Chairman of the Council of Ministers of the USSR with the Presidents of the USA and the Prime Ministers of Great Britain during the Great Patriotic War of 1941–1945. Moscow: Politizdat, 1958. https://www.hrono.ru/libris/stalin/sc45_05.html (11/18/2024). (accessed 18.11.2024) (In Russ.)
Supplementary files