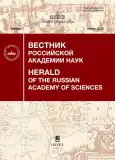“Изумительный дар научного воображения и предвидения”. К 180-летию со дня рождения почётного члена Императорской академии наук И.И. Мечникова
- Авторы: Ульянкина Т.И.1
-
Учреждения:
- Институт истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН
- Выпуск: Том 95, № 7 (2025)
- Страницы: 68-80
- Раздел: ЭТЮДЫ ОБ УЧЁНЫХ
- URL: https://journals.eco-vector.com/0869-5873/article/view/688268
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0869587325070084
- EDN: https://elibrary.ru/FINVLC
- ID: 688268
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Статья представляет собой краткий обзор биографии и главных научных достижений выдающегося российского учёного, нобелевского лауреата И.И. Мечникова. Большое внимание уделено ранним эмбриологическим (зоологическим) экспериментам и наблюдениям, благодаря которым в 1882–1883 гг. Мечников открыл фундаментальную клеточную реакцию иммунитета – фагоцитоз, а вскоре описал основные элементы сложнейшей иммунной системы животных и человека. В истории науки трудно найти другой пример неожиданного использования результатов, полученных при изучении эмбрионального развития низших животных, для описания механизмов, характерных для организма высших животных и человека. Это поразительное интеллектуальное предвидение и обобщение, основанное на научной интуиции. В историю науки И.И. Мечников вошёл и как организатор и глава самой крупной международной научной школы по иммунологии, бактериологии, инфекционной патологии, антропологии и геронтологии в Институте Пастера в Париже, благодаря которой Институт стал одним из крупнейших научных центров в мире. Статья основана на архивных источниках, в том числе отчётах отдела, которым руководил Мечников в Институте Пастера, за 1900–1912 гг. и из личного фонда И.И. Мечникова (№ 584) в Архиве РАН в Москве, а также на его публикациях за 1889–1916 гг. в журнале “Annales de l`Institut Pasteur” и трудах международных конгрессов того времени.
Ключевые слова
Полный текст
Об авторах
Татьяна Ивановна Ульянкина
Институт истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН
Автор, ответственный за переписку.
Email: tatparis70@gmail.com
доктор биологических наук, главный научный сотрудник
Россия, МоскваСписок литературы
- Мечникова О.Н. Жизнь Ильи Ильича Мечникова. М., Л.: Государственное издательство, 1926. / Metchnikov O.N. Life of I.I. Metchnikov M., L.: State Publishing House, 1926. (In Russ.)
- Ульянкина Т.И. Российский Нобелевский лауреат Илья Ильич Мечников (1845–1916) / Предисловие В.А. Черешнева. М.: Архив РАН, 2017. / Ulyankina T.I. Russian Nobel laureate Ilya Ilyich Mechnikov (1845–1916). Moscow: Archive of the Russian Academy of Sciences, 2017. (In Russ.)
- Мечников И.И. История эмбрионального развития Sepiola. Дис. для получения степ. магистра зоологии. СПб.: Тип. Куколь-Яснопольского, 1867. / Metchnikov I.I. History of embryonic development of Sepiola. Diss. for obtaining the degree of Master of Zoology. SPb.: Tip. Kukol-Yasnopolsky, 1867. (In Russ.)
- Metchnikoff I. Embryologische Studien inInsekten. Leipzig: W. Engelmann, 1866.
- Мечников И.И. Страницы воспоминаний. Сборник автобиографических статей / Под ред. Х.С. Коштоянца. М.: Изд-во АН СССР, 1946. / Metchnikov I.I. Pages of Memories. Collection of Autobiographical Articles / Еd. by H.S. Koshtoyants. Moscow: USSR Academy of Sciences publishing house, 1946. (In Russ.)
- Мечников И.И. История развития Nedalida: Сравнительно-эмбриологический очерк // Записки Академии наук. 1868. Т. 132. Кн. 1. Прил. 1. С. 1–48. / Metchnikov I.I. History of the development of Nedalida: Comparative-embryological sketch // Notes of the Academy of Sciences. 1868, vol. 132, book 1, appendix 1, pp. 1–48. (In Russ.)
- Мечников И.И. Борьба за науку в царской России. Неизданные письма И.М. Сеченова, И.И. Мечникова, Л.С. Ценковского и др. М., Л.: Госсоцэкон. издат., 1931. С. 53–55. / Mechnikov I.I. Struggle for Science in Tsarist Russia. Unpublished letters of I.M. Sechenov, I.I. Metchnikov, L.S. Tsenkovsky and others. Moscow: Gossotsekon. publishing house, 1931. P. 53–55. (In Russ.)
- Записки Новороссийского ун-та. 1883. Т. 35. С. 139–140. С. 137. / Zapiski Novorossiyskogo un-ta. 1883, vol. 35, pp. 139–140, p. 137. (In Russ.)
- Письма А.О. Ковалевского к И.И. Мечникову, 1866–1900/ Под ред. Ю.И. Полянского. М., Л.: Изд-во АН СССР, 1955. / Letters of A.O. Kovalevsky to I.I. Metchnikov, 1866–1900 / Ed. by Y.I. Polyansky. M., L.: USSR Academy of Sciences publishing house, 1955. (In Russ.)
- Мечников И.И. Рассказ о том, как и почему я поселился за границей // Мечников И.И. Страницы воспоминаний. Сборник автобиографических статей. М.: Изд-во АН СССР, 1946. / Mechnikov I.I. The story of how and why I settled abroad // Mechnikov I.I. Pages of memories. Collection autobiographical articles. Moscow: Publishing house of the USSR Academy of Sciences, 1946. (In Russ.)
- Зильбер Л.А. Основы иммунитета. М.: Медгиз, 1948. / Zilber L.A. Fundamentals of immunity. Moscow: Medgiz, 1948. (In Russ.)
- Ульянкина Т.И. Зарождение иммунологии. М.: Наука, 1994. / Ulyankina T.I. Origin of immunology. Moscow: Nauka, 1994. (In Russ.)
- Мечников И.И. Письма. 1863–1916 / Под ред. А.Е. Гайсиновича, Б.В. Левшина. М. Наука, 1974. / Metchnikoff I.I. Letters. 1863–1916 / Ed. by A.E. Gaisinovich, B.V. Levshin. M. Nauka, 1974. (In Russ.)
- Мечников И.И. Акад. собр. соч.: в 16 т. М.: Медгиз, 1950–1964. Т. 14. 1959. С. 335–420. / Mechnikov I.I. Acad. collected works: in 16 volumes. Moscow: Medgiz, 1950–1964. Vol. 14. 1959. Pp. 335–420. (In Russ.)
- Мечников И.И. Акад. cобр. соч. в 16 т. М.: Медгиз. Т. 5. С. 16. / Mechnikov I.I. Acad. collected works in 16 volumes. Moscow: Medgiz. Vol. 5. P. 16. (In Russ.)
- Мечников И.И. Акад. cобр. соч. в 16 т. М.: Медгиз. Т. 6. С. 22–29. / Mechnikov I.I. Acad. collected works in 16 volumes. Moscow: Medgiz. Vol. 6. Pp. 22–29. (In Russ.)
- Шабров А.В., Князькин И.В., Марьянович А.Т. Илья Ильич Мечников // Энциклопедия жизни и творчества. СПб.: DEAN, 2008. / Shabrov A.V., Knyazkin I.V., Maryanovich A.T. Ilya Ilyich Mechnikov // Encyclopedia of life and creativity. St. Petersburg: DEAN, 2008. (In Russ.)
- Мечников И.И. Акад. cобр. соч. в 16 т. М.: Медгиз. Т. 14. C. 145. / Mechnikov I.I. Acad. collected works in 16 volumes. Moscow: Medgiz. Vol. 14. P. 145. (In Russ.)
- Silverstein А.M. History of immunology. San Diego: Acad. Press. 1989.
- Ру Э. Письмо. Париж, 15.V.1915 г. // Природа. 1916. Июль–август. С. 900–905. / Roux E. Letter. Paris, 15.V.1915 // Priroda. 1916, July–August, pp. 900–905. (In Russ.)
- Колотилова Н.С. Микробиологические курсы в Институте Пастера: преподаватели и слушатели из России // Российские биологи в Институте Пастера. Научный каталог выставки. М.: Архив РАН, 2010. С. 46. / Kolotilova N.S. Microbiology courses at the Pasteur Institute: teachers and students from Russia // Russian biologists at the Pasteur Institute. Scientific catalogue of the exhibition. Moscow: Archives of the Russian Academy of Sciences, 2010, p. 46. (In Russ.)
- Мечников И.И. Этюды оптимизма / Послесловие и примечание А.А. Тишкова. М.: Наука, 1987. / Mechnikov I.I. Etudes of optimism / Afterword and note by A.A. Tishkov. Moscow: Nauka, 1987. (In Russ.)
- Ульянкина Т.И., Петров Р.В. Институт Пастера в Париже и русская эмиграция. 1917–1940 // Культурное наследие российской эмиграции: 1917–1940. В 2-х кн. Кн.1. М: Наследие, 1994. С. 310–324. / Ulyankina T.I., Petrov R.V. Pasteur Institute in Paris and Russian emigration. 1917-1940 // Cultural Heritage of the Russian Emigration: 1917–1940. In 2 books. Book 1. М: Heritage, 1994. Pp. 310–324. (In Russ.)
Дополнительные файлы