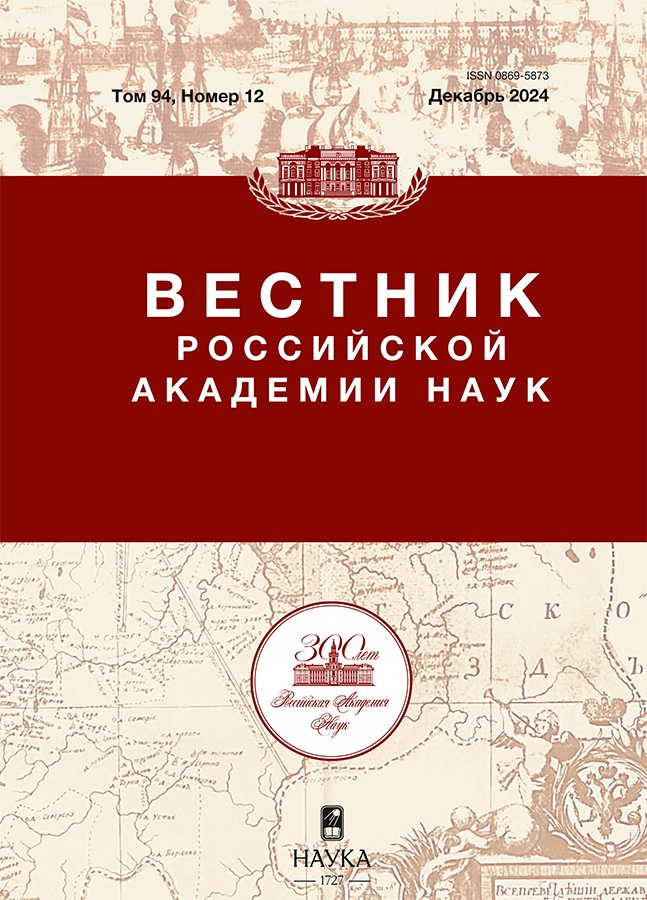Hybrid wars of modern times and national security of Russia
- Authors: Bakhtizin A.R.1, Wu T.2, Khabriev B.R.1, Sidorenko M.Y.3, Wu Z.2
-
Affiliations:
- Central Economics and Mathematics Institute, Russian Academy of Sciences
- Guangzhou Milestone Software Co., Ltd
- Russian Academy of Sciences
- Issue: Vol 94, No 12 (2024)
- Pages: 1100–1114
- Section: НАУКА И ОБЩЕСТВО
- URL: https://journals.eco-vector.com/0869-5873/article/view/677534
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0869587324120043
- EDN: https://elibrary.ru/RIMXJE
- ID: 677534
Cite item
Abstract
The article examines various instruments of hybrid inter-country confrontation, primarily economic wars. The authors of the study, together with colleagues from the National Supercomputer Center of the People’s Republic of China, conducted a stress test of the sustainability of the economic systems of key countries and identified industries for them that, on the one hand, are growth points, and on the other, need protection within the framework of geo-economic confrontation. The shortcomings of the monetary policy implemented in Russia and its negative consequences are shown. In conclusion, a scenario for inflicting economic damage on geopolitical opponents is proposed.
Keywords
Full Text
About the authors
A. R. Bakhtizin
Central Economics and Mathematics Institute, Russian Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: albert.bakhtizin@gmail.com
член-корреспондент РАН, директор
Russian Federation, MoscowTs. Wu
Guangzhou Milestone Software Co., Ltd
Email: jw@gzmss.com
председатель правления компании, исследователь Центра экономической и социальной интеграции и прогнозирования Академии общественных наук КНР, профессор Академии социальных наук провинции Гуандун, консультант Национального суперкомпьютерного центра КНР
China, GuangzhouB. R. Khabriev
Central Economics and Mathematics Institute, Russian Academy of Sciences
Email: bulat199@mail.ru
кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник ЦЭМИ РАН
Russian Federation, MoscowM. Yu. Sidorenko
Russian Academy of Sciences
Email: milana_sidorenko@presidium.ras.ru
заместитель начальника Управления научно-информационной деятельности и взаимодействия с научно-образовательным сообществом РАН
Russian Federation, MoscowZ. Wu
Guangzhou Milestone Software Co., Ltd
Email: wzl@gzmss.com
заместитель председателя правления компании
China, GuangzhouReferences
- Federle J., Meier A., M üller G. et al. The Price of War // CEPR Discussion Paper no. 18834. Paris, London: CEPR Press, 2024.
- Aiyar S., Ilyina A. et al. Geoeconomic Fragmentation and the Future of Multilateralism. Staff Discussion Note SDN/2023/001. Washington: International Monetary Fund, 2023.
- Alvarez J., Andaloussi M.B., Maggi C. et al. Geoeconomic Fragmentation and Commodity Markets // International Monetary Fund Working Paper. 2023, no. 2023/201.
- International Monetary Fund. 2023 // Global Financial Stability Report: Safeguarding Financial Stability amid High Inflation and Geopolitical Risks. Washington, DC. April.
- International Monetary Fund. 2023 // World Economic Outlook: A Rocky Recovery. Washington, DC. April.
- International Monetary Fund. 2023 // World Economic Outlook: Navigating Global Divergences. Washington, DC. October.
- Cevik S. Long Live Globalization: Geopolitical Shocks and International Trade // International Monetary Fund Working Paper. 2023, no. 2023/225.
- Marijn B.A., Chen J., Kett B. Fragmentation in Global Trade: Accounting for Commodities // IMF Working Paper. 2023, no. WP 23/73.
- Góes C., Bekkers E. The Impact of Geopolitical Conflicts on Trade, Growth, and Innovation // World Trade Organization Economic Research and Statistics Division, Staff Working Paper ERSD-2022-09. https://www.wto.org/english/res_e/reser_e/ersd202209_e.htm
- Arriola C. et al. Challenges to international trade and the global economy: Recovery from COVID-19 and Russia’s war of aggression against Ukraine // OECD Trade Policy Papers. 2023, no. 265, pp. 1–54.
- https://www.spglobal.com/en/research-insights/market-insights/geopolitical-risk/evolution-of-deglobalization
- https://www.bloomberg.com/graphics/2019-imf-forecasts
- https://www.forbes.com/sites/dereksaul/2022/05/12/heres-what-putin-got-right-and-wrong-in-his-boasts-about-the-russian-economy
- https://www.cnbc.com/2022/04/04/russias-economy-is-beginning-to-crack-as-economists-forecast-sharp-contractions.html
- https://www.reuters.com/world/europe/jpmorgan-shock-russian-gdp-will-be-akin-1998-crisis-2022-03-03/
- https://www.atlanticcouncil.org/blogs/futuresource/imf-and-world-bank-in-need-of-more-modern-forecasting-methods/
- Макаров В.Л., Бахтизин А.Р., Сулакшин С.С. Применение вычислимых моделей в государственном управлении. М.: Научный эксперт, 2007.Makarov V.L., Bakhtizin A.R., Sulakshin S.S. Application of computable models in public administration. Moscow: Scientific Expert, 2007. (In Russ.)
- Berger H., Karlsson S., Österholm P. A Note of Caution on the Relation between Money Growth and Inflation // International Monetary Fund, IMF Working Paper, WP/23/137. 2023. https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2023/06/30/A-Note-of-Caution-on-the-Relation-Between-Money-Growth-and-Inflation-534322
- Основные направления социально-экономического развития России: обоснование и оценка последствий (по итогам модельных исследований ЦЭМИ РАН). М.: ЦЭМИ РАН, 2023.The main directions of socio-economic development of Russia: justification and assessment of consequences (based on the results of model studies of the CEMI RAS). Moscow: CEMI RAS, 2023. (In Russ.)
- https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2024/03/09/Predicting-IMF-Supported-Programs-A-Machine-Learning-Approach-545753
- Бахтизин А.Р. Вопросы прогнозирования в современных условиях // Экономическое возрождение России. 2023. № 2 (76). С. 53–62.Bakhtizin A.R. Forecasting issues in modern conditions // The economic revival of Russia. 2023, no. 2 (76), pp. 53–62. (In Russ.)
- Макаров В.Л., Ву Ц., Ву З. и др. Современные инструменты оценки последствий мировых торговых войн // Вестник РАН. 2019. № 7. С. 745–754. Makarov V.L., Wu J., Wu Z. et al. World Trade Wars: Scenario Calculations of Consequences // Herald of the Russian Academy of Sciences. 2019, no. 4, pp. 432–438.
- Макаров В.Л., Ву Ц., Ву З. и др. Мировые торговые войны: сценарные расчёты последствий // Вестник РАН. 2020. № 2. С. 169–179. Makarov V.L., Wu J., Wu Z. et al. World Trade Wars: Scenario Calculations of Consequences // Herald of the Russian Academy of Sciences. 2020, no. 1, pp. 88–97.
- https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2024/05/17/1037707-uchenie-s-pomoschyu-superkompyutera-otsenili-poteri-krupnih-ekonomik-v-sluchae-torgovoi-blokadi
- https://nationpowerindex.com
- https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2024/03/01/Medium-term-Macroeconomic-Effects-of-Russias-War-in-Ukraine-and-How-it-Affects-Energy-544043
- https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2024/01/19/The-Leisure-Gains-from-International-Trade-543871
- Sytsma T., Marrone J.V., Shenk A. et al. Technological and Economic Threats to the U.S. Financial System: An Initial Assessment of Growing Risks. Santa Monica, CA: RAND Corporation, 2024. https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA2533-1.html.
- https://www.frbsf.org/economic-research/publications/economic-letter/2023/september/does-monetary-policy-have-long-run-effects
- Miller R.E., Blair P.D. Input-Output Analysis: Foundations and Extensions (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
- Бахтизин А.Р. Гибридные войны и национальная безопасность России // Экономическое возрождение России. 2024. № 2 (80). С. 54–64. Bakhtizin A.R. Hybrid wars and national security of Russia // The economic revival of Russia. 2024, no. 2 (80), pp. 54–64. (In Russ.)
- https://www.bis.org/statistics/cbpol.htm
- https://www.bis.org
- https://www.bnnbloomberg.ca/de-dollarization-is-happening-at-a-stunning-pace-jen-says-1.1909109
- Koráb P., Fidrmuc J., Dibooglu S. Growth and inflation tradeoffs of dollarization: Meta-analysis evidence // Journal of International Money and Finance. 2023, vol. 137, 102915.
- https://ria.ru/20240905/briks-1970796166.html
- https://www.atlanticcouncil.org/programs/geoeconomics-center/dollar-dominance-monitor/
- http://www.pbc.gov.cn/goutongjiaoliu/113456/113469/4666144/2022112809590450941.pdf
- https://www.nasdaq.com/articles/how-would-new-brics-currency-affect-us-dollar-updated-2024
- https://www.cips.com.cn/en/index/index.html
- https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2023
- https://www.iea.org/reports/global-critical-minerals-outlook-2024/executive-summary
- https://world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/uranium-resources/uranium-from-rare-earths-deposits
- https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2022/mcs2022-rare-earths.pdf
- Sotiriou S.A. Talking about security in the era of high-tech and green-tech: China’s empathy with Russia and the rare earths trade with the West // Eurasian Geography and Economics. 2024, pp. 1–22. https://doi.org/10.1080/15387216.2024.2368160
- https://www.interfax.ru/russia/981581
Supplementary files