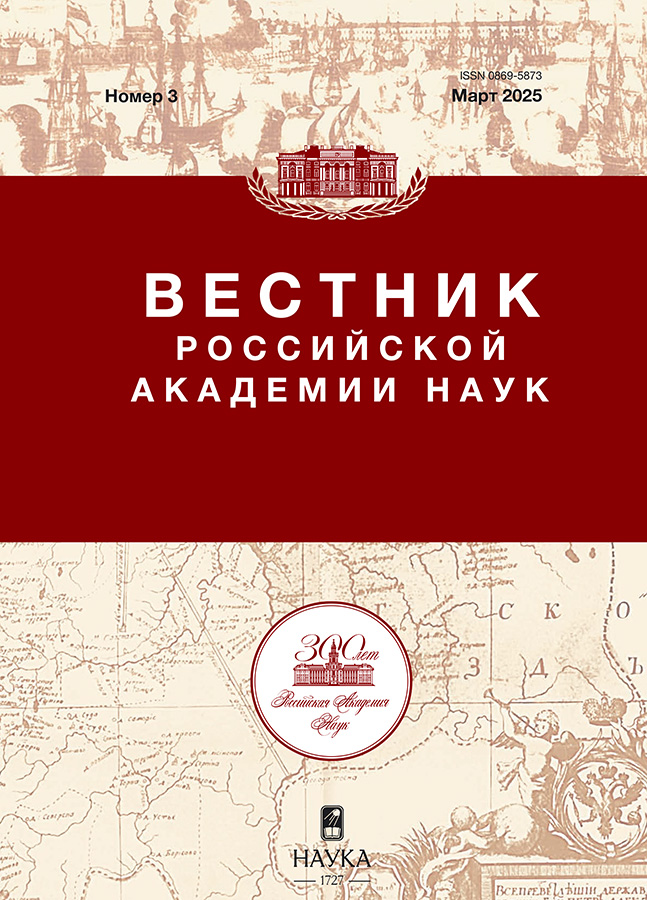Science staffing in the Far East
- Авторлар: Guskov A.E.1, Kosyakov D.V.1, Khalyavin O.D.1, Lakizo I.G.1
-
Мекемелер:
- Russian Institute of Economics, Politics and Law in Science and Technology
- Шығарылым: Том 95, № 3 (2025)
- Беттер: 3-14
- Бөлім: ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
- URL: https://journals.eco-vector.com/0869-5873/article/view/684138
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0869587325030015
- EDN: https://elibrary.ru/CTLGNF
- ID: 684138
Дәйексөз келтіру
Аннотация
The personnel shortage has historically been considered as one of the main obstacles to the development of Far Eastern science. The purpose of the study is to assess the personnel provision of science in the Far East. According to Scopus data for 2000–2021, 12,448 authors from this region were identified and indicators characterizing the dynamics of personnel, academic mobility, academic, university and other sectors of science, disciplinary specialization were calculated for them. Discrepancies were revealed between the data of state statistics and published researchers, which may indicate an incomplete realization of the personnel potential. It was shown that 87.6% of Far Eastern scientists did not work outside their city and only 2.6% have experience working abroad, and that migration negatively affects the personnel dynamics of the scientific sphere of the region.
The personnel of universities and research institutes of the Russian Academy of Sciences differs in experience and qualifications. The research institutes of the Russian Academy of Sciences have a higher proportion of experienced employees who publish more often in journals indexed in the Scopus database. At the same time, universities actively train new authors, thereby compensating for the attrition of Far Eastern authors. The average turnover of research personnel in 2016–2021 can be estimated at 28.9%. The scientific specialization of the Far East differs significantly from the all-Russian one in favor of earth sciences, environmental sciences, agriculture, and biology.
The information on the staffing of Far Eastern science provided by state statistics has been supplemented and expanded.
Негізгі сөздер
Толық мәтін
Авторлар туралы
A. Guskov
Russian Institute of Economics, Politics and Law in Science and Technology
Хат алмасуға жауапты Автор.
Email: guskov.andrey@gmail.com
доктор технических наук, заведующий лабораторией наукометрии и научных коммуникаций
Ресей, MoscowD. Kosyakov
Russian Institute of Economics, Politics and Law in Science and Technology
Email: kosyakov@sciencepulse.ru
заместитель заведующего лабораторией наукометрии и научных коммуникаций
Ресей, MoscowO. Khalyavin
Russian Institute of Economics, Politics and Law in Science and Technology
Email: olegkhalyvin@gmail.com
инженер-исследователь лаборатории наукометрии и научных коммуникаций
Ресей, MoscowI. Lakizo
Russian Institute of Economics, Politics and Law in Science and Technology
Email: 1440@list.ru
кандидат педагогических наук, научный сотрудник лаборатории наукометрии и научных коммуникаций
Ресей, MoscowӘдебиет тізімі
- Родный А.Н., Васильева Е.В. Научные кадры Дальнего Востока на этапе вторичной институционализации отечественной науки: в 2 ч. Ч. 1: Структурно-когнитивный компонент. Владивосток: ДВФУ, 2017. ISBN 978-574443989-7. Ч. 2: Акционистский компонент. Владивосток: ДВФУ, 2019. ISBN 978-5-7444-4484-6 // Вопросы истории естествознания и техники. 2020. № 4. С. 836. Rodny A., Vasilieva E.V. Scientific Cadre of the Far East during the Period of Secondary Institutionalization of Russian Science: In 2 pts. Pt. 1: The Structural and Cognitive Component. Vladivostok: DVFU, 2017. ISBN 978-574443989-7; Pt. 2: The Pragmatist Component. Vladivostok: DVFU, 2019. ISBN 978-5-7444-4484-6 // Studies in the History of Science and Technology. 2020, no. 4, p. 836.
- Атлас научно-технологического развития регионов. Дальневосточный федеральный округ / РИЭПП. М.: IMG Print, 2022. Atlas of scientific and technological development of regions. Far Eastern Federal District / RIEPL. M.: IMG Print, 2022.
- Красова Е.В. Тенденции и проблемы развития кадрового потенциала научно-исследовательской инфраструктуры Дальневосточного федерального округа // Территория новых возможностей. Вестник Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. 2019. № 4. С. 180–192. Krasova E.V. Trends and problems in development of the research infrastructure personnel potential in Far Eastern Federal District // The Territory of New Opportunities. The Herald of Vladivostok State University of Economics and Service. 2019, no. 4, pp. 180–192.
- Аргылов Н.А. Воспроизводство кадров высшей квалификации на Дальнем Востоке: количественный анализ // Вестник Забайкальского государственного университета. 2022. № 7. С. 52–62. Argylov N.A. Problems of reproduction of highly qualified personnel in the Far East: Quantitative analysis // Transbaikal state university journal. 2022, no. 7, pp. 52–62.
- Шапиева А.В. Воспроизводство научных кадров на Дальнем Востоке // Гуманитарий Юга России. 2022. № 6. С. 161–179. Shapieva A.V. Reproduction of scientific personnel in the Far East // Humanities of the South of Russia. 2022, no. 6, pp. 161–179.
- Ефременко В.Ф. Структурные факторы миграции населения Дальнего Востока России // Власть и управление на Востоке России. 2022. № 3. С. 101–107. Efremenko V.F. Structural factors of migration of the population of the Russian Far East // Power and Administration in the East of Russia. 2022, no. 3, pp. 101–107.
- Королёва И.Б., Леонтьев П.В., Зигангирова Э.Р. Научно-исследовательская активность как фактор управления инновационным развитием Дальнего Востока // Baikal Research Journal. 2023. № 3. С. 975–991. Koroleva I.B., Leontiev P.V., Zigangirova E.R. Research Activity as a Management Factor Innovative Development of the Far East // Baikal Research Journal. 2023, no. 3, pp. 975–991.
- Власенко К.А. Кадровый потенциал Российской Федерации в сфере научных исследований и разработок // Прикладные экономические исследования. 2023. № 1. С. 56–60. Vlasenko K.A. Personnel potential of the Russian Federation in the field of scientific research and development // The Applied Economic Researches Journal. 2023, no. 1, pp. 56–60.
- Гуськов А.Е., Селиванова И.В., Косяков Д.В. Миграция российских исследователей: анализ на основе наукометрического подхода // Библиосфера. 2021. № 1. С. 3–15. Guskov A.E., Selivanova I.V., Kosyakov D.V. Migration of Russian researchers: Analysis based on the scientometric approach // Bibliosphere. 2021, no. 1, pp. 3–15.
- Судакова А.Е., Тарасьев А.А., Кокшаров В.А. Миграционные тренды российских учёных: региональный аспект // Terra Economicus. 2021. № 2. С. 91–104. Sudakova A.E., Tarasyev A.A., Koksharov V.A. Trends in the migration of Russian scholars: The regional dimension // Terra Economicus. 2021, no. 2, pp. 91–104.
- Kosyakov D., Guskov A. Impact of national science policy on academic migration and research productivity in Russia // Procedia Computer Science. 2019, vol. 146, pp. 60–71.
- Емельянова Е.Е., Лапочкина В.В. Научные кадры России: тенденции, проблемы, перспективы // ECO. 2022. № 4. С. 31–56. Emelyanova E.E., Lapochkina V.V. Scientific Personnel of Russia: Trends, Problems, Prospects // ECO. 2022, no. 4, pp. 31–56.
- Guskov A.E., Kosyakov D.V., Selivanova I.V. Boosting research productivity in top Russian universities: the circumstances of breakthrough // Scientometrics. 2018, vol. 117, no. 2, pp. 1053–1080.
- Мотрич Е.Л. Современные демографические процессы на Дальнем Востоке России // Власть и управление на Востоке России. 2022. № 4. С. 59–68. Motrich E.L. Modern demographic processes in the Russian Far East // Power and Administration in the East of Russia. 2022, no. 4, pp. 59–68.
- Мищук С.Н. Трудовая миграция на Дальнем Востоке России: до и после 2020 года // Региональные проблемы. 2021. № 2–3. С. 171–174. Mishchuk S.N. Labor migration in the Far East of Russia: before and after 2020 // Regional problems. 2021, no. 2–3, pp. 171–174.
- Друзяка А.В. Система регулирования внешней миграции на Дальнем Востоке Российской Федерации (1991–2020 гг.) // Демис. Демографические исследования. 2021. № 3. С. 114–129. Druzyaka A.V. The System of regulation of external migration in the Far East of the Russian Federation (1991–2020) // DEMIS. Demographic research. 2021, no. 3, pp. 114–129.
- Macháček V. et al. Researchers’ institutional mobility: bibliometric evidence on academic inbreeding and internationalization // Science and Public Policy. 2022, vol. 49, no. 1, pp. 85–97.
- Донецкая С.С. Оценка регионов России по показателям подготовки научных кадров // Университетское управление: практика и анализ. 2017. № 3. С. 66–73. Donetskaya S.S. Estimation of the russian regions on the formal indicators of scientific personnel training // University Management: Practice and Analysis. 2017, no. 3, pp. 66–73.
- Устиненко М.А. Академический инбридинг в российских вузах // Учёные заметки ТОГУ. 2024. № 1. С. 174–178. Ustinenko М.A. Academic inbriding in russian universities // Scientific notes of TOGU. 2024, no. 1, pp. 174–178.
- Karadağ E., Ciftci S.K. Deepening the Effects of the Academic Inbreeding: Its Impact on Individual and Institutional Research Productivity // Research in Higher Education. 2022, vol. 63, pp. 1015–1036. https://link.springer.com/article/10.1007/s11162-021-09670-8
- Horta H. Deepening our understanding of academic inbreeding effects on research information exchange and scientific output: new insights for academic based research // Higher Educ. 2013, vol. 65, no. 4, pp. 487–510.
- Inanc O., Tuncer O. The effect of academic inbreeding on scientific effectiveness // Scientometrics. 2011, vol. 88, no. 3, pp. 885–898.
- Horta H., Veloso F.M., Grediaga R. Navel Gazing: Academic Inbreeding and Scientific Productivity // Management Science. 2010, vol. 56, no. 3, pp. 414–429.
- Eisenberg T., Wells M. Inbreeding in Law School Hiring: Assessing the Performance of Faculty Hired from Within // Cornell Law Faculty Publications. 2000. Paper 375. https://scholarship.law.cornell.edu/facpub/375
- Soler M. How inbreeding affects productivity in Europe // Nature. Nature Publishing Group. 2001, vol. 411, no. 6834, pp. 132–132.
- Томских А. Образование, кадры и инновационное развитие ДФО: проблемный вопрос // Вестник Забайкальского государственного университета. 2022. № 5. С. 110–119. Tomskikh А. Education, personnel and innovative development of the Far Eastern federal district: a problematic issue // Transbaikal state university journal. 2022, no. 5, pp. 110–119.
- Индикаторы науки: 2024: статистический сборник / Л.М. Гохберг, К.А. Дитковский, М.Н. Коцемир и др. М.: НИУ ВШЭ, 2024. Science indicators: 2024: data book / L.M. Gokhberg, K.A. Ditkovsky, M.N. Kotsemir et al. M.: NRU HSE, 2024.
Қосымша файлдар