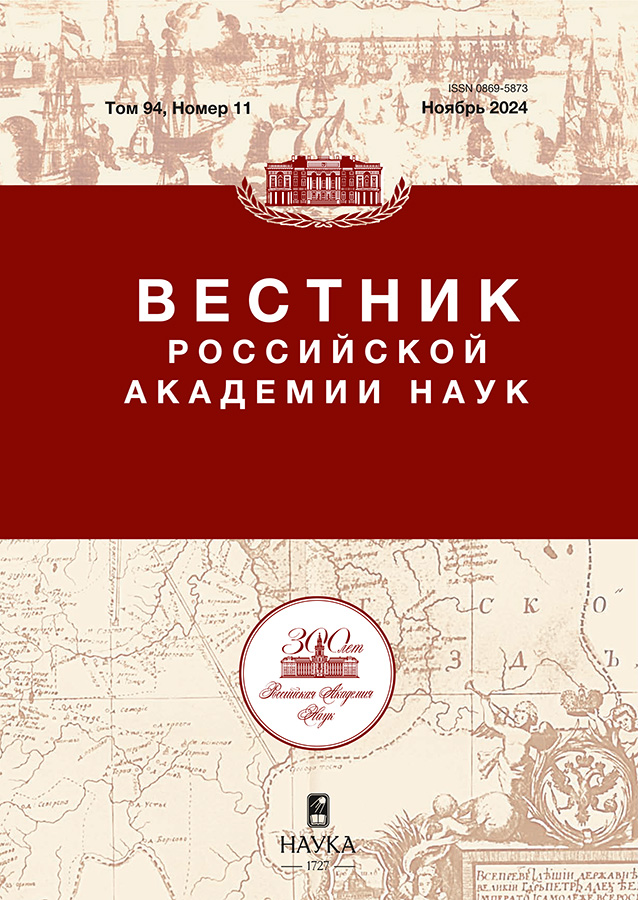The Soviet delegation at the IV International Congress on Human Genetics in Paris in 1971
- Autores: Shalimov S.V.1
-
Afiliações:
- S.I. Vavilov Institute for the History of Science and Technology, Russian Academy of Sciences
- Edição: Volume 94, Nº 11 (2024)
- Páginas: 1052-1058
- Seção: Bygone times
- URL: https://journals.eco-vector.com/0869-5873/article/view/659739
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0869587324110093
- EDN: https://elibrary.ru/SEJKPL
- ID: 659739
Citar
Texto integral
Resumo
The article is devoted to the participation of Soviet scientists in the IV International Congress on Human Genetics, which was held in Paris in 1971. This event is analyzed in the context of the development of Soviet-French scientific relations. Excerpts from reports of well-known domestic geneticists are given, reflecting both the level of scientific activity and the state of foreign science. The unrealized initiative of N.P. Dubinin to hold a congress in Moscow and a forum in Mexico City in 1976 are mentioned. Despite the small number of the delegation, representatives of the USSR were elected to the organizing committee of both congresses. It is safe to say that the trip to France played an important role in the development of human genetics in the USSR, and also stimulated research on cytogenetics, which became more extensive and systematic.
Texto integral
Sobre autores
S. Shalimov
S.I. Vavilov Institute for the History of Science and Technology, Russian Academy of Sciences
Autor responsável pela correspondência
Email: sshal85@mail.ru
Rússia, Moscow
Bibliografia
- АРАН. Ф. 2. Оп. 6. Д. 504. Л. 55. / ARAS. F. 2. Op. 6. D. 504. L. 55. (In Russ.)
- За “железным занавесом”: мифы и реалии советской науки / Под ред. М. Хайнеманна, Э.И. Колчинского. СПб: Дмитрий Буланин, 2002. / Behind the Iron Curtain: Myths and Realities of Soviet Science / Ed. by M. Heinemann, E.I. Kolchinsky. St. Petersburg: Dmitry Bulanin, 2002. (In Russ.)
- Ащеулова Н.А., Душина С.А. Мобильная наука в глобальном мире. СПб: Нестор-История, 2014. / Ascheulova N.A., Dushina S.A. Mobile science in the global world. St. Petersburg: Nestor-Istoriya, 2014. (In Russ.)
- Joravsky D. The Lysenko Affair. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1970.
- Krementsov N. Stalinist Science. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1997.
- Сойфер В.Н. Власть и наука. Разгром коммунистами генетики в СССР. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ЧеРо, 2002. / Soifer V.N. Power and science. The defeat of genetics by the Communists in the USSR. 4th ed., reprint. and add. Moscow: CheRo, 2002. (In Russ.)
- Roll-Hansen N. The Lysenko effect: the politics of science. N.Y.: Humanity books, 2006.
- Pringle P. The Murder of Nikolai Vavilov. The Story of Stalin’s Persecution of One of Great Scientists of the 20th Century. N.Y.: Simon & Schuster, 2008.
- Stanchevici D. Stalinist genetics: the constitutional rhetoric of T.D. Lysenko. N.Y.: Baywood Publishing Company, Inc., 2012.
- Фандо Р.А. Становление отечественной генетики человека: на перекрёстке науки и политики. М.: МАКС Пресс, 2013. / Fando R.A. The formation of Russian human genetics: at the crossroads of science and politics. Moscow: MAKS Press, 2013. (In Russ.)
- Николай Петрович Дубинин и ХХ век. Современники о жизни и деятельности. Письма, материалы, воспоминания. К 100-летию со дня рождения / Сост. Л.Г. Дубинина, И.Н. Овчинникова; отв. ред. А.А. Жученко, Л.К. Эрнст. М.: Наука, 2006. / Nikolai Petrovich Dubinin and the twentieth century. Contemporaries on life and work. Letters, materials, memoirs. To the 100th anniversary of his birth / Comp. L.G. Dubinina, I.N. Ovchinnikova; ed. by A.A. Zhuchenko, L.K. Ernst. Moscow: Nauka, 2006. (In Russ.)
- Дмитрий Константинович Беляев: Книга воспоминаний / Отв. ред. В.К. Шумный и др. Новосибирск: Изд-во СО РАН, филиал “Гео”, 2002. / Dmitry Konstantinovich Belyaev: A Book of memories / Ed. by V.K. Shumny et al. Novosibirsk: Publishing House of SB RAS, “Geo” branch, 2002. (In Russ.)
- Аргутинская С.В. Дима // Дмитрий Константинович Беляев: Книга воспоминаний / Отв. ред. В.К. Шумный и др. Новосибирск: Изд-во СО РАН, филиал “Гео”, 2002. С. 5–71. / Argutinskaya S.V. Dima // Dmitry Konstantinovich Belyaev: A book of memories / Ed. by V.K. Shumny et al. Novosibirsk: Publishing House of SB RAS, “Geo” branch, 2002. Pp. 5–71. (In Russ.)
- Harper P. A Short History of Medical Genetics. Oxford: Oxford University Press, 2008.
- Фандо Р.А. Советско-французские научные связи (1920–1930-е гг.). М.: Янус-К, 2023. / Fando R.A. Soviet-French scientific relations (1920–1930). Moscow: Janus-K, 2023. (In Russ.)
- Черкасов П.П. Россия и Франция: 300 лет совместной истории // Экономические стратегии. 2010. № 6. С. 6–15. / Cherkasov P.P. Russia and France: 300 years of joint history // Economic strategies. 2010, no. 6, pp. 6–15. (In Russ.)
- Гвишиани Дж.М. Мосты в будущее. М.: Едиториал УРСС, 2004. / Gvishiani J.M. Bridges to the future. Moscow: Editorial URSS, 2004. (In Russ.)
- Борисов Ю.В. СССР и Франция: 60 лет дипломатических отношений. М.: Международные отношения, 1984. / Borisov Yu.V. USSR and France: 60 years of diplomatic relations. Moscow: International Relations, 1984. (In Russ.)
- АРАН. Ф. 579. Оп. 13. Д. 95. Л. 2. / ARAS. F. 579. Op. 13. D. 95. L. 2. (In Russ.)
- АРАН. Ф. 579. Оп. 13. Д. 95. Л. 49–50. / ARAS. F. 579. Op. 13. D. 95. L. 49–50. (In Russ.)
- Лебедева Л.И., Захаров И.К. Жизнь есть подвиг: к 100-летию со дня рождения генетика, профессора Юлия Яковлевича Керкиса (1907–1977) // Информационный вестник ВОГиС. 2007. № 1. С. 16–38. / Lebedeva L.I., Zakharov I.K. Life is a feat: to the 100th anniversary of the birth of geneticist, Professor Yuliy Yakovlevich Kerkis (1907–1977) // Information Bulletin of VOGiS. 2007, no. 1, pp. 16–38. (In Russ.)
- Congress on Human Genetics // Journal of Medical Genetics. 1970, vol. 8, no. 1, p. 126.
- Дубинин Н.П. Отчёт о командировке во Францию. М.: АН СССР, Всесоюз. ин-т науч. и техн. информации, 1972. / Dubinin N.P. Report on a business trip to France. Moscow: USSR Academy of Sciences, The All-Union. in-t scientific. and tech. information, 1972. (In Russ.)
- Керкис Ю.Я. Отчёт о командировке во Францию. М.: АН СССР, Всесоюз. ин-т науч. и техн. информации, 1972. / Kerkis Yu.Ya. Report on a business trip to France. Moscow: USSR Academy of Sciences, The All-Union. in-t scientific. and tech. information, 1972. (In Russ.)
- Бужиевская Т.И. Отчёт о командировке во Францию. М.: АН СССР. Всесоюз. ин-т науч. и техн. информации, 1972. / Buzhievskaya T.I. Report on a business trip to France. Moscow: USSR Academy of Sciences, The All-Union. in-t scientific. and tech. information, 1972. (In Russ.)
- АРАН. Ф. 1859. Оп. 1. Д. 94. Л. 21. / ARAS. F. 1859. Op. 1. D. 94. L. 21. (In Russ.)
- АРАН. Ф. 1859. Оп. 1. Д. 94. Л. 17–18. / ARAS. F. 1859. Op. 1. D. 94. L. 17–18. (In Russ.)
- АРАН. Ф. 1859. Оп. 1. Д. 94. Л. 29. / ARAS. F. 1859. Op. 1. D. 94. L. 29. (In Russ.)
- АРАН. Ф. 1859. Оп. 2. Д. 857. Л. 18. / ARAS. F. 1859. Op. 2. D. 857. L. 18. (In Russ.)
- АРАН. Ф. 1859. Оп. 2. Д. 857. Л. 19. / ARAS. F. 1859. Op. 2. D. 857. L. 19. (In Russ.)
- АРАН. Ф. 1859. Оп. 2. Д. 857. Л. 18. / ARAS. F. 1859. Op. 2. D. 857. L. 18. (In Russ.)
Arquivos suplementares