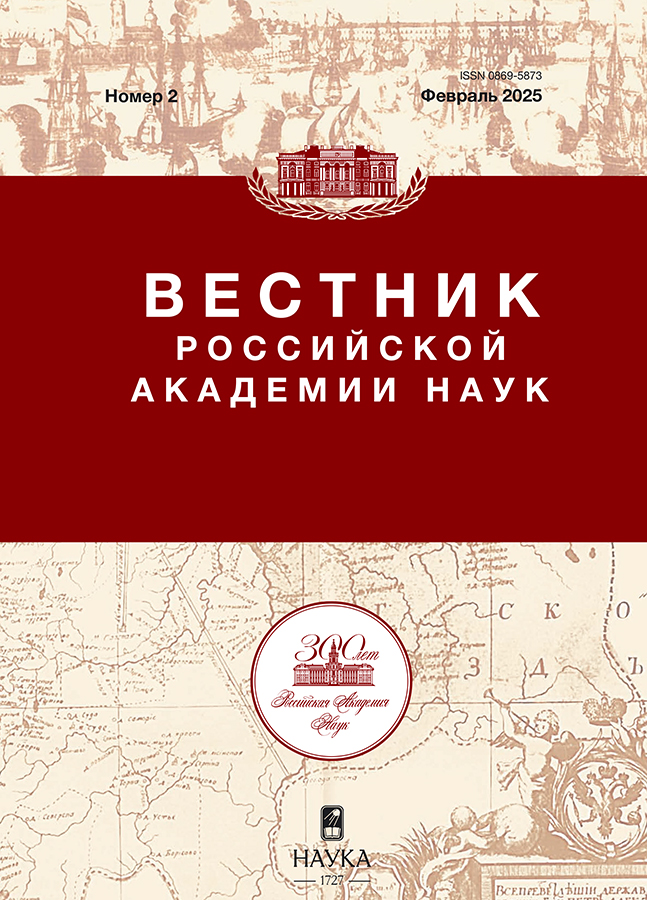Императивы пространственного развития России
- Авторы: Черныш М.Ф.1
-
Учреждения:
- ФНИСЦ РАН
- Выпуск: Том 95, № 2 (2025)
- Страницы: 41-47
- Раздел: С КАФЕДРЫ ПРЕЗИДИУМА РАН
- URL: https://journals.eco-vector.com/0869-5873/article/view/684684
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0869587325020056
- EDN: https://elibrary.ru/AGSDMR
- ID: 684684
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Представление о пространстве входит в число важнейших компонентов гражданской культуры страны, формируя её базовые установки. Региональное неравенство разрушает общее пространство России, и граждане, проживающие в разных регионах, оказываются в неравном положении, имея в виду их жизненные возможности. Неравенство вызывает ресентимент – скрытое недовольство социальным порядком. Можно говорить о двух вариантах преодоления неравенства: один предполагает стимулирование переезда граждан, живущих в сельских поселениях и малых городах, в большие города, второй – долговременные инвестиции и институциональные реформы, стимулирующие развитие традиционных российских поселений, включая создание там рабочих мест и расширение возможностей самореализации. Первый вариант неминуемо ведёт к падению рождаемости, постепенному вымиранию населения страны и его замещению мигрантами из развивающихся стран, то есть к негативным последствиям, масштаб которых сейчас сложно оценить. Второй вариант предполагает сбережение населения, культурных и экономических ресурсов малых и средних городов.
Ключевые слова
Полный текст
Об авторах
М. Ф. Черныш
ФНИСЦ РАН
Автор, ответственный за переписку.
Email: chernysh@fnisc.ru
Институт социологии, член-корреспондент РАН, директор
Россия, МоскваСписок литературы
- Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура. Политические установки и демократия в пяти странах. М.: Мысль, 2014.
- Almond G., Verba S. Civic Culture. Political Attitudes and Democracy in Five Countries. Moscow: Mysl, 2014. (In Russ.)
- Миронов Б.Н. От традиции к модерну. Т.1. СПб.: Дмитрий Буланин, 2014.
- Mironov B.N. From tradition to modernity. T.1. St. Petersburg: Dmitry Bulanin, 2014. (In Russ.)
- Кордонский С.Г. Социальная структура и механизм торможения // Постижение. Перестройка: гласность, демократия, социализм. М.: Прогресс, 1989. С. 36–52.
- Kordonsky S.G. Social structure and the mechanism of inhibition // Comprehension. Perestroika: glasnost, democracy, socialism. Moscow: Progress, 1989. Pp. 36–52. (In Russ.)
- Мазур Л.Н. Политика ликвидации неперспективных деревень в 1960–1970-е гг.: истоки, этапы, реализация, результаты (на материалах Урала) // Россия в XX в.: история и историография: сб. научных статей. Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2002. С. 92–122.
- Mazur L.N. Policy of liquidation of unpromising villages in the 1960–1970s: origins, stages, implementation, results (based on materials from the Urals) // Russia in the 20th century: history and historiography: collection of scientific articles. Ekaterinburg: Publishing house of the Ural University, 2002. Pp. 92–122. (In Russ.)
- Щевельков А.И. Аграрная политика в Нечерноземье в 70–80-е годы // Документ. Архив. История. Современность. Вып. 9. Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2008. С. 180–199.
- Shchevelkov A.I. Agrarian policy in the Non-Black Earth Region in the 70s–80s // Document. Archive. History. Modernity. Issue 9. Ekaterinburg: Publishing house of the Ural University, 2008. Pp. 180–199. (In Russ.)
- Голдман М. Пиратизация России. Российские реформы идут вкривь и вкось. Новосибирск, Москва: Фонд социопрогностических исследований “Тренды”, 2004.
- Goldman M. Piratization of Russia. Russian reforms are going awry. Novosibirsk, Moscow: Foundation for socio-prognostic research “Trendy”, 2004. (In Russ.)
- Поланьи К. Великая трансформация: политические и экономические истоки нашего времени / Под общей ред. С.Е. Фёдорова. СПб.: Алетейя, 2002.
- Polanyi K. The Great Transformation: Political and Economic Origins of Our Time / Under the general editorship of S.E. Fedorov. St. Petersburg: Aletheia, 2002. (In Russ.)
- Синицына Д.А. Рождаемость в двух столичных городах России // Народонаселение. 2024. Т. 27. № 2. С. 125–137.
- Sinitsyna D.A. Fertility in two capital cities of Russia // Population. 2024, vol. 27, no. 2, pp. 125–137. (In Russ.)
- Зиммель Г. Большие города и духовная жизнь. М.: Strelka Press, 2018.
- Simmel G. Big cities and spiritual life. Moscow: Strelka Press, 2018. (In Russ.)
- Sassen S. Global City: Introducing a Concept // Brown Journal of World Affairs. Winter–Spring 2005, vol.11, iss. 2, pp. 27–43.
- Печчеи А. Человеческие качества. М.: Прогресс, 1977.
- Peccei A. Human qualities. Moscow: Progress, 1977. (In Russ.)
- Флорида Р. Креативный класс: люди, которые меняют будущее. М.: Классика – ХХI, 2007.
- Florida R. Creative class: people who change the future. Moscow: Classic – XXI, 2007. (In Russ.)
Дополнительные файлы