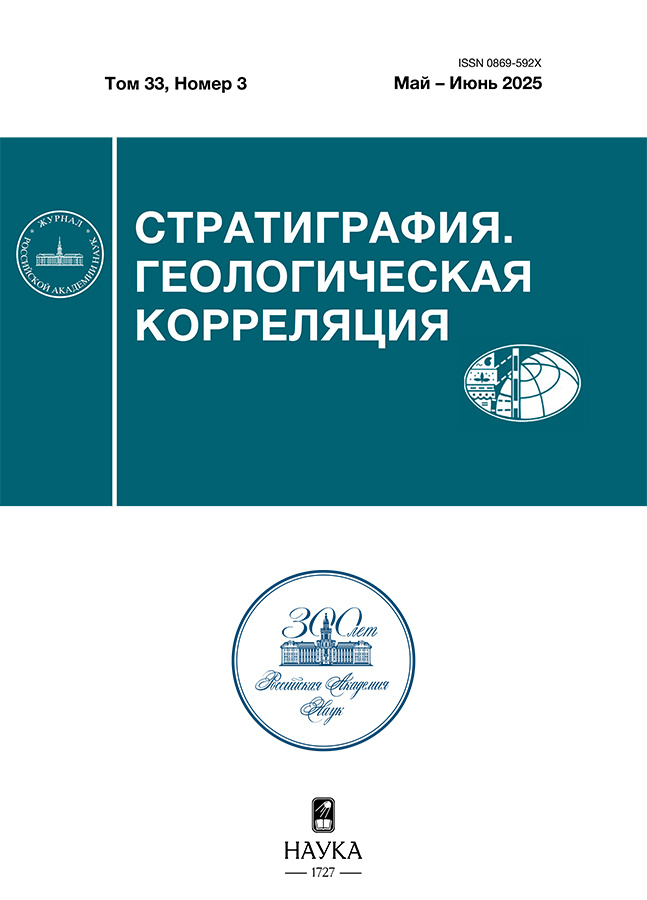Geological Events in the Pliocene of the North Pacific Region
- Authors: Gladenkov Y.B.1
-
Affiliations:
- Geological Institute, Russian Academy of Sciences
- Issue: Vol 33, No 3 (2025)
- Pages: 108-117
- Section: Articles
- URL: https://journals.eco-vector.com/0869-592X/article/view/686649
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0869592X25030051
- EDN: https://elibrary.ru/TDUATR
- ID: 686649
Cite item
Abstract
A description of the Pliocene deposits of Karaginsky Island, located in the Bering Sea, is given. The stratigraphic position in the section of the marker-species of astartids and fortipectinids (bivalves) has been revealed. On this basis, conclusions were drawn about the bioevents and migrations of mollusks in the Pliocene of the North Pacific region.
Keywords
Full Text
About the authors
Y. B. Gladenkov
Geological Institute, Russian Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: gladenkov@ginras.ru
Russian Federation, Moscow
References
- Бордунов С.И. Стратиграфия и фораминиферы неогена Восточной Камчатки. М.: ГЕОС, 2015. 148 с.
- Гладенков А.Ю., Гладенков Ю.Б. Начало формирования межокеанических связей Пацифики и Арктики через Берингов пролив в неогене // Стратиграфия. Геол. корреляция. 2004. Т. 12. № 2. С. 72–89.
- Гладенков Ю.Б. Неоген Камчатки (вопросы биостратиграфии и палеоэкологии). М.: Наука, 1972. 252 с. (Труды ГИН АН СССР. Вып. 214).
- Гладенков Ю.Б. Морской верхний кайнозой северных районов. М.: Наука, 1978. 194 с. (Труды ГИН АН СССР. Вып. 313).
- Гладенков Ю.Б. Стратиграфия морского неогена северной части Тихоокеанского пояса (анализ стратиграфических схем дальневосточных районов СССР, Северной Америки и Японии). М.: Наука, 1988. 212 с. (Труды ГИН АН СССР. Вып. 428).
- Гладенков Ю.Б. Ильинский горизонт среднего миоцена Западной Камчатки, сообщества моллюсков и палеогеографические реконструкции // Стратиграфия. Геол. корреляция. 2022. Т. 30. № 5. С. 99–110.
- Гладенков Ю.Б. Стратиграфия начала XXI века (историко-геологическое изучение стратисферы Земли и развития биосферы). М.: ГЕОС, 2023. 184 с. (Труды ГИН РАН. Вып. 634).
- Гладенков Ю.Б., Гречин В.И. Особенности формирования вулканогенно-осадочных толщ неогена Восточной Камчатки (о. Карагинский) // Бюлл. МОИП. Отд. геол. 1969. Т. 44. Вып. 5. С. 72–81.
- Гладенков Ю.Б., Баринов К.Б., Басилян А.Э., Бордунов С.И., Братцева Г.М., Зырянов Е.В., Кураленко Н.П., Витухин Д.И., Орешкина Т.В., Ганзей С.С., Кияшко С.И., Трубихин В.М. Детальное расчленение неогена Камчатки. М.: Наука, 1992. 208 с. (Труды ГИН РАН. Вып. 478).
- Жидкова Л.С., Мишаков Г.С., Неверова Т.И., Сальников Б.А., Сальникова Н.Б., Шереметьева Г.Н. Биофациальные особенности мезо-кайнозойских бассейнов Сахалина и Курильских островов. Новосибирск: Наука, 1974. 252 с.
- Калишевич Т.Г., Заклинская Е.Д., Серова М.Я. Развитие органического мира Тихоокеанского пояса на рубеже мезозоя и кайнозоя (фораминиферы, моллюски и палинофлора Северо-Западного сектора). М.: Наука, 1981. 163 с.
- Криштофович Л.В. Моллюски третичных отложений Сахалина. Л.: Недра, 1964. 343 с. (Труды ВНИГРИ. Вып. 232).
- Решения рабочих межведомственных региональных стратиграфических совещаний по палеогену и неогену восточных районов России – Камчатки, Корякского нагорья, Сахалина и Курильских островов. М.: ГЕОС, 1998. 147 с.
- Синельникова В.Н. Пектиниды мио-плиоцена Камчатки. М.: Наука, 1975. 140 с. (Труды ГИН АН СССР. Вып. 229).
- Barinov K.B., Oleinik A.E., Marincovich L.Jr. New occurrences of Fortipecten hallae (Dall, 1921) (Mollusca, Bivalvia) in the Pliocene of the North Pacific // Palaeogeogr. Palaeoclimatol. Palaeoecol. 2005. V. 223. P. 162–171.
- Chinzei K. A new Fortipecten from the Pliocene Sannohe Group in Aomori Prefecture, Northeast Japan // Jap. J. Geol. Geogr. 1960. V. 31. P. 63–70.
- Dall W.H. Pliocene and Pleistocene fossils from the Arctic coast of Alaska and the auriferous beaches of Nome, Norton Sound, Alaska // U.S. Geol. Surv. Prof. Pap., Ser. 125-C. 1920. P. 23–37.
- Dall W.H. Two new Pliocene pectens from Nome Alaska // The Nautilus. 1921. V. 34. № 3. P. 76–77.
- MacNeil F.S. Cenozoic Megafossils of Northern Alaska // U.S. Geol. Surv. Prof. Pap. Ser. 294-С. 1957. P. 99–126.
- Masuda K. Notes on the Tertiary Pectinidae of Japan // Sci. Rep. Tohoku Univ. 2nd Ser. (Geol.). 1962. Spec. Vol. 5. 159–193.
Supplementary files
Supplementary Files
Action
1.
JATS XML
2.
Fig. 1. The North Pacific region and the position of the island of Karaginsky in it. 1 – Karaginsky Island, 2 – Cape Utkholok.
Download (320KB)
3.
Fig. 2. Stratigraphic column of the Pliocene deposits of Karaginsky Island and the position of the remains of astartides and fortipectinides in it. 1 – conglomerates, gravelites; 2 – sandstones; 3 – siltstones, diatomites; 4 – ash tuffs; 5 – mollusk remains; 6 – biological events; 7 – unconformities and washouts. Abbreviations: Fk – Fortipecten kenyoshiensis and F. takahashii, Fh – F. hallai, A – Astarte (Al – A. limimtensis, An – A. nortonensis, Ad – A. diversa); yunyun. – Yununvayam formation, Ust-Limim. – Ust-Limimtevayam formation, i.e. – Tusatuvayam layers, Q – quarter.
Download (422KB)
4.
3. Migration routes of benthic complexes of the Pliocene and the Quaternary: (a) from the North Pacific basin to the Arctic and North Atlantic; (b) from the Arctic Basin to the North Pacific (according to Gladenkov, 2023).
Download (203KB)
5.
4. The main sites and ranges of astartids and fortipectinids in the Pliocene of the North Pacific region. The main sites of finds are: 1 – Fortipecten hallai; 2-F. kenyoshiens And F. takahashii; 3 – Astarte; ranges And Their boundaries: 4 – Fortipecten kenyoshiensis And F. takahashii; 5 – F. hallai.
Download (344KB)
6.
Fig. 5. Unconformity of the Pliocene Enemten formation (about 70 m thick) on the Erman strata of the Upper Miocene in the Shirokaya Pad tract, south of the Utholok Peninsula on the western coast of Kamchatka (sketch by Yu.G. Drushchits). 1 – boulder conglomerates; 2 – gravelites; 3 – gravelites with boulders; 4 – turf cover; 5 – clay sandstones; 6 – clays with pebbles; 7 – lignites; 8 – diatomites; 9 – channel clays.
Download (320KB)