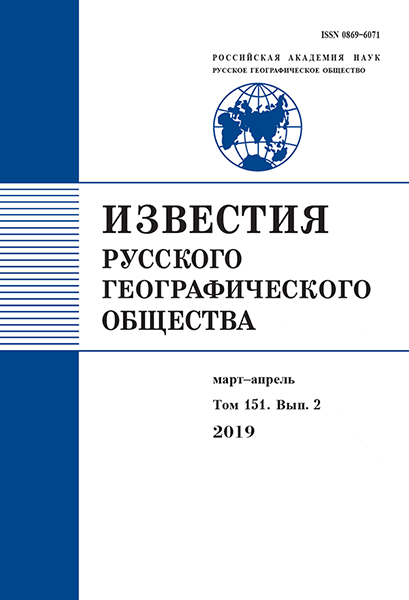The governmental policy on forest beekeeping in the Russian Empire in the 18th—19th centuries
- Authors: Loskutova M.V.1, Fedotova A.A.2
-
Affiliations:
- National Research University Higher School of Economics
- St.-Petersburg Branch of the Institute for the History of Science and Technology, Russian Academy of Sciences
- Issue: Vol 151, No 2 (2019)
- Pages: 78-95
- Section: Articles
- URL: https://journals.eco-vector.com/0869-6071/article/view/12648
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0869-6071151278-95
- ID: 12648
Cite item
Full Text
Abstract
Based on published and archival sources, the paper considers the transformations in Russian legislation and administrative policies on forest beekeeping (harvesting honey from owned or tended nests in forests) in the eighteenth and nineteenth centuries. It demonstrates how in the course of the eighteenth century, the ownership of bee nests started violating the concept of absolute private property over forests, which was increasingly incompatible with the rights of other individuals to exploit natural resources on the same territory. From the early decades of the 19th century, borders were gradually demarcated between forested areas belonging to the state and private owners, and between the state forests and those designated for the use of state peasants. This process made possible to exercise the concept of absolute private property over forests in practice. These changes in legislation and the forest cadastre were closely linked to the making of ‘forestry science’ that developed in the late 18th century under the influence of a growing demand for timber needed for the navies and merchant fleets of all European states. The precepts of ‘forestry science’ were dictated by its objective to maximise profits by focusing on the production of commercially valuable sorts of timber. By the early 19th century, this logic prompted the forest administration of the Russian empire to start contemplating measures that would obstruct any alternative forms of forest exploitation, such as harvesting honey from tended trees. The paper considers in details the tightening of administrative regulations in this area, as imposed by the Ministry of State Domains that reached its peak in the Great Reforms era, and analyses the mechanisms that translated these general causes at work into specific policies.
Full Text
Введение. До последних десятилетий не замечалось причин, по которым бортное пчеловодство могло представлять исследовательский интерес для историка. В лучшем случае, этот вид крестьянских промыслов и связанные с ним памятники материальной культуры (например, владельческие клейма на деревьях) могли попадать в поле зрения археологов и этнографов, описывавших существовавшие некогда практики лесопользования [1, 10], но сама проблема изменений характера эксплуатации человеком природных ресурсов анализировалась достаточно поверхностно [2, 11, 13]. Аграрная история, занимавшая прочные позиции в историографии ХХ в., следовала иерархии приоритетов, сложившейся в экономическом укладе товарного земледельческого хозяйства. Это вело к тому, что другие виды природопользования вытеснялись на задний план. Более того, в сознание исследователей прочно вошли сформировавшиеся в XIX в. представления о прогрессивном характере эволюции практик природопользования. В такой перспективе сохранение бортного пчеловодства в отдельных регионах в новое и новейшее время могло служить лишь признаком отсталости, архаичности экономики и правовых норм.
Становление экологической истории, обусловленное осознанием человеком необратимых последствий антропогенных воздействий, привело к некоторому пересмотру этих установок. В частности, были показаны взаимосвязи между распространением коммерчески-ориентированных практик природопользования, появлением новых форм государственного управления, изменениями законодательства. Это позволило значительно лучше осознать собственно историчность практик природопользования, привлечь внимание не только к приобретениям, но и к потерям, к социальным конфликтам, связанным с происходившими переменами, а также поставить под вопрос представление о неизбежности этих перемен. В такой перспективе история бортного пчеловодства — его постепенного исчезновения, замещения пасечным разведением пчел, или наоборот, выживания в отдельных регионах — может быть осмыслена не только как история изменений в методах использования природных ресурсов, но и как история изменений понятия владельческих прав на природные ресурсы.
Бортное содержание пчел представляет, по существу, переходную ступень между собственно домашним (пасечным и ульевым) содержанием пчел и добычей меда у диких пчел (рис. 1). Владельческое право на населенные дикими пчелами деревья появилось, возможно, уже в эпоху неолита, с переходом к оседлому образу жизни и земледелию. В Западной Европе упоминания о владельческих правах на населенные дикими пчелами деревья встречаются уже в варварских «правдах» VI в. н. э. Нашедший такое дерево ставил на нем свое клеймо и последующие посягательства на это дерево со стороны других лиц карались штрафами и телесными наказаниями.1
Рис. 1. Сосна c бортью в Беловежской пуще (Польша). Сохранилась деревянная планка, защищавшая леток. Фото Т. Неходы.
Ценность населенных пчелами деревьев только увеличивалась с ростом плотности населения и расчисткой лесов, что стимулировало создавать в деревьях искусственные дупла (борти) и нехитрые приспособления для защиты пчел от животных-любителей меда. Уход бортника за пчелами ограничивался немногими манипуляциями, проводимыми, как правило, два раза в год. Весной бортник очищал борти от накопившегося сора. В те из них, что не были заняты пчелами, он клал пахучие приманки для роев. Осенью он подрезал определенную часть сот, оставляя пчелам необходимое для зимовки количество меда. В некоторых местностях бортники время от времени устраивали контролируемые палы, так как после низового пожара в лесах хорошо растут медоносные растения, например иван-чай.
В Средневековье и раннее Новое время бортничество было распространенным промыслом, особенно в Центральной и Восточной Европе, а мед и воск составляли значительную долю внешнего торгового оборота этих регионов. Право на вход в лес для посещения бортей считалось не менее существенным в этих регионах, чем право на охоту, выпас скота или кошение сена в лесу. Так, «Русская правда» XI в. защищала княжеские бортные деревья от порчи и посягательств, предусматривая штраф за эти деяния, соразмерный штрафу за кражу княжеского коня. Регламентация пользований бортными угодьями включалась в своды законов этой части Европы и позднее: примером служит Статут Великого княжества Литовского 1588 г.
Хозяйственное освоение человеком мира дикой природы, рост поселений, последовательное наступление на общинные угодья сопровождалось размежеванием земельных владений и установлением безусловного владельческого права на лесные участки, что постепенно приводило к вытеснению бортничества и переходу к домашнему содержанию пчел на пасеках и в ульях. Являясь более трудоемким, пасечное пчеловодство было более доходным.
Сохранение значительных массивов лесов в Центральной и Восточной Европе объясняет более длительное, по сравнению с западом континента, бытование бортничества [11, 13, 19]. Однако и здесь в XVIII—XIX в. мы видим постепенное изменение правительственной политики по отношению к бортничеству — от защиты владельческих прав на бортные деревья к прямой борьбе с этим промыслом. Кульминацией борьбы с бортничеством в Российской империи стал циркуляр Министерства государственных имуществ (МГИ) 1862 г., поставивший под запрет этот промысел в казенных лесах. В этой статье мы анализируем логику изменений правительственной политики по отношению к этому промыслу в европейской части Российской империи в XVIII—XIX вв. Будет показана связь этих изменений со становлением системы управления лесным хозяйством, с последующей сменой задач и приоритетов лесного ведомства, совершенствованием лесного кадастра, внедрением новых «рациональных» практик лесопользования и развитием научных знаний о лесе.
Законодательство XVII—начала XIX в. Анализ российского законодательства середины XVII—начала XIX в. на материалах Полного собрания законов Российской империи (ПСЗ РИ, Собр. 1-е, 1649—1825) наглядно показывает принципиальный, хотя и постепенный сдвиг правительственной политики по отношению к бортничеству — сдвиг, за которым стояло сокращение неосвоенного человеком природного пространства, а также внедрение в законодательство права безусловной частной собственности на лес, воды и недра, признанного за дворянством Российской империи в начале 1780-х гг.2
Соборное уложение 1649 г. отражает мир, в котором обычным явлением было пересечение владельческих прав разного характера на одной и той же территории. На поместной, вотчинной или государевой земле могли находиться промысловые (охотничьи, рыболовецкие, сенокосные или бортные) угодья, отданные в постоянное или временное пользование другим лицам, за что с промысла в казну платился определенный оброк. Соборное уложение защищало имущественные права бортников (равно как и тех, кто пользовался другими угодьями) от посягательств лесовладельцев. За умышленную порчу бортных деревьев владельцем лесной дачи, присвоение им бортей или пчел взимался штраф в пользу пострадавшего владельца этого промысла.3
Право бортников на свои угодья, находившиеся в границах чужих поместий и вотчин, признавалось и в указах 1680-х гг., содержавших инструкции по проведению Валового межевания — первого опыта составления переписи земель и проведения межевых работ в Московском государстве [9, с. 39—40]. В этих инструкциях содержалось и требование записывать данные о бортных «ухожьях» — имена бортников, число бортевых деревьев в их владении (как с пчелами, так и деревьев, в которых на момент переписи пчелы не обитали), особые для каждого бортника маркирующие знаки на деревьях, размер оброка. Надлежало также выявлять не зафиксированные еще писцовыми книгами бортные «ухожья» и накладывать на них оброк.4 При этом и Соборное уложение, и инструкции по проведению Валового межевания 1680-х гг. признавали права бортников на «ухожья» даже на чужой земле и защищали их имущественные интересы.
В начале XVIII в. правительство снова заинтересовалось пчеловодством как источником пополнения казны: указы 1704 и 1709 гг. предписывали провести учет бортных «ухожий» и пасек для повышения сборов с этого промысла. Эти указы, как и указ 1724 г., относящийся к малороссийским землям, фиксировали практику выплаты оброка натурой (медом), хотя и стремились перевести сборы в денежную форму.5
В послепетровскую эпоху бортничество выпадает из поля зрения императорской власти. Следующими законодательными актами, в которых упоминается этот лесной промысел, становятся екатерининские указы 1765—1766 гг., заложившие правовые основы для проведения Генерального межевания, — «Манифест о генеральном размежевании земель во всей империи», «Инструкция землемерам» и «Инструкция межевым губернским канцеляриям и провинциальным конторам». Как отмечали исследователи XIX в., Генеральное межевание не ставило своей задачей ликвидацию чересполосного и общего владения теми или иными землями, а ограничивалось демаркацией границ земельных участков с указанием на существующие владельческие права [4]. Соответственно, законодательные акты, определявшие принципы и методику проведения межевых работ, признавали сложившуюся в предшествующие столетия практику, когда бортные и другие промыслы могли находиться на земле, принадлежащей другим частным владельцам или казне. Однако по сравнению с указами XVII в. в законодательстве 1760-х гг. сместились акценты: подчеркивалась ограниченность прав уже не землевладельцев, а лиц, владевших бортными, охотничьими и рыболовецкими угодьями на чужой земле. Объяснялось, что бортники имеют право лишь на свой промысел, но не на сами бортные деревья и землю, где находятся их «ухожья», — они не могут рубить такие деревья, расчищать лес и строить дома. Генеральное межевание должно было помочь консолидировать права лесовладельцев за счет ликвидации бортных «ухожьев» и других промыслов посторонних лиц: если такие промысловые угодья оказывались полностью окружены частными владениями и имелась возможность перенести эти промыслы на еще неосвоенные земли, то «Инструкция межевым губернским канцеляриям и провинциальным конторам» предписывала поступать именно так. При отсутствии документов на владение бортными угодьями в чужих лесных дачах, эти угодья отходили собственнику лесного участка.6
Вехой правительственной политики в отношении бортничества стал Манифест по случаю заключения Кючук-Кайнарджийского мира 1775 г., которым, в частности, отменялся оброк в казну с этого промысла.7 На первый взгляд «монаршая милость» была выгодна бортникам, но в долгосрочной перспективе она имела негативные последствия, что отмечали специалисты в начале XX в. Бортное пчеловодство перестало представлять интерес с фискальной точки зрения. Устранялась причина, по которой правительство было бы заинтересовано в сохранении бортничества при последующем внедрении «правильного лесоустройства» в XIX в.8
Под «правильным лесоустройством» в конце XVIII—первой половине XIX в. понимался комплекс мер, направленных на производство максимально возможного объема товарной древесины, что должно было обеспечить владельцу лесной дачи постоянный доход в течение длительного времени. Для достижения этой цели «лесная наука» рекомендовала разбить просеками лес на участки правильной формы — это позволяло, упростить вывоз лесоматериала и покончить с хаотичными рубками отдельных деревьев в лесном массиве. Предполагалось, что число таких участков будет соответствовать числу лет, необходимых для естественного возобновления леса. Каждый год следовало вырубать один участок и засаживать его коммерчески ценной породой. Предполагалось, что такие «правильные» лесонасаждения будут удобны для коммерческой эксплуатации. Недостатки этого подхода стали очевидны лишь к концу XIX в. В начале же XIX в. специальное лесное образование в первую очередь сводилось к таксации — умению правильно рассчитать запас древесины, вычислить ее стоимость, а также знанию товарных свойств лесоматериалов и технологий [21, 25].
Составляющей процесса перехода к лесному хозяйству, ориентированному на максимально возможное производство и сбыт лесоматериалов на постоянно растущих рынках (для нужд флота, а затем промышленности и железных дорог), стала борьба с традиционными местными формами лесопользования. Бортничество, наряду со жжением древесного угля, сидкой дегтя, выпасом скотины в лесу и пр., воспринималось лесничими конца XVIII—первой половины XIX в. негативно, как нечто нарушающее их представления о «рациональном» лесоустройстве и потому представляющее угрозу для «правильных» лесонасаждений [21, p. 441].
Принципы «правильного лесоустройства» диктовали необходимость размежевания казенных и частновладельческих лесов. Этот процесс заметно активизировался в Российской империи после указа 6 июня 1799 г.9 Помимо размежевания между казной и помещиками, с 1802 г. в казенных дачах шло выделение лесных участков, назначаемых в пользование государственных крестьян. Предполагалось, что здесь они будут заготавливать древесину, в то время как оставшаяся часть казенных лесов будет использоваться для заготовки леса для флота, воинских частей, государственных учреждений, а также на продажу. На необходимости скорейшего размежевания казенных и крестьянских лесов и внедрении в практику принципов «правильного лесоустройства» настаивал и принятый в 1802 г. Лесной устав.10 Для бортного промысла размежевание лесов означало, что проблема присутствия в лесу бортных «ухожий», принадлежащих другому владельцу, вставала с особой остротой. Помещик или казна не всегда относились с пониманием к желанию «чужих» крестьян продолжать привычный им промысел на «своей» территории.
В результате этих процессов, уже ко второй трети XIX в. бортничество сохранилось в сравнительно немногих губерниях — прежде всего на западных и восточных окраинах европейской части Российской империи (в Царстве Польском, белорусских и литовских губерниях, а также в Казанской, Пермской, Уфимской и Оренбургской губерниях). Можно предположить, что в восточных районах бортное пчеловодство выжило в силу общей недостаточной освоенности пространства и присутствия так называемых инородцев, находившихся с фискальной точки зрения на особом положении. Сохранение этого промысла в западных губерниях, по-видимому, подтверждает приведенное выше суждение специалистов, полагавших, что снятие оброка с бортничества в долговременной перспективе привело к потере заинтересованности казны в сохранении промысла. Западные губернии вошли в состав Российской империи после обнародования Манифеста 1775 г., и, соответственно, его действие на них не распространялось.
Дискуссия о бортниках конца 1830-х—начала 1840-х гг. До конца 1830-х гг. Лесное управление Российской империи, сосредоточенное в 1802—1837 гг. в Министерстве финансов, не считало необходимым бороться с бортничеством. Впервые стремление избавиться от присутствия бортников проявилось, по-видимому, с передачей государственного лесного хозяйства в ведение МГИ, образованного в 1837 г. Уже в 1838 г. в этом ведомстве разгорелась дискуссия о пользе и вреде бортного пчеловодства. Дискуссия эта представляет интерес по ряду причин. Во-первых, в ходе обсуждения вопроса чиновниками МГИ были собраны некоторые статистические данные, относящиеся к бортничеству, что позволяет нам судить о состоянии этого промысла, хотя мы и признаем неполноту этих сведений. Во-вторых, интенсивная переписка по этому вопросу позволяет понять, каковы были аргументы сторон и кто, в глазах руководства МГИ, считался компетентным специалистом в этом вопросе. В-третьих, у нас есть возможность получить хотя бы с чужих слов представление о взглядах самих бортников на достоинства и недостатки своего промысла (сохранившиеся ходатайства самих бортников относятся лишь к последней трети XIX в.).
Из сохранившихся в фондах РГИА документов мы узнаем, что в конце 1830-х—начале 1840-х гг. население занималось бортничеством в казенных и удельных лесах, по крайней мере, в восемнадцати губерниях Европейской России (рис. 2).11 Оброк платили бортники четырнадцати губерний. Его общая сумма была невелика — чуть более тысячи рублей серебром в год за примерно 80 тыс. бортевых деревьев (из них было населено пчелами около трети)12. Дело было не только в том, что значительная часть европейской территории империи подпадала под действие манифеста 1775 г. Оброк в казну не взимался и в тех случаях, когда бортные «ухожья» находились в лесах, выделенных в пользование государственных крестьян, или же в лесах, приписанных к казенным имениям, сданным в аренду — в последнем случае оброк взимался в пользу арендатора. Кроме того, лесные чиновники губернских управлений, перегруженные обязанностями, далеко не всегда обременяли себя тщательным сбором информации. Не имея под рукой готовых данных в виде сведений о поступлениях специального оброка, они могли отвечать, что «оброчных статей, составляющих бортевые ухожья, не имеется»13. Строго говоря, подобная формулировка не означала, что никто в данной губернии не занимается бортничеством. Позднее, в 1860—1870-х гг., при проведении лесоустройств ранее неустроенных казенных дач, в некоторых лесничествах были выявлены по несколько сотен бортевых деревьев.14
В конце 1830-х гг. инициатива в деле обсуждения вопроса о состоянии бортного промысла исходила, судя по всему, от местных органов (палат) МГИ, что в принципе было характерно для рассматриваемого периода. В эти годы зачастую локальная, сиюминутная потребность заставляла центральные органы власти задумываться о выработке общих принципов своей политики в той или иной сфере. В данном случае, толчок к дискуссии был задан Могилевской палатой государственных имуществ, озаботившейся порядком контроля над бортными «ухожьями» в казенных лесах губернии.15
Рис. 2. Распространение бортничества в Европейской России во второй трети XIX в. Светло-серая заливка: губернии, где государственная администрация зафиксировала бортные ухожья в казенных и удельных лесах к началу 1840-х гг. Темно-серая заливка: то же, к началу 1840-х и к началу 1860-х гг.
Показательно, что в этот период большинство чиновников МГИ, как на местах, так и в столице, склонялось к мнению, что бортное пчеловодство может приносить вред лесному хозяйству, не давая при этом значимой прямой экономической прибыли казне. Так, по мнению Могилевской палаты, при выделке бортей портились строевые деревья, окурка пчел, требующая разведения огня в лесу, могла стать причиной пожара, да и сами бортники, находясь в казенном лесу без надзора, вполне были способны воровать лесные материалы. Соответственно, палата настаивала на необходимости запретить бортное пчеловодство во всех казенных лесах, с тем чтобы занимающиеся этим промыслом вывезли свои борти на пасеки, перейдя от бортничества к домашнему разведению пчел. Сходного мнения придерживались и палаты государственных имуществ, расположенные в других губерниях.16 Тем не менее, в тех случаях, когда чиновники на местах попытались собрать фактические данные о случаях возникновения лесных пожаров или кражи казенного леса по вине бортников, им приходилось признать, что подобных следственных или судебных дел в архивах почти не встречалось.
Столкнувшись с запросом Могилевской палаты, министерское руководство поручило изучить вопрос Ученому комитету МГИ, выполнявшему функции консультативного совета при этом ведомстве. Последний, следуя сложившейся практике, обратился к одному из своих членов-корреспондентов за экспертным заключением. Выбор пал на Николая Михайловича Витвицкого (1764—1853) — практика и автора руководств по пчеловодству. Витвицкий был известен как горячий сторонник бортничества17, так что обращение к нему, возможно, означало готовность Ученого комитета получить опровержение на предложения Могилевской палаты. Витвицкий в своих записках, адресованных в МГИ, горячо защищал этот промысел, видя в нем не только экономическую выгоду, но и другие достоинства: он восхищался «пчелами-боровками»18 и превозносил добродетели бортников, объясняя, что именно эти люди должны стать самыми надежными помощниками лесной стражи в деле охраны лесов.19 К сожалению, его витиеватый, цветистый слог при отсутствии внятных доказательств того, как именно бортники служат охранению лесов, лишь вызвал раздражение у некоторых членов Ученого комитета. Одним из немногих понятно изложенных аргументов Витвицкого против вывоза бортей из лесов было отсутствие достаточного взятка для пчел вне лесов. Действительно, лишь малая часть полей средней полосы России засевалась медоносами, например гречихой, которая обеспечивает взяток только в середине лета. Что касается охраны лесов, то Витвицкий объяснял (хотя и довольно путанно), что пчеловод, навещая свои борти в лесу, может первым заметить начинающийся пожар, а его заинтересованность в сохранении промысла подтолкнет его активно бороться с огнем. Витвицкий объяснял и причины неприязни к бортникам со стороны лесных служащих — бортники могли стать нежеланными свидетелями злоупотреблений последних.20 Примерно те же аргументы (о тушении пожаров и злоупотреблениях со стороны лесных чиновников) повторяли защитники бортного пчеловодства и позднее, например бортники уральских заводских лесов в начале XX в.21
Вероятно, недостаточная аргументированность позиции Витвицкого и ее несоответствие настроениям многих чиновников МГИ привели к тому, что руководство этого ведомства пожелало получить от палат государственных имуществ губерний европейской части России более подробные сведения о бортном промысле, а также запросить мнения других специалистов по пчеловодству. Такими приглашенными к обсуждению вопроса экспертами стали Петр Иванович Прокопович (1775—1850) и Александр Иванович Покорский-Жоравко (1813—1874). Из них двоих П. И. Прокопович, пожалуй, не уступал Витвицкому в известности как пчеловод-практик и популяризатор пчеловодства: он был владельцем крупной пасеки, основал первую в России школу пчеловодства и разработал одну из первых моделей рамочного улья. А. И. Покорский-Жоравко, служивший в МГИ в начале 1840-х гг. и непродолжительное время состоявший в Ученом комитете этого ведомства, также опубликовал несколько сочинений в этой области. Мнение этих специалистов резко разошлось с позицией Витвицкого. С их точки зрения, бортничество представляло собой примитивную стадию развития пчеловодства: оно представлялось гораздо менее доходным занятием по сравнению с пасечным содержанием пчел. В силу самой архаичности бортничества, занимающиеся им люди несли на себе печать дикости: нерационально расходовали свое время, и даже, по мнению Покорского-Жоравко, понапрасну рисковали жизнью, залезая на высокие деревья.22 В сущности же, самый главный недостаток этого промысла состоял в невозможности контролировать действия бортника в лесной даче, в то время как пасека представляла «все удобства надзора» за пчеловодом. «Бортяки, — писал Прокопович в 1841 г., — более крадут, нежели дают хозяину, и за всеми этими беспорядками невозможно [хозяину] иметь надзор и их отвратить, все это очевидно, и так не очевидна ли странность предпочитать бортевое пчеловодство пасечному и полевому?».23 Бортников подозревали не только в краже меда и лесных материалов, но и в «праздности и скрывательстве беглых».24 Подобные обвинения в адрес бортников, прозвучавшие в министерской переписке на рубеже 1830—1840-х гг., будут неоднократно повторяться чиновниками и лесовладельцами и впоследствии. Рекомендации экспертов МГИ были поэтому достаточно предсказуемы. Следовало кнутом и пряником поощрять переход крестьян к пасечному пчеловодству: обложить бортный промысел оброком, усилить надзор за работой бортников со стороны лесной стражи, запретить устройство новых бортей, а также предоставить выгодные условия аренды земли под пасеки и распространять сведения об «улучшенном» пасечном содержании пчел, посылая «толковых» крестьянских мальчиков в школу Прокоповича за счет министерства.25
При всем негативном отношении к бортничеству большинства запрошенных экспертов и чиновников лесного ведомства на губернском уровне, в первой половине 1840-х гг. победила все же точка зрения их оппонентов — тех, кто в какой-то мере сочувствовал этому промыслу или, во всяком случае, не стремился его немедленно искоренить. Произошло это, вероятнее всего, потому, что именно такую позицию занимал возглавлявший в этот период МГИ граф П. Д. Киселев. Последний считал нужным сделать переход от бортевого пчеловодства к пасечному «не в виде обязательного для крестьян, а постепенного, по добровольному на то согласию, вследствие убеждения в преимуществе пчеловодства пасечного». Для этого, по мнению Киселева, было вполне достаточно ранее сделанных распоряжений о воспрещении делать новые борти и обучения крестьянских мальчиков в школе Прокоповича за счет палат государственных имуществ на местах. Вопрос об обложении пчеловодства оброком следовало отложить до того момента, когда в великорусских губерниях будет введено поземельное и промысловое обложение, а в западных — до производства новых люстраций.26 Министерство требовало отменить и сборы, уже введенные в некоторых губерниях за постановку ульев в казенных лесах.27
Циркуляр Лесного департамента 1862 г. С новой силой дискуссии о необходимости борьбы с бортничеством разгорелись в МГИ в годы Великих реформ. Освобождение от личной зависимости казенных крестьян значительно сузило задачи МГИ, и хотя само это ведомство все же уцелело, оно частично потеряло свое влияние, бюджет и штаты [5]. Подчиняясь новым требованиям, чиновники МГИ искали способы сокращения документооборота и под сокращение попадали самые малодоходные для казны лесные промыслы, такие как бортевое пчеловодство.
Вероятно, именно этими двумя факторами (снятие с МГИ ответственности за благосостояние крестьян на казенных землях и необходимость сокращения документооборота) и следует объяснять введение запрета на занятие бортничеством в лесах, подведомственных Лесному департаменту (ЛД) МГИ. Впрочем, формально чиновники ЛД в этот период обосновывали необходимость запретительных мер доводами, которые уже высказывались в 1830—1840-е гг.: бортники якобы расхищали казенный лес, способствовали возникновению пожаров, и вообще сам этот промысел носил печать «отсталости и примитивности» по сравнению с пасечным пчеловодством.
Циркуляром от 5 мая 1862 г. ЛД МГИ потребовал от чиновников этого ведомства на местах не просто исключить из числа оброчных статей все бортные «ухожья», но даже изыскать возможности для преждевременного прекращения еще не истекших контрактов на их аренду [16]. К этому времени платившие оброк в казну бортные «ухожья» фиксировались только в десяти губерниях европейской части Российской империи.28
Циркуляр ЛД МГИ вполне предсказуемо саботировался бортниками. Отказываясь вывозить пчел из казенных лесных дач, они обращались с ходатайствами в министерство. Благодаря сохранившимся в фонде Лесного департамента МГИ прошениям мы имеем редкую возможность познакомиться с позицией не только специалистов лесного ведомства и приглашенных им экспертов, но и услышать голоса крестьян-бортников.
Бортники писали, что «пчелы, свезенные на дом, не доставляют такой, как следовало, пользы».29 Сама вывозка бортей из лесу сопряжена с большой опасностью для пчел и далеко не каждая пчелиная семья может пережить такую операцию.30 В отличие от бортного пчеловодства, ульевое и пасечное содержание «требует несравненно большей заботливости и попечения», времени, в том числе и в страду — то есть доступно далеко не всем.31 Крестьяне жаловались, что они не обладают достаточными знаниями и опытом для ульевого и пасечного содержания пчел, а также не могут купить усовершенствованные ульи из-за их высокой цены32. К началу XX в. к аргументам в пользу сохранения бортничества будет добавлена и его рекреационная ценность, о чем писали рабочие уральских заводов. Так, содержатели бортей в заводских лесах Златоустовского уезда Уфимской губернии объясняли, что «дело это дорого просителям […] по вполне естественной и необходимой потребности отдохнуть в лесу от пыльных заводских работ в свободное, преимущественно праздничное время».33
Было бы упрощением полагать, что все лесничие однозначно поддерживали политику, проводимую руководством ЛД. Так, в Гродненской губернии на защиту бортников встал заведующий Беловежской пущей — капитан Корпуса лесничих Карл Штральборн. Сочувствие интересам бортников со стороны лесной администрации в данном случае, вероятно, надо объяснять тем, что в этой местности значительная часть бортей еще со времен Речи Посполитой находилась в арендном содержании у лесной стражи.34 Благодаря поддержке Штральборна и некоторых его коллег, Лесной департамент пошел на встречу бортникам и согласился продлить на несколько лет срок, отведенный на вывоз бортей из ряда казенных дач.35
Конфликт вокруг бортного пчеловодства в Беловежской пуще попал на страницы московской прессы. Впрочем, статья в газете И. С. Аксакова «День» существенно искажала реальную картину: в ней говорилось о промысле, кормившем целую «сотню семейств», и о вопиющих нарушениях со стороны администрации Пущи в ходе лесозаготовок.36 В итоге Штральборну, на деле выступавшему против политики ЛД в отношении бортников, пришлось на страницах газеты опровергать материал, защищая честь своего ведомства. Подчеркивая в своем ответе низкую доходность бортничества для казны, Штральборн в сущности проговаривал мотивы МГИ, стоявшие за циркуляром 1862 г.: уничтожить малодоходные оброчные статьи, чтобы избавить лесную администрацию от «лишней» бюрократической переписки [18].
Несмотря на жесткую позицию центрального аппарата лесного ведомства, лесничие и особенно лесная стража на местах далеко не всегда спешили проводить циркуляр 1862 г. в жизнь. Так, в 1890 г. Уфимско-Оренбургское управление государственных имуществ обнаружило, что в казенной даче Вознесенский бор Орского уезда насчитывалось свыше полутора тысяч бортевых деревьев, «из которых с давнего времени производится пользование медом бывшими владельцами этой дачи — башкирами, без взноса за это в пользу казны какой-либо платы, а по примеру давних лет самовольно». Как оказалось, еще в 1863 г. местному лесничему было поручено заклеймить бортевые деревья и продать их на сруб, но желающих купить эти деревья не нашлось, после чего про бортников благополучно забыли более чем на четверть века. Лесничие часто указывали на бедность бортников, и это могло оказаться действенным аргументом: итогом переписки с Уфимско-Оренбургским управлением стало решение ЛД о дальнейшем безвозмездном пользовании башкирами существующими бортями, ввиду того, что борти «служат подспорьем в их жалком хозяйстве»37. Кроме того, до тех пор пока в губернии не начинались лесоустроительные работы, лесничие зачастую могли не иметь точных сведений о том, что в находящихся под их надзором казенных дачах местные жители все еще занимаются бортничеством38.
В других местах лесные чиновники даже по оценкам столичного руководства проявляли «излишнее усердие к скорейшему уничтожению бортевого пчеловодства». Так, в некоторых лесничествах Минской губернии бортные деревья сразу по истечении формальных сроков, отводившихся циркуляром 1862 г. на ликвидацию «ухожий», были проданы лесопромышленникам на сруб, в обход интересов местных крестьян и нередко за меньшую цену, чем предлагали крестьяне. Крупные лесозаготовки позволяли недобросовестному лесничему получить взятку от лесопромышленника, а самому лесопромышленнику (так как операция производилась путем рубки отдельных деревьев, разбросанных по всему пространству лесной дачи) заготовить деревья более высокого качества и в большем числе, чем было указано в контракте. Бортевые деревья в таких случаях беспощадно вырубались, пчелиные семьи погибали, а крестьяне лишались привычного промысла39.
Примеру ЛД МГИ последовало Лесное управление Отделения по финансам Царства Польского (оно находилось в составе Министерства финансов), в чьем ведении находились казенные лесные дачи этого региона. Здесь бортное пчеловодство было запрещено в 1871 г. Формальное обоснование сводилось к уже знакомым нам претензиям: бортный промысел «примитивен», чреват пожарами в лесу, и в целом это лишь предлог, открывающий доступ в казенные дачи с целью хищения лесоматериалов40.
На особом положении находились леса, приписанные к казенным заводам и отведенные в пользование инородческого населения империи. Попытки ограничить бортный промысел имели место и в них, но подобного рода реформы проводились позднее и не столь последовательно, как в системе ЛД. Позиция самих специалистов лесного ведомства стала изменяться в конце 1870-х—1880-е гг. Лесничие на местах все чаще солидаризировались с мыслями Витвицкого, высказанными еще в 1840-е гг. В 1886 г. Виленско-Ковенское управление государственных имуществ писало в ЛД о негативных последствиях запрета бортничества и весьма оптимистично оценивало возможности его возобновления: «…с разрешением пчеловодства в лесах, пожары в них уменьшатся, так как они причиняют вред как лесу, так и пчеловодству […] уничтожением медоносных растений и […] порчей пчелиных роев. Население само будет стараться предупреждать таковые случаи и готово ручаться круговою порукою за целость тех лесных участков, где будут находиться бортевые деревья с их пчелами»41. Отвечая на подобные донесения, ЛД начал переписку о правилах «бортевого и стойлового пчеловодства»42 в казенных лесах. Разработка общего для империи положения затянулась до начала XX в.43, но уже в конце 1880-х гг. в некоторых лесничествах были введены собственные временные положения44. «Правила для пользования бортевыми деревьями и для подвески ульев в лесах Лесного и Горного ведомств», утвержденные 12 февраля 1903 г. министром земледелия и государственных имуществ, защищали интересы бортников, хотя их применение на местах могло вызывать конфликты45.
Заключение. Само право частной собственности на лес, как носящее абсолютный характер, несовместимый с наличием у других лиц каких-либо прав эксплуатации природных ресурсов в границах одного и того же лесного участка, сложилось в законодательстве Российской империи лишь к самым последним десятилетиям XVIII в., в то время как реальные возможности для его реализации появились еще позднее, с размежеванием частновладельческих, казенных и удельных лесов, не законченным и к 1840-м гг. Этот процесс, очевидно, диктовался требованиями «правильно устроенного лесного хозяйства», выдвигавшимися «лесной наукой» конца XVIII—начала ХIX вв., за которыми, в свою очередь, стояли все возрастающие потребности в лесоматериалах со стороны военных и торговых флотов и шахт, а позднее — железнодорожного строительства, писчебумажной промышленности и пр. Побочным эффектом абсолютного права собственности на лес и внедрения «правильного лесоустройства» стало «выдавливание» из леса традиционных практик лесопользования и их носителей — что хорошо видно на примере правительственной политики в отношении бортничества в казенных лесах европейской части Российской империи в XIX в. Апогей борьбы с бортничеством в Российской империи пришелся на эпоху Великих реформ — время, когда с отменой крепостного права задачи ЛД МГИ сузились до извлечения максимальной прибыли от коммерческой эксплуатации казенных лесов, при крайне низких налоговых поступлениях от бортного промысла. Тем не менее, в отдельных регионах страны бортное пчеловодство сохранилось до конца XIX—начала XX вв., когда горький опыт заставил специалистов-лесоводов задуматься о необходимости сохранения биоразнообразия и, соответственно, терпимее относиться к традиционным практикам лесопользования. Безусловно, выживание бортничества в XIX в. было обусловлено совокупностью различных факторов: сопротивлением самих бортников, малочисленностью чиновников лесной администрации на местах, не слишком рьяно выполнявших приходившие из центра инструкции, а также особым положением многих казенных лесных дач западной и восточной окраин европейской части России (горнозаводские леса, леса в пользовании «инородцев», казенные леса Царства Польского). Изучение документов администраций государственных имуществ в региональных архивах, а также фондов частных имений, вероятно, даст более полную картину распространения и выживания бортничества в XIX—XX вв., чем наше исследование, построенное, в основном, на анализе переписки со столичными ведомствами.
В наши дни бортничество снова стало заметным увлечением в Польше, Белоруссии и Литве, на востоке Германии и в России: в Башкирии, на Южном Урале и Алтае. Экологи подчеркивают, что поддержание популяций пчел с помощью бортничества помогает сохранять биоразнообразие [3, 8]. Туристическая индустрия и общественные движения позиционируют бортничество как часть традиционной культуры и национальный промысел46. Бортник, как хранитель местного знания, стал героем детских книг и комиксов [7, 27].
Работа М. В. Лоскутовой (разделы «Введение», «Законодательство XVII—начала XIX в.» и «Заключение») поддержана грантом РНФ № 16-18-10255.
Авторы выражают признательность Т. Самойлику (T. Samojlik, Mammal Research Institute, Polish Academy of Science) за идею статьи и ценные комментарии, В. Берсеневу (РГИА) за помощь в поиске документов в фондах РГИА, А. Куприянову (НИУ ВШЭ) за карту распространения бортничества, созданную на основе GIS Marx.1905 [23], а также Т. Неходе (T. Niechoda, Люблин, Польша) за фото бортевой сосны.
1 Законы, касающиеся пчеловодства, см.: [14, 19, 24].
2 О закреплении в российском праве принципа безусловной частной собственности на леса см.: [26, p. 23—35].
3 ПСЗ РИ, т. 1, с. 51, 54—55, 79, 92.
4 ПСЗ РИ, т. 2, с. 280, 354, 607—608, 655—656.
5 ПСЗ РИ, т. 4, с. 242—243, 442—443; т. 7, с. 287—289.
6 ПСЗ РИ, т. 17, с. 336, 576, 776—778.
7 ПСЗ РИ, т. 20, с. 84.
8 Такой точки зрения на последствия Манифеста 1775 г. для бортничества придерживались, в частности, председатель Пензенского общества пчеловодства В. П. Попов и специалист по лесной энтомологии И. Я. Шевырев [14, 17]. См. также: Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 387. Оп. 20. Д. 72680.
9 ПСЗ РИ, т. 25, с. 676—677. На активизацию процесса размежевания частновладельческих и казенных лесов в первые годы XIX в. обращал внимание еще М. А. Цветков [15, с. 75].
10 ПСЗ РИ, т. 27, с. 350—356.
11 В это число не входят губернии Царства Польского и Великого княжества Финляндского, а также губернии, где борти сохранялись в крестьянских лесах по крайней мере до конца 1830-х—начала 1840-х гг., такие как Тульская или Тамбовская (РГИА. Ф. 398. Оп. 7. Д. 1937).
12 РГИА. Ф. 398. Оп. 2. Д. 172. Л. 414.
13 РГИА. Ф. 387. Оп. 3. Д. 24412.
14 РГИА. Ф. 387. Оп. 3. Д. 26942. Л. 48—59; 78—80 и др.
15 РГИА. Ф. 398. Оп. 2. Д. 376.
16 РГИА. Ф. 398. Оп. 2. Д. 172. Л. 34—35.
17 Для Витвицкого это был уже второй случай, когда он защищал бортевое пчеловодство от государственной бюрократической машины. В 1827 г. Витвицкий отправился в Варшаву для изучения старинных камеральных актов литовского бортевого пчеловодства. В это время администрация Царства Польского издала указ о «срубке всех бортей» в казенных лесах и о «переселении» этих бортей «в пчельники». Витвицкий, по его словам, почувствовал необходимость выступить в защиту бортников, и ему удалось добиться отмены распоряжения (РГИА. Ф. 398. Оп. 2. Д. 172. Л. 21—32). См. также: [28].
18 См., например: РГИА. Ф. 398. Оп. 2. Д. 376; Ф. 381. Оп. 2. Д. 366. Этот взгляд Витвицкого на биологические достоинства местных полудиких пчел перед культурными (часто привозными) породами, обоснованный, впрочем, на очень наивном уровне, жестко критиковал П. И. Прокопович (РГИА. Ф. 398. Оп. 2. Д. 172. Л. 172—181). Современные специалисты, напротив, ценят полудиких пчел, особенно для поддержания внутривидового разнообразия и выведения новых пород. См. к примеру: [12].
19 РГИА. Ф. 398. Оп. 3. Д. 551. Л. 9—22.
20 РГИА. Ф. 91. Оп. 1. Д. 352. Л. 18—30.
21 РГИА. Ф. 387. Оп. 9. Д. 46036.
22 РГИА. Ф. 398. Оп. 2. Д. 172. Л. 184.
23 РГИА. Ф. 398. Оп. 2. Д. 172. Л. 175.
24 РГИА. Ф. 398. Оп. 3. Д. 551. Л. 26.
25 РГИА. Ф. 398. Оп. 2. Д. 376. Л. 40 об.; Д. 172. Л. 203 об., и пр. В конце 1840-х—начале 1850-х гг. значительное число учеников школы Прокоповича действительно учились за счет казны (РГИА. Ф. 91. Оп. 1. Д. 352. Л. 35—56).
26 РГИА. Ф. 381. Оп. 2. № 366. Л. 82—84.
27 РГИА. Ф. 398. Оп. 2. Д. 172. Л. 285—358. Пасеки не освобождались от поземельного налога, причем налог на землю под пасеку рассчитывался так же, как налог на усадебную землю, то есть был достаточно высок.
28 РГИА. Ф. 387. Оп. 3. Д. 24412.
29 РГИА. Ф. 387. Оп. 26. Д. 512. Л. 21. Эти слова крестьян-бортников почти в точности повторяют аргумент Витвицкого 25-летней давности об отсутствии взятка вне лесов.
30 РГИА. Ф. 387. Оп. 26. Д. 512. Л. 39.
31 РГИА. Ф. 387. Оп. 3. Д. 24412. Л. 128.
32 РГИА. Ф. 387. Оп. 26. Д. 512.
33 РГИА. Ф. 387. Оп. 9. Д. 46036. Л. 32.
34 РГИА. Ф. 379. Оп. 7. Д. 302—305 и пр.
35 РГИА. Ф. 387. Оп. 3. Д. 25121. Л. 180—182; Д. 26942. Л. 55—56.
36 [6]. Бортничество, хотя и было широко распространено в Гродненской губернии в целом, и в Беловежской пуще в частности, никогда не достигало таких масштабов, как утверждала статья. В течение второй половины XIX в. оно постепенно угасало: если в 1790-х гг. лесная стража Пущи платила оброк примерно с тысячи бортей [20], то к концу 1820-х гг. это число упало почти в три раза (РГИА. Ф. 379. Оп. 7. Д. 304, 305). См. также: [22].
37 РГИА. Ф. 387. Оп. 3. Д. 26942. Л. 160—162.
38 РГИА. Ф. 387. Оп. 3. Д. 26942. Л. 48—59; 78—80 и пр.
39 РГИА. Ф. 387. Оп. 3. Д. 26942. Л. 25—31.
40 РГИА. Ф. 387. Оп. 26. Д. 512.
41 РГИА. Ф. 387. Оп. 3. Д. 26942. Л. 135.
42 При стойловом пчеловодстве улей (как правило примитивный) подвешивают на дерево в лесу. Ульи могут вешать весной и снимать осенью для перезимовки. Чтобы закрепить улей на дереве, на стволе часто делали «пробоины», что могло приводить к порче древесины. С бортевым пчеловодством такой способ сближает разбросанность ульев по лесному массиву и, следовательно, проблематичность контроля за действиями бортника.
43 РГИА. Ф. 387. Оп. 9. Д. 46036. Л. 54—56.
44 РГИА. Ф. 387. Оп. 3. Д. 26942.
45 РГИА. Ф. 387. Оп. 9. Д. 46036.
46 См. к примеру: https://www.bortnictva.by/; http://www.bartnictwo.org/ (дата обращения 15.01.2019).
About the authors
M. V. Loskutova
National Research University Higher School of Economics
Author for correspondence.
Email: mvlosk@yandex.ru
Russian Federation, Saint-Petersburg
A. A. Fedotova
St.-Petersburg Branch of the Institute for the History of Science and Technology, Russian Academy of Sciences
Email: f-anastasia@yandex.ru
Russian Federation, Saint-Petersburg
References
Supplementary files