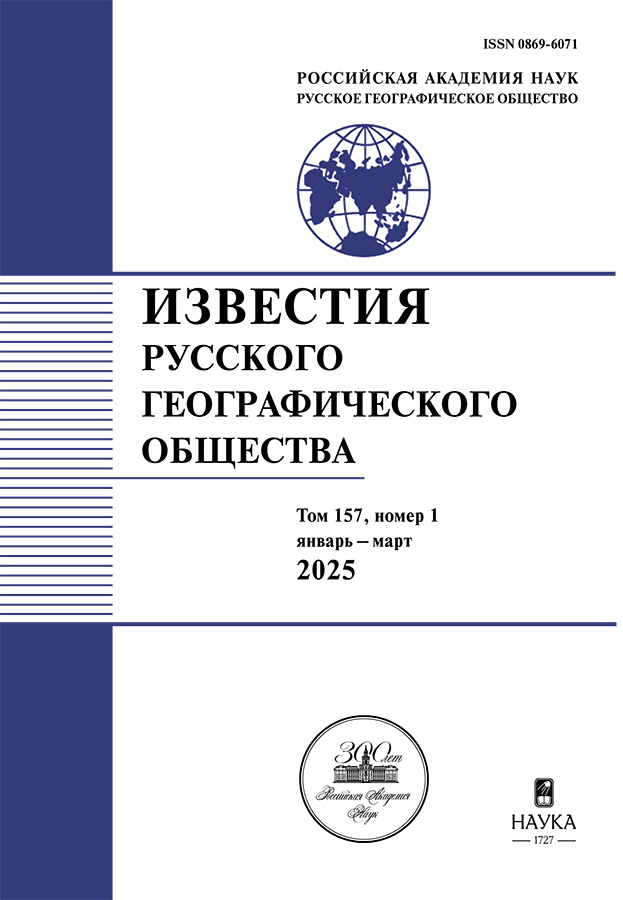Socio-Demographic Potential of the Population and Quality of the Environment in Cities of Siberia
- Authors: Dmitrieva Y.N.1
-
Affiliations:
- V. B. Sochava Institute of Geography SB RAS
- Issue: Vol 157, No 1 (2025)
- Pages: 44-60
- Section: Articles
- URL: https://journals.eco-vector.com/0869-6071/article/view/687032
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0869607125010045
- EDN: https://elibrary.ru/LISHSS
- ID: 687032
Cite item
Full Text
Abstract
In the research the specialties of location of Siberian cities are indicated, their significant differentiation according to quantity in the regions and status according to population quantity. The author analyzed indexes of city environment quality for evaluation of influence of natural and social-economic factors on demographical potential formation. It was revealed that status of a city according to population quantity and its social-economical features have influence on the city environment quality index, so the cities with resource orientation of economics have higher indexes of city environment quality — in Tyumen oblast, Khanty-Mansi Autonomous Okrug-Yugra (KhMAO-Yugra) and Yamalo-Nenets Autonomous Okrug (YaNAO). In the work it is underlined that regional centers are mono-centers, where stable increase of population is observed, high indexes of city environment quality are revealed and 30–60 % of region population is concentrated there. Three types of age structure of population are revealed in regional centers: progressive, stationary and regressive, in the base of which specialties of natural and migration processes lay. In such cities as Kyzyl, Gorno-Altaysk, Ulan-Ude, Yakutsk “young” age structures are provided with high long-term indexes of birthrate; in Khanty-Mansiysk, Salekhard, Tyumen natural growth and migration increase of population is observed. It is revealed that the cities with stationary age structure — Irkutsk, Krasnoyarsk, Novosibirsk, Tomsk, Chita and Abakan are developed multifunctional centers, that attract population, but natural decrease of population is typical there. It is revealed that in the cities with regressive type of age structure — Barnaul, Kemerovo and Omsk — processes of natural and migration decrease of population happen. The author analyzed and graphically shown relationship between environmental quality in cities and indexes of social-demographical potential with use of score.
Full Text
ВВЕДЕНИЕ
Особенности формирования демографической ситуации на различных территориальных уровнях являются актуальной темой изучения в зарубежных и отечественных работах. В научных трудах подчеркивается роль городского пространства на формирование благоприятности экономической, социальной-демографической, экологической среды для общества, во многом определяющей особенности уровня и качества жизни населения. Современное развитие городов и их значительная дифференциация по людности, функциям, социально-экономическому развитию обусловливает интерес представителей различных дисциплин: историков, экономистов, географов, демографов, социологов и др. При оценке городской среды исследователями чаще учитывается комплекс параметров. Предложение о первом мониторинге с использованием интегральных индексов городского развития было выдвинуто на международной конференции программы ООН по населенным пунктам “Хабибат II” [39]. В настоящее время существует более десятка международных индексов, оценивающих качество городской среды и его влияния на жизнь человека. Приведем примеры индексов с позиции оценки качества жизни населения, особенностью которых являются индивидуальные оценки, полученные при опросах: 1) Рейтинг городов по качеству жизни [34, 35]. 2) Рейтинг качества городской среды: Livability Top 100 Best Places to Live (“100 лучших мест для жизни”) [33]. 3) Рейтинг журнала Economist Intelligence Unit World’s Most Liveable Cities ("Наиболее пригодные для жизни города мира") [31]. Данные рейтинги построены на основе большого количества индикаторов, что выстраивает города больше искусственно по наличию или отсутствию определенного набора показателей. Анализ отдельных зарубежных исследований показывает интерес авторов по следующим вопросам: оценка влияния городской среды на процессы рождаемости [32, 40], старения и смертности населения [41]; оценка влияния экономического фактора на процессы урбанизации [26, 27]. В других трудах анализируется рост экономики в городах и миграционное притяжение населения [30, 37], а также опосредованное влияние миграции на рост рождаемости [25]. Классическим примером исследований в разрезе медицинской географии является анализ мест проживания и здоровья населения [29, 36], а также зонирования внутригородской среды по комфортности проживания [28]. Современны и интересны работы по планировке городов с учетом концентрации демографических групп и их потребностей [38]. В данных работах учитываются не только определенный статус поселения (ЭГП, социально-экономическое развитие, развитие сфер здравоохранения и образования и т.д.), но и выявление причинно-следственных связей при взаимодействии элементов "среда — влияние — население — влияние — среда".
В России большинство работ посвящены социальным исследованиям в развитии общества, чаще рассматриваются отдельные демографические аспекты (показатели естественного и миграционного движения населения) [1, 3, 22] либо формирование половозрастных структур населения и социально-демографического потенциала [4, 6, 14]. Другие исследователи уделяют внимание влиянию региональных исторических, природных, экономических факторов на демографические процессы [5, 7, 10, 12] либо, наоборот — демографической ситуации на экономику региона [15]. В географических исследованиях при анализе методических подходов ученые отмечают: “составление многомерных интегральных индексов городов уже широко распространилось и успешно зарекомендовало себя в мире, тогда как в России число работ по построению индексов городов остается небольшим” [9, с. 22]. Так, комплексные оценки и многофакторность анализа качества жизни на локальном уровне городов обобщены и представлены в работах Б. Н. Порфильева, Б. А. Ревич и др. [16, 18]. Интерес вызывают экономгеографические работы, посвященные изучению урбанизационных процессов локального уровня [8, 13, 21]. Исследований взаимосвязи между структурно-демографическими характеристиками городов и качеством городской среды по Сибирским регионам практически нет. При этом для территорий Сибири, население которой размещено крайне неравномерно, существует значительная кратность различий уровня урбанизации в разрезе регионов (от 29.2 до 92.8%), а для городов характерна значительная дифференциация по социально-экономическому статусу и людности (от 1064 чел. до 1136 тыс. чел.). Поэтому автором использован комплексный подход при анализе факторов, оказывающих влияние на формирование и особенности социально-демографического потенциала на локальном уровне. В работе акцентируется, что демографический фактор (естественное воспроизводство населения, миграционные процессы, возрастная структура) является значимым элементом устойчивого функционирования городов.
Цель выполненного исследования — выявление взаимосвязи между структурно-демографическими характеристиками городов и качеством городской среды при формировании социально-демографического потенциала урбанизированного пространства Сибири. В представленном исследовании демографический потенциал рассматривается в широком смысле — “это потенциал общего движения населения (потенциал воспроизводства населения и миграционный потенциал), включающий возможные изменения численности и структуры населения за счет рождаемости, смертности, эмиграции и иммиграции” [20, с. 17].
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
В работе проанализированы показатели индекса качества городской среды (КГС) по данным исследований Минстроя РФ за 2022 г. Индекс КГС учитывает комфортность шести городских пространств (жилье, общественно-деловая инфраструктура, социально-досуговая инфраструктура, общегородское пространство, озелененные пространства и улично-дорожная сеть) по шести критериям (безопасность, комфортность, экологичность и здоровье, идентичность и разнообразие, современность и актуальность среды, эффективность управления). В результате КГС по каждому городу складывалось из суммы 36 индикаторов (по шкале от 0 до 10 баллов). Городская среда считается благоприятной при значении выше 180 баллов [11].
При анализе индикаторов качества среды в городах Сибири автор опирался на две предыдущие работы, где применялись указанные показатели: Т. Г. Ратьковской “Сибирские и дальневосточные города в общероссийском индексе качества городской среды” [17] и Е. В. Будиловой с соавторами “Влияние качества городской среды на демографические показатели здоровья населения” [3].
Далее в работе автором проанализированы основные демографические показатели: прирост населения за десятилетний период и половозрастные структуры населения (2012–2022) в городах — региональных центрах 16 регионов Сибири: Тюменской области с автономными округами — Ханты-Мансийским (ХМАО-Югра) и Ямало-Ненецким (ЯНАО), Республике Саха (Якутия), Республике Бурятия, Забайкальском крае и регионах Сибирского федерального округа на основе базы данных Федеральной службы государственной статистики. В работе учтено, что в связи с пенсионной реформой верхняя граница трудоспособного возраста сдвинулась, поэтому численность людей пенсионного возраста составили мужчины в возрасте от 62 лет и старше (начиная с 1960 г. рождения) и женщины от 57 лет и старше (начиная с 1965 г. рождения) за 2022 г. На основе анализа данных статистического наблюдения по городам Сибири выявлены следующие типы возрастных структур: прогрессивный тип (доля лиц младше трудоспособного населения превышает долю лиц старше трудоспособного возраста); стационарный тип (доли лиц младше и старше трудоспособного возраста равны); регрессивный тип (доля лиц старше трудоспособного населения превышает долю лиц младше трудоспособного).
На основе демографических показателей и индекса КГС автором предложены группировки городов по показателям социально-демографического потенциала и индекса качества городской среды. Каждая группа разбита на три уровня: со значениями выше среднего (3 балла), средними (2 балла) и низкими показателями (1 балл), что позволило провести корреляцию между факторами КГС и показателями социально-демографического потенциала.
При написании работы использованы описательные, статистические, сравнительно-географические, картографические методы. Автором визуализирована сложившаяся ситуация по качеству городской среды (благоприятная, неблагоприятная) в городах Сибири с учетом классификации их по людности.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Общая характеристика городов Сибири. Особенностью размещения населения Сибири является тяготение к главным транспортным магистралям. “Велико градообразующее влияние железнодорожных линий, на которых проживает в сумме 90.3% городского населения. Уникальна в этом отношении роль Транссиба как главной экономической оси Сибири, вдоль которого располагаются 125 городских поселений, в том числе 51 город, и проживает 44% городского населения макрорегиона” [2, с. 7].
На территории Сибирского макрорегиона (в составе указанных 16 регионов) проживает 23.7 млн человек, что составляет 16% населения России (за 2023 г.). Субширотную зону южных более благоприятных для проживания территорий, где сосредоточена бóльшая часть сибирских поселений, называют по праву основной полосой расселения. При этом более половины населения Сибири (12.8 млн чел.) сосредоточено в пяти регионах: Красноярском крае (2.85), Новосибирской (2.78), Кемеровской (2.60), Иркутской (2.35) областях и Алтайском крае (2.26 млн чел.) соответственно [23].
Городское население в Сибири составляет 17.64 млн чел. (74.4%), сельское — 6.07 млн (25.6%), что практически соответствует уровню среднероссийского показателя (74.8%). В разрезе регионов наблюдается значительная дифференциация данного показателя: от минимума в Республике Алтай (уровень урбанизации 29.2%) до максимального показателя по ХМАО-Югре (92.8%).
Для Сибири также характерна значительная разница по числу городов в разрезе регионов. Наибольшее количество городов среди 16 регионов сосредоточено в трех: Красноярском крае, Кемеровской и Иркутской областях (соответственно 23, 23 и 22), наименьшее — в четырех регионах: республиках Тыве и Хакасии, Тюменской области (по 5 городов) и Республике Алтай (1 город).
Сибирские города имеют различный статус по людности — от микрогородов до городов-миллионеров. Наибольшую группу составляют полусредние города, малые и микрогорода, в которых в целом проживает около 11% населения Сибири (табл. 1).
Таблица 1. Распределение городов Сибири по людности, на 01.01.2023 г.
Table 1. Distribution of Siberian cities according to population quantity, for 01.01.2023
Группа | С численностью населения, тыс. чел. | Число городов | Общая численность населения в данных городах, тыс. чел. | Доля населения, проживающего в городах, % (от всех городских жителей) | Доля населения, проживающего в городах, % (от общей численности) |
Города-миллионеры | свыше 1000 | 3 | 3850.5 | 24.0 | 16.5 |
Крупные города | 500–999.9 | 6 | 3732.4 | 23.3 | 15.6 |
Большие города | 100–499.9 | 20 | 4036.0 | 25.2 | 17.0 |
Средние города | 50–99.9 | 24 | 1714.3 | 10.7 | 7.2 |
Полусредние города | 20–49.9 | 63 | 2058.5 | 12.8 | 8.9 |
Малые города | 10–19.9 | 38 | 528.1 | 3.3 | 2.1 |
Микрогорода | до 10 | 18 | 111.4 | 0.7 | 0.4 |
Итого | - | 172 | 16031.2 | 100 | 67.7 |
Составлено автором по [23].
Около 1/3 жителей Сибири сосредоточены в 9 городах: городах-миллионерах — Новосибирске, Омске, Красноярске (вместе 16.5%), и крупных городах — Тюмени, Барнауле, Иркутске, Томске, Кемерово и Новокузнецке (вместе — 15.6% от общей численности населения).
Региональные центры представлены городами различного статуса: от средних (г. Горно-Алтайск, г. Салехард) до городов-миллионеров (г. Красноярск, г. Новосибирск, г. Омск). Несколько региональных столиц представляют собой своеобразные “моноцентры”, в которых сосредоточены 30–60% населения от общей численности всего региона. Лидером по данному критерию является Омская область. В региональном центре, городе-миллионере Омске (с численностью населения 1126.2 тыс. чел.), сосредоточено 60% жителей всей области. Сходная картина размещения населения характерна для нескольких регионов: Новосибирской области — в г. Новосибирске (1621.3 тыс. чел.) сосредоточено 58.3% населения региона; в Тюменской и Томской областях — в региональных центрах сосредоточено по 50% людей от общей численности региона.
Качество городской среды в городах Сибири. Значение индекса качества городской среды за 2022 г. по территории Сибирского макрорегиона варьировалось в пределах от 109 (г. Алзамай Иркутской области) до 247 баллов (г. Ханты-Мансийск) [11]. Региональные центры имеют максимальное значение качества городской среды почти в половине регионов;это города Ханты-Мансийск (247 баллов), Тюмень (240), Абакан (214), Кемерово (212), Новосибирск (204), Улан-Удэ (185) и Якутск (185).
Среди регионов максимальные индексы качества городской среды имеют некоторые города ХМАО-Югра, ЯНАО и Тюменской области — более 240 баллов. В этих регионах нижние показатели индекса качества среды в городах составляют 180 баллов, что близко по значению для городов с максимальными значениями (Улан-Удэ, Калачинск, Якутск) в своих регионах (Республика Бурятия, Омская область, Республика Саха (Якутия)). В региональном разрезе более значительную разницу между максимальными и минимальными показателями индекса благоприятности городской среды имеют города Иркутской области и Красноярского края (рис. 1).
Рис. 1. Дифференциация качества городской среды в регионах Сибири, 2022 г. Значение индекса качества городской среды: 1 — максимальное среди городов в регионе, 2 — минимальное среди городов в регионе, 3 — в региональном центре.
Fig. 1. Differentiation of quality of city environment in regions of Siberia, 2022. Meaning of city environment quality index: 1 — maximal among cities of region, 2 — minimal among cities of region, 3 — in regional center.
Данные регионы в сравнении с остальными регионами Сибири имеют наибольшее количество полусредних, малых и микрогородов: Красноярский край — 15 из 23, Иркутская область — 17 из 22. В группе городов такого статуса по людности зарегистрированы наиболее низкие показатели КГС.
Среди регионов на рисунке не представлена Республика Алтай, так как все городское население в ней сосредоточено в единственном городе — Горно-Алтайске (индекс КГС составляет 198 баллов), что обусловливает стопроцентный показатель благоприятности качества городской среды.
При региональном анализе городов Сибири выявлена практически прямая зависимость статуса города по людности и благоприятности качества городской среды — в городах с большей численностью населения наблюдается более высокое значение качества городской среды: 1) среди трех городов-миллионеров в двух (Новосибирск и Красноярск) выявлена благоприятная городская среда, что в процентах составило 67 против 33% (г. Омск); 2) для всех шести крупных городов Сибири характерна благоприятная среда (или 100%); 3) из 20 больших городов благоприятная среда характерна для 15, что составило 75%; 4) из 24 средних городов благоприятная среда выявлена в 9 городах, или 37%; 5) из 63 полусредних городов благоприятная среда характерна для 21 города, или 33%; 6) среди 38 малых городов — благоприятная среда выявлена в 8 (или 21%); среди 18 микрогородов нет городов с благоприятным значением индекса городской среды.
При анализе территориальной демографической ситуации необходимо учитывать размещение населения по городам с благоприятным и неблагоприятным качеством среды, что дает более объективную оценку, по сравнению с количеством городов. Доля населения, проживающего в населенных пунктах с благоприятной оценкой качества городской среды, варьируется от 96 (Тюменская область) до 3% (Омская область). В целом выделяются 4 региона с максимальными значениями данного показателя (в пределах 84–96%): Тюменская, Томская, Новосибирская области и ЯНАО. В группу со средними значениями в пределах 60–79% вошли большинство регионов Сибири. В Республике Тыва и Омской области наиболее низкий показатель — 6 и 3% населения проживают в городах с благоприятной городской средой.
Социально-демографический потенциал в городах и регионах Сибири. Анализ динамики общей численности населения в разрезе региональных столиц за период 2011–2022 гг. выявил значительные изменения. За десятилетний период произошел рост общей численности во всех городах, кроме г. Омска [23]. В абсолютных показателях наибольший рост произошел в г. Тюмень на 243.7 тыс. чел., что составило прирост на 41.7%, в г. Красноярске — на 125.5 тыс. чел. (или на 12.8%), в г. Новосибирске — на 122.5 тыс. чел. (или на 8.2%). С учетом неравномерного размещения в городах следует отметить рост в относительных показателях в г. Ханты-Мансийске на 31.7% (на 25.5 тыс. чел.), в г. Салехарде — на 22% (на 9.4 тыс. чел.), в г. Якутске — на 18.9% (на 54.2 тыс. чел.) (табл. 2).
Таблица 2. Динамика численности населения по возрастным группам в городах Сибири, 2011–2022 гг.
Table 2. Dynamiс of population according to age groups in cities of Siberia, 2011–2022
Региональная столица, город | Общая численность, тыс. чел | Прирост | Численность населения по возрастным группам, тыс. чел. | |||||
МТ | ТВ | СТ | ПС | |||||
2011 г. | 2022 г. | тыс. | % | 2022 г. | ||||
Горно-Алтайск | 57.1 | 64.6 | 7.5 | 13.1 | 16.2 | 38.1 | 10.3 | П |
Кызыл | 110.2 | 123.3 | 13.1 | 11.9 | 34.9 | 75.2 | 13.2 | П |
Абакан | 164.5 | 187.1 | 22.6 | 13.7 | 41.5 | 109.5 | 36.1 | С |
Барнаул | 671.2 | 692.1 | 20.9 | 3.1 | 123.5 | 415.0 | 153.6 | Р |
Красноярск | 978.8 | 1103.8 | 125.0 | 12.8 | 209.0 | 683.3 | 211.5 | С |
Иркутск | 590.0 | 617.2 | 27.2 | 4.6 | 130.4 | 370.4 | 116.4 | С |
Кемерово | 532.7 | 549.3 | 16.6 | 3.1 | 98.6 | 325.5 | 125.2 | Р |
Новосибирск | 1498.9 | 1621.4 | 122.5 | 8.2 | 299.1 | 963.7 | 358.6 | С |
Омск | 1154.1 | 1139.9 | −14.2 | −1.2 | 206.4 | 651.2 | 282.3 | Р |
Томск | 526.0 | 558.7 | 32.7 | 6.2 | 100.2 | 339.3 | 119.2 | С |
Тюмень | 584.9 | 828.6 | 243.7 | 41.7 | 181.7 | 495.6 | 151.2 | П |
Ханты-Мансийск | 80.5 | 106.0 | 25.5 | 31.7 | 23.4 | 69.0 | 13.6 | П |
Салехард | 42.8 | 52.2 | 9.4 | 22.0 | 13.1 | 33.3 | 5.8 | П |
Улан-Удэ | 405.9 | 436.4 | 30.5 | 7.5 | 99.1 | 259.5 | 77.8 | П |
Чита | 325.5 | 350.0 | 24.5 | 7.5 | 70.3 | 221.0 | 58.7 | С |
Якутск | 287.0 | 341.2 | 54.2 | 18.9 | 77.1 | 219.3 | 44.8 | П |
Примечание: МТ — младше трудоспособного; ТВ — трудоспособного возраста; СТ — старше трудоспособного; ПС — прогрессивность возрастной структуры: П — прогрессивная, С — стационарная, Р — регрессивная.
Note: UW — under working age; WA — working age; OW — older working age; PS — progressiveness of age structure; P — progressive; S — stationary, R — regressive.
Выявлено, что для региональных центров характерны три типа возрастных структур. Прогрессивный тип возрастных структур выявлен в городах: Кызыл (28 : 61 : 11), Горно-Алтайск (25 : 59 : 16), Улан-Удэ (23 : 60 : 17), Якутск (23 : 64 : 13), Ханты-Мансийск (22 : 65 : 13), Салехард (25 : 64 : 11) и Тюмень (22 : 60 : 18). В первых четырех городах “молодость” возрастных структур обеспечивается высокими многолетними показателями рождаемости. В остальных городах особенностью является более высокая доля населения в трудоспособных возрастах по причине занятости людей в сферах добычи нефти и газа. В частности, в ЯНАО на долю промышленности приходится 53.5% ВВП, основу хозяйства составляет нефтегазодобывающая отрасль.
В группу со стационарным типом возрастных структур вошли несколько региональных столиц с практически равным соотношением численности людей в группах младше и старше трудоспособных возрастов: г. Иркутск (21 : 60 : 19), г. Красноярск (19 : 62: 19), г. Новосибирск (19 : 59 : 22), г. Томск (18 : 61 : 21); г. Чита (20 : 63 : 17), г. Абакан (22 : 59 : 19). В данном случае региональные столицы являются развитыми многофункциональными центрами, притягивающими население, но в то же время в них происходит естественная убыль населения.
В городах с регрессивным типом возрастных структур доля пенсионеров превышает долю детей: г. Барнаул (18 : 60 : 22), г. Кемерово (18 : 59 : 23) и г. Омск (18 : 57 : 25). В данных городах сложилась неблагоприятная демографическая ситуация — естественная и миграционная убыль населения. Следует отметить, что типы возрастных структур регионального центра на большинстве территорий соответствуют общим показателям возрастной структуры, сложившейся в регионе (рис. 2).
Рис. 2. Качество среды и прогрессивность возрастных структур в Сибири. Обозначения: тип возрастной структуры в регионе. 1 — прогрессивный, 2 — стационарный, 3 — регрессивный. Города по людности. 4 — город-миллионер, 5 — крупный. 6 — большой, 7 — средний, 8 — полусредний, 9 — малый и микрогорода. Качество городской среды. 10 — благоприятная, 11 — неблагоприятная. Цифрами на карте обозначены города: Республика Тыва — 1. Ак-Довурак, 2. Чадан, 3. Шагонар, 4. Туран; Республика Хакасия — 5. Черногорск, 6. Саяногорск, 7. Абаза; Алтайский край — 8. Новоалтайск, 9. Заринск, 10. Белокуриха, 11. Алейск, 12. Змеиногорск, 13. Горняк, 14. Яровое, 15. Славгород, 16. Камень-на-Оби; Красноярский край — 17. Дудинка, 18. Игарка, 19. Енисейск, 20. Кодинск, 21. Боготол, 22. Шарыпово, 23. Ужур, 24. Назарово. 25. Ачинск, 26. Дивногорск, 27. Железногорск, 28. Сосновоборск, 29. Зеленогорск, 30. Уяр, 31. Заозерный, 32. Бородино, 33. Канск, 34. Иланский, 35. Артемовск, 36. Минусинск; Иркутская область — 37. Бирюсинск, 38. Тайшет, 39. Алзамай, 40. Нижнеудинск, 41. Вихоревка, 42. Тулун, 43. Саянск, 44. Зима, 45. Черемхово, 46. Свирск, 47. Усолье-Сибирское, 48. Ангарск, 49. Шелехов, 50. Слюдянка, 51. Байкальск,52. Железногорск-Илимский, 53. Усть-Кут, 54. Киренск, 55. Бодайбо; Кемеровская область — 56. Мариинск, 57. Анжеро-Судженск, 58. Тайга, 59. Юрга, 60. Березовский, 61. Топки, 62. Ленинск-Кузнецкий, 63. Полысаево, 64. Белово, 65. Гурьевск, 66. Салаир, 67. Киселевск, 68. Прокопьевск, 69. Мыски, 70. Междуреченск, 71. Осинники, 72. Калтан, 73. Таштагол; Новосибирская область — 74. Карасук, 75. Купино, 76. Татарск, 77. Куйбышев, 78. Барабинск, 79. Каргат, 80. Чулым, 81. Обь, 82. Болотное, 83. Тогучин, 84. Бердск, 85. Искитим, 86.Черепаново; Омская область — 87 Исилькуль, 88. Называевск, 89. Тюкалинск, 90. Тара, 91. Калачинск; Томская область — 92. Стрежевой, 93. Кедровый, 94. Колпашево, 95. Асино, 96. Северск; Тюменская область — 97. Ишим, 98. Заводоуковск, 99. Ялуторовск, 100. Тобольск; ХМАО-Югра — 101. Урай, 102. Югорск, 103. Советский, 104. Нягань, 105. Белоярский, 106. Лянтор, 107. Нефтеюганск, 108. Пыть-Ях, 109. Когалым, 110. Радужный, 111. Покачи, 112. Лангепас, 113. Мегион; ЯНАО — 114. Муравленко, 115. Губкинский, 116. Тарко-Сале, 117. Надым, 118. Лабытнанги; Республика Бурятия — 119. Северобайкальск, 120. Бабушкин, 121. Гусиноозерск, 122. Закаменск, 123. Кяхта; Забайкальский край — 124. Петровск-Забайкальский, 125. Хилок, 126. Борзя, 127. Краснокаменск, 128. Балей, 129. Шилка, 130. Нерчинск, 131. Сретенск, 132. Могоча; Республика Саха (Якутия) — 133. Алдан, 134. Томмот, 135. Покровск, 136. Олекминск, 137. Ленск, 138. Мирный, 139. Нюрба, 140. Вилюйск, 141. Удачный, 142. Верхоянск, 143. Среднеколымск.
Fig. 2. Environmental quality and progressiveness of age structures in Siberia. Designation: The type of age structure in the region. 1 — progressive, 2 — stationary, 3 — regressive; Cities according to population quantity. 4 — millionaire city, 5 — large, 6 — big, 7 — average, 8 — halfmiddle, 9 — small and microcities; Environment quality. 10 — favorable, 11 — unfavorable.
The cities pointed by numbers: the Republic of Tyva — 1. Ak-Dovurak, 2. Chadan, 3. Shagonar, 4. Turan; the Republic of Khakassia — 5. Chernogorsk, 6. Sayanogorsk, 7. Abaza; Altai Territory — 8. Novoaltaysk, 9. Zarinsk, 10. Belokurikha, 11. Aleysk, 12. Zmeinogorsk, 13. Gornyak, 14. Yarovoye, 15. Slavgorod, 16. Kamen-na-Ob; Krasnoyarsk Territory — 17. Dudinka, 18. Igarka, 19. Yeniseisk, 20. Kodinsk, 21. Bogotol, 22. Sharypovo, 23. Uzhur, 24. Nazarovo. 25. Achinsk, 26. Divnogorsk, 27. Zheleznogorsk, 28. Sosnovoborsk, 29. Zelenogorsk, 30. Uyar, 31. Zaozerny, 32. Borodino, 33. Kansk, 34. Ilansky, 35. Artemovsk, 36. Minusinsk; Irkutsk region — 37. Biryusinsk, 38. Tayshet, 39. Alzamai, 40. Nizhneudinsk, 41. Vikhorevka, 42. Tulun, 43. Sayansk, 44. Winter, 45. Cheremkhovo, 46. Svirsk, 47. Usolye-Sibirskoye, 48. Angarsk, 49. Shelekhov, 50. Slyudyanka, 51. Baikalsk, 52. Zheleznogorsk-Ilimsky, 53 Ust-Kut, 54. Kirensk, 55. Bodaibo; Kemerovo region — 56. Mariinsk, 57. Anzhero-Sudzhensk, 58. Taiga, 59. Jurga, 60. Berezovsky, 61. Topki, 62. Leninsk-Kuznetsky, 63. Polysaevo, 64. Belovo, 65. Guryevsk, 66. Salair, 67. Kiselevsk, 68. Prokopyevsk, 69. Myski, 70. Mezhdurechensk, 71. Osinniki, 72. Kaltan, 73. Tashtagol; Novosibirsk region — 74. Karasuk 75. Kupino, 76. Tatarsk, 77. Kuibyshev, 78. Barabinsk, 79. Kargat, 80. Chulym, 81. Ob, 82. Bolotnoye, 83. Toguchin, 84. Berdsk, 85. Iskitim, 86. Cherepanovo; Omsk region — 87 Isilkul, 88. Zyvaevsk, 89. Tyukalinsk, 90. Tara, 91. Kalachinsk; Tomsk region — 92. Strezhevoy, 93. Kedrovy, 94. Kolpashevo, 95. Asino, 96. Seversk; Tyumen region — 97. Ishim, 98. Zavodoukovsk, 99. Yalutorovsk, 100. Tobolsk; KhMAO-Yugra — 101. Urai, 102. Yugorsk, 103. Sovetsky, 104. Nyagan, 105. Beloyarsky, 106. Lyantor, 107. Nefteyugansk, 108. Pyt-Yakh, 109. Kogalym, 110. Raduzhny, 111. Pokachi, 112. Langepas, 113. Megion; YANAO — 114. Muravlenko, 115. Gubkinsky, 116. Tarko-Sale, 117. Nadym, 118. Labytnangi; Republic of Buryatia — 119. Severobaikalsk, 120. Babushkin, 121. Gusinoozersk, 122. Zakamensk, 123. Kyakhta; Zabaikalsky Krai — 124. Petrovsk-Zabaikalsky, 125. Khilok, 126. Borzya, 127. Krasnokamensk, 128. Baley, 129. Shilka, 130. Nerchinsk, 131. Sretensk, 132. Mogocha; Republic of Sakha (Yakutia) — 133. Aldan, 134. Tommot, 135. Pokrovsk, 136. Olekminsk, 137. Lensk, 138. Mirny, 139. Nyurba, 140. Vilyuysk, 141. Successful, 142. Verkhoyansk, 143. Srednekolymsk.
Исключениями являются г. Новосибирск (стационарный тип) и Новосибирская область (регрессивный тип), г. Томск (стационарный тип) и Томская область (регрессивный тип), г. Тюмень (прогрессивный тип) и Тюменская область без автономных округов (стационарный тип). Данные города обладают несколькими преимуществами для населения: разнообразием рынков труда, возможностями обучения для детей и молодежи, широким выбором товаров и услуг, что сказывается на притоке людей в города-центры.
Взаимосвязь качества городской среды и демографических показателей
Для выявления взаимосвязи между демографическими показателями и условиями проживания в городе региональные столицы распределены автором по уровням в разрезе трех индикаторов: прироста населения, прогрессивности возрастной структуры и индекса качества городской среды.
По значениям прироста численности населения (за период 2011–2022 гг.) исследуемые города возможно распределить по возрастанию показателя на уровни: первый уровень с отрицательным приростом населения в процентах (оценка 1 балл) — г. Омск (−1.2); второй уровень с приростом населения до 10% (оценка 2 балла) — города: Барнаул (3.1), Кемерово (3.1), Иркутск (4.6), Томск (6.2), Улан-Удэ (7.5), Чита (7.5), Новосибирск (8.2); третий уровень с приростом выше 10% (оценка 3 балла) — города: Кызыл (11.9), Красноярск (12.8), Горно-Алтайск (13.1), Абакан (13.7), Якутск (18.9), Салехард (22.0), Ханты-Мансийск (31.7), Тюмень (41.7).
Показатели прогрессивности возрастной структуры в городах также распределены на уровни: первый уровень характерен для городов с регрессивным типом (оценка 1 балл) — города: Барнаул, Кемерово, Омск; второй уровень со стационарным типом (оценка 2 балла) — города: Абакан, Красноярск, Иркутск, Новосибирск, Томск, Чита; третий уровень с прогрессивным типом (оценка 3 балла) — города: Горно-Алтайск, Кызыл, Тюмень, Ханты-Мансийск, Салехард, Улан-Удэ, Якутск.
Соответственно, показатели качества городской среды распределены: первый уровень с неблагоприятной городской средой, в которых значение индекса составляет от 150 до 180 (оценка 1 балл) — города Омск (154), Кызыл (159); второй уровень с благоприятной городской средой, со значением индекса от 181 до 210 (оценка 2 балла) — города Улан-Удэ (185), Якутск (185), Чита (190), Горно-Алтайск (198), Красноярск (201), Иркутск (201), Барнаул (202), Томск (202), Новосибирск (204); третий уровень с наиболее благоприятной городской средой, со значением индекса более 210 (оценка 3 балла) — города Кемерово (212), Абакан (214), Салехард (232), Тюмень (240), Ханты-Мансийск (247).
Согласно балльной оценке по группам, выявлено, что показатели демографического потенциала (прирост и прогрессивность возрастной структуры) совпадают в большинстве регионов (в 10 из 15). В остальных городах: Абакан, Барнаул, Красноярск и Кемерово — наблюдается естественная убыль населения, а основой увеличения численности является миграционный прирост, что отражается на возрастной структуре (стационарная или регрессивная), что проявляется в увеличение групп населения в трудоспособных возрастах, либо старением населения. В г. Улан-Удэ, наоборот, показатели естественного прироста за несколько лет превышали миграционные значения, что в результате обеспечило прогрессивность возрастных структур в Республике Бурятия и г. Улан-Удэ (рис. 3).
Рис. 3. Корреляция прироста населения, прогрессивности возрастных структур и качества городской среды по уровням в регионах Сибири, 2022 г. Обозначения: 1 — прирост населения, 2012–2022 гг., 2 — прогрессивность возрастной структуры, 3 — качество городской среды.
Fig. 3. Correlation of population growth, progressiveness of age structures and quality of city environment by levels in regions of Siberia, 2022. Designation: 1 — population growth, 2012–2022, 2 — progressiveness of the age structure, 3 — quality of the urban environment.
Линия графика, отражающая качество среды, полностью коррелирует со средними значениями показателей демографического потенциала в городах: Иркутск, Новосибирск, Омск, Томск, Тюмень, Ханты-Мансийск, Салехард, Чита. На одну единицу ниже значение качества городской среды по сравнению с демографическими показателями в городах Горно-Алтайск и Якутск, и на 2 единицы ниже в г. Кызыл, что, возможно, объясняется сохранением в них многолетних высоких уровней рождаемости.
Таким образом, можно сделать вывод, что качество городской среды является одним из ключевых факторов формирования социально-демографического потенциала. Региональные центры Западной Сибири (Тюмень, Ханты-Мансийск, Салехард) лидируют практически по всем позициям качества городской среды и показателям демографического потенциала. Среди других регионов и городов Сибири в них наблюдаются наиболее высокие уровни заработных плат и уровня качества жизни населения: ХМАО — 9-е место в РФ, Тюменская область — 16-е место, ЯНАО — 17-е место соответственно [19].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Данная работа расширила исследования российских регионов по анализу качества среды городов на уровне Сибири. В частности, вычислены значения дифференциации индекса качества городской среды в разрезе шестнадцати регионов и указана доля населения, проживающего на территориях с благоприятной городской средой. Дифференциация индекса качества городской среды в разрезе регионов составляет 2.1 раза (от 247 до 120 баллов). Более низкие значения качества городской среды характерны для малых и микрогородов Красноярского края и Иркутской области. С учетом высокой концентрации населения в региональных центрах варьируется и показатель доли населения, проживающего на территориях с благоприятной оценкой качества городской среды в целом, варьируясь от 96% жителей (Тюменская область) до 3% (Омская область).
Анализ показателей социально-демографического потенциала: прироста населения за десятилетний период и прогрессивности возрастных структур — позволил отразить последствия основных демографических процессов — рождаемости, смертности, т.е. естественного воспроизводства населения и миграционных процессов в разрезе региональных центров. В работе автором впервые предложена и выполнена корреляция по показателям прироста населения, прогрессивности возрастных структур и качеством городской среды при разбивке городов по уровням с применением бальной оценки, что является дополнением к близким по тематике работам.
Автором в работе акцентируется, что малые города ХМАО (Югра) и ЯНАО имеют высокие индексы благоприятной городской среды, что указывает на большее влияние экономического статуса в регионах с развитой отраслью добычи природных ископаемых, чем статуса города по людности. Этим автор опровергает предположения в подобных исследованиях, в которых указывается на основную роль статуса города людности: чем выше численность населения, тем выше оценка благоприятности городской среды.
БЛАГОДАРНОСТИ
Работа выполнена в рамках государственного задания (№ темы — АААА-А21-121012190019-9) в рамках научного проекта “Дифференциация и закономерности эколого-социально-экономического пространства сибирского макрорегиона с позиций восточного вектора развития в условиях глобальной нестабильности”.
About the authors
Y. N. Dmitrieva
V. B. Sochava Institute of Geography SB RAS
Author for correspondence.
Email: Yuliya.dmitr@mail.ru
Russian Federation, Irkutsk
References
- Ayusheeva V. G., Batomunkaev V. S., Zangeeva N. R., Emel’yanova N. V. Prostranstvennyj analiz vozrastnoj struktury naseleniya Aziatskoj Rossii i sopredel’nyx territorij // Geografiya i prirodnye resursy. 2021. № 42(1). S. 25–32. https://doi.org/10.15372/GIPR20210103
- Bezrukov L. A. Osobennosti territorial’noj xozyajstvenno-rasselencheskoj struktury i perspektivy prostranstvennogo razvitiya Sibiri // Internet-zhurnal “Naukovedenie”. 2014. № 6. S. 1–20. URL: http://naukovedenie.ru/PDF/05EVN614.pdf (data obrashheniya: 14.01.2024).
- Budilova E. V., Lagutin M. B., Migranova L. A. Vliyanie kachestva gorodskoj sredy na demograficheskie pokazateli zdorov’ya naseleniya // Narodonaselenie. 2021. T. 24. № 1. S. 44–53. https://doi.org/10.19181/population.2021.24.1.5
- Vorob’ev N. V., Valeeva O. V., Dmitrieva Yu. N., Rykov P. V. Implementaciya social’no-demograficheskogo potenciala Sibiri // Geografiya i prirodnye resursy. 2020. № 5. S. 33–39. https://doi.org/10.21782/GIPR0206-1619-2020-5(33-39)
- Gluxova Z. V., Alekseev N. E. Sovremennye tendencii na rynke truda Sibiri i Omskoj oblasti // Vestnik SibAdi. 2012. № 3(25). S. 105–111.
- Dmitrieva Yu. N. Regional’nye osobennosti vozrastnoj struktury naseleniya Sibiri // Geografiya i prirodnye resursy. 2023. № 4. S. 108–117. https://doi.org/10.15372/GIPR20230411
- Dmitrieva Yu. N. Territorial’naya differenciaciya demograficheskix struktur naseleniya v regionax Sibiri // Izvestiya Irkutskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Nauki o Zemle. 2023. № 44. S. 44–59. https://doi.org/10.26516/2073-3402.2023.44.44
- Zhixarevich B. S., Ruseckaya O. V. Kolebaniya v social’no-e’konomicheskom razvitii krupnyx gorodov Rossii: metodika i rezul’taty rascheta “vektora dinamiki” // Izvestiya Russkogo geograficheskogo obshhestva. 2014. № 146 (4). S. 1–12.
- Zemlyanskij D. Yu., Mahrova A. G., Medvednikova D. M. Metodicheskie podhody k sostavleniyu kompleksnyh indeksov social’no-ekonomicheskogo razvitiya gorodov // Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 5. Geografiya. 2020. № 4. S. 21–31.
- Zubarevich N. V. Strategiya prostranstvennogo razvitiya: prioritety i instrumenty // Voprosy ekonomiki. 2019. № 1. S. 135–145. https://doi.org/10.30680/ ECO0131-7652-2021-4-150-171
- Indeks kachestva gorodskoj sredy. — 2022 g. URL: https://indeks-gorodov. rf/#/ (data obrashheniya: 07.11.2023).
- Isupov V. A. Istoricheskaya demografiya v Sibiri: problemy istoriografii // Gumanitarnye nauki v Sibiri. 2012. № 4. S. 3–8.
- Limonov L. E., Nesena M. V. Strukturno-e’konomicheskaya tipologiya krupnyx Rossijskix gorodov // Izvestiya Russkogo geograficheskogo obshhestva. 2015. № 47(6). S. 59–77.
- Lokosov V. V, Rybal’chenko S. I., Katkova I. P. Demograficheskij i trudovoj potencial Rossii v kontekste celej ustojchivogo razvitiya // Narodonaselenie. 2017. № 4. — S. 19–43. https://doi.org/10.26653/1561-7785-2017-4-2
- Morozova E. A., Chelombitko A. N., Andreeva L. M. Demograficheskaya situaciya i ee vliyanie na social’no-e’konomicheskoe razvitie regiona // Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta. 2012. № 2 (50). S. 213–219.
- Porfir’ev B. N. Goroda i megapolisy: problema definicij i indikatory ustojchivogo razvitiya // Problemy prognozirovaniya. 2018. № 2 (167). S. 14–23.
- Rat’kovskaya T. G. Sibirskie i dal’nevostochnye goroda v obshherossijskom indekse kachestva gorodskoj sredy // E’ko. 2021. T. 51. № 11. S. 157–175. https://doi.org/10.30680/ECO0131-7652-2021-11-157-175
- Revich B. A. Prioritetnye faktory gorodskoj sredy, vliyayushhie na kachestvo zhizni naseleniya megapolisov // Problemy prognozirovaniya. 2018. № 3 (168). S. 58–66.
- RIA Rejting. Rejting regionov po kachestvu zhizni — 2022 g. URL: https://riarating.ru/infografika/20230213/630236602.html (data obrashheniya: 07.02.2024).
- Rybakovskij O. L., Tayunova O. A. Demograficheskij potencial: iz istorii ponyatiya // Narodonaselenie. 2019. № 2. S. 17–25. https://doi.org/10.24411/1561-7785-2019-000
- Smirnov I. P., Tkachenko A. A. Opyt ocenki e’konomiko-geograficheskogo polozheniya gorodov Central’noj Rossii // Izvestiya Russkogo geograficheskogo obshhestva. 2015. № 147 (5). S. 49–57.
- Soboleva S. V., Smirnova N. E., Chudaeva O. V. Izmenenie chislennosti i polovozrastnoj struktury naseleniya Sibirskogo federal’nogo okruga i ego regionov v 1989–2017 gg.: ocenka posledstvij i riski // Region: e’konomika i sociologiya. 2019. № 2 (102). S. 151–184. https://doi.org/10.15372/REG20190207
- Federal’naya sluzhba gosudarstvennoj statistiki RF. Informacionno-analiticheskie materialy. Chislennost’ naseleniya Rossijskoj Federacii po municipal’nym obrazovaniyam. URL: https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13282 (data obrashheniya: 19.10.2023).
- Federal’naya sluzhba gosudarstvennoj statistiki RF. Informacionno-analiticheskie materialy. Chislennost’ naseleniya Rossijskoj Federacii po polu i vozrastu na 1.01.2023 g. URL: https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13284 (data obrashheniya: 11.11.2023).
- Brockerhoff M. Migration and the Fertility Transition in African Cities // Migration, Urbanization, and Development. 1998. № 2. P. 357–360.
- Chen N., Valente P., Zlotnik H. What Do We Know About Recent Trends in Urbanization? // Geography, Sociology, Economics. 1998. № 3. P. 59–88.
- Donald J.F. The identification of urban employment subcenters // Journal of Urban Economics. 1987. № 21. P. 242–258.
- Fujita M., Krugman P., Mori T. On the Evolution of Hierarchical Urban Systems // European Economic Review. 1999. №. 43. P. 209–251.
- Galea S., Vlahov D. Urban Health: Evidence, Challenges and Directions // Annual Review of Public Health 2005. № 26. P. 341–365.
- Gibbs J. The evolution of population concentration // Economic Geography. 1963. № 2. P. 119–129.
- Global Liveability Report. Economist Intelligence Unit, The Economist’s “World’s Most Liveable Cities” 2017. URL: https://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2017/08/daily-chart-10 (data obrashheniya 04.12.2024).
- Hollos M., Larsen U. Fertility Differentials Among the Ijo in Southern Nigeria: Does Urban Residence Make a Difference? // Social Science and Medicine. 1992. № 35. P. 1199–1210.
- Livability “Top 100 Best Places to Live”. 2017. URL: https://livability.com/best-places/top-100-best-places-to-live/2017 (data obrashheniya 05.12.2024).
- Mercer. Quality of living city ranking. URL: https:// mobilityexchange.mercer.com/Insights/quality-of-living-rankings (data obrashheniya 04.12.2024).
- NUMBEO. About Quality of Life Indices. URL: https://www.numbeo.com/quality-of-life/indices_explained. jsp (data obrashheniya 05.12.2024).
- Paul B., Charafeddine R., Frohlich K. Health inequalities and place: A theoretical conception of neighbourhood // Social Science & Medicine. 2007. Vol. 65. № 9. P. 1839–1852. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2007.05.037
- Profiroiu M.C., Bodislav D.A. Challenges of Sustainable Urban Development in the Context of Population Growth European // European Journal of Sustainable Development. 2020. Vol. 9. № 3. P. 51–57. https://doi.org/10.14207/ejsd. 2020.v9n3p51
- Ruan Y., Zhang X., Zhang M. Nonlinear and syneristic effects of demographic characteristics on urban polycentric structure using SHAP // Scientific Reports. 2024. Vol. 14. № 29861 (2024). https://doi.org/10.1038/s41598-024-81076-9
- The state of the world’s cities 2001. United Nations for Human Settlements Ed. Nairobi Kenya. UN-Habitat Publ. URL: https://digitallibrary.un.org/record/456069?v=pdf (data obrashheniya 04.12.2024).
- White M. J., Catherine S. M. Urbanization and Fertility: An Event-History Analysis of Coastal Ghana // Demography. 2008. № 45(4). P. 803–816. https://doi.org/10.1353/dem.0.0035
- Yuan Y., Wu F. The development of the index of multiple deprivations from small-area population census in the city of Guangzhou // Habitat International. 2014. № 41. P. 142–149. https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2013.07.010
Supplementary files