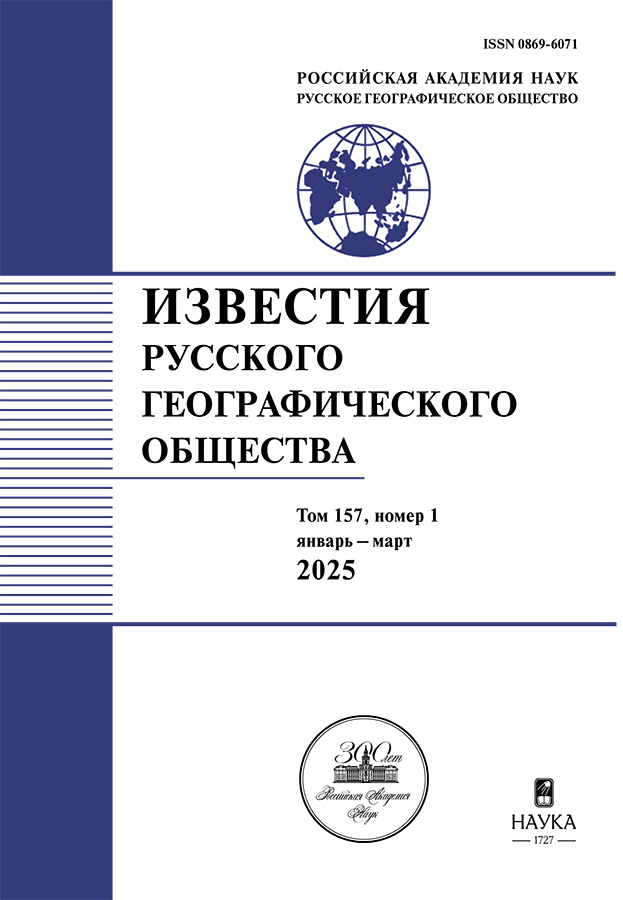Spatial Modeling in Assessing the Wind Energy Potential of the Russian Federation Far Eastern Federal District Southern Subjects
- Authors: Demidionov M.J.1
-
Affiliations:
- Herzen State Pedagogical University of Russia
- Issue: Vol 157, No 1 (2025)
- Pages: 61-78
- Section: Articles
- URL: https://journals.eco-vector.com/0869-6071/article/view/687033
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0869607125010053
- EDN: https://elibrary.ru/LIPPQN
- ID: 687033
Cite item
Full Text
Abstract
The article is devoted to the assessment of wind energy potential for 5 subjects within the Far Eastern Federal District of the Russian Federation: Amur Region, Jewish Autonomous Region, Khabarovsk Region, Primorsky Region, Sakhalin Region. The potential assessment was carried out with a focus on the possible production of “green” hydrogen using electricity generated from wind farms. When calculating the desired potential, the method of hierarchy analysis, coupled with fuzzy and Boolean logic, was used. To carry out the calculations, a list of physico-geographical, economic-geographical and restrictive criteria necessary for a comprehensive assessment of the potential was formed. Based on the assessments of experts in this field, a pairwise matrix of criteria comparison was formed. Based on it, the weights of the criteria themselves were obtained. Subsequently, the wind energy potential was calculated for each point within the boundaries of the studied subjects using the weighted linear combination method. During the calculations, the previously obtained weights of the criteria and their relative values, calculated using fuzzy logic tools, were used. Additionally, considering low winter temperatures, a corresponding amendment was introduced. Based on the data obtained, a statistical assessment was made for the study area, and appropriate recommendations were developed.
Keywords
Full Text
ВВЕДЕНИЕ
В последние десятилетия возобновляемая энергетика занимает все бо́льшую долю в мировом энергобалансе. Многие политики, общественные деятели и исследователи ассоциируют данный процесс с четвертым энергетическим переходом — от традиционных источников энергии (в первую очередь нефти и газа) к возобновляемым (ВИЭ) [30]. Безусловно, по состоянию на начало 2024 г. доля традиционной энергетики превалирует над новыми энергетическими технологиями, однако отрицать активный рост последних невозможно.
Во многом подобная динамика стала следствием необходимости инкорпорирования возобновляемой энергетики в парадигму энергетической безопасности различных стран и регионов мира. На данный момент развитие возобновляемой энергетики в данном ключе связано с двумя ключевыми позициями: необходимостью бесперебойно и независимо обеспечивать энергией собственное население, а также занимать желаемую долю рынка международной торговли энергоресурсами. Первый пункт обеспечивается в первую очередь тем фактом, что ВИЭ имеют строгую географическую привязку, как следствие, снимается вопрос зависимости той или иной территории от импорта сырья. Кроме того, объем возобновляемых источников энергии практически неисчерпаем, в отличие от углеводородов.
С позиции энергетической безопасности более интересен вопрос потенциальной экспортной составляющей. Помимо торговли собственно электроэнергией, произведенной с использованием ВИЭ, важно рассматривать и новые энергоносители, которые, как предполагается, придут на замену привычным нефти и газу. Одним из таких является “зеленый” водород — то есть водород, произведенный методом электролиза с использованием электроэнергии, полученной с применением ВИЭ.
РФ имеет потенциал стать одним из мировых лидеров в данном секторе, и стоит отметить, что подобные планы не раз звучали в общественно-политическом пространстве страны [10]. Схожие идеи, но уже на уровне стратегического планирования, изложены в “Концепции развития водородной энергетики РФ” [8]. В частности, одной из идей, обозначенных в упомянутом документе, было создание как минимум трех кластеров по производству водорода: Арктического, Северо-Западного и Восточного. И если на первый в основном возлагаются задачи по обеспечению топливом арктических территорий страны, то два последних имеют более экспортоориентированную направленность.
Учитывая современные геополитические реалии, включающие в себя и постепенную переориентацию экономики РФ на Азиатско-Тихоокеанский регион, именно Восточный кластер может сыграть ключевую роль в процессе развития водородной энергетики страны. Одним из этапов в данном процессе является оценка потенциала территории к размещению соответствующих производств. Подобного рода оценка играет экзистенциальную роль как при выстраивании геополитической и геоэкономической стратегий, так и при проведении более точечных изысканий относительно возможной локализации соответствующих производств. Нельзя забывать и о потенциальных проблемах с энергодефицитом исследуемого региона.
В научном дискурсе подобные изыскания зачастую имеют под собой именно географический базис. Природа данного явления заключается в комплексности географии как науки, позволяющей одномоментно оценивать в рамках одной системы большое количество разномастных факторов, что в свою очередь должно приводить к более разносторонней оценке. В основе подобных исследований лежат различные методики: от более простых, учитывающих один или два параметра, до более комплексных. В качестве примера использования только скорости ветра при анализе ветроэнергетических ресурсов, можно привести исследование С. Ниянга и др. [25] для территории Сенегала. Более трудоемким является метод анализа ветроэнергетического потенциала с использованием распределения Вейбулла для прогнозирования возможной выработки электроэнергии. Ярким примером подобных работ является исследование С. Катти и др. [23], в котором авторы применили 11 методов аппроксимации параметров Вейбулла при оценке потенциала ветровой энергетики Тонга. В контексте ветроэнергетики стоит обратить внимание и на исследования по уточнению показателей скорости ветра, в частности реанализа данных, к примеру на участках, характеризующихся сложным рельефом, как в работе С. Киселевой и др. [7].
Исследования, в которых используется большее количество параметров для оценки потенциала энергетики, основанной на использовании ВИЭ, входят в группу многокритериального анализа. Особенно активно тема исследования возобновляемых источников энергии развивается в некоторых зарубежных исследованиях. Среди научных работ, в которых использованы подобные методы, можно отметить исследования для территории Ирана [13], Польши [15], Саудовской Аравии [14, 27], Туниса [28], США [29], Эфиопии [18]. Отдельно стоит отметить работу Ю. Нуурулаи по выбору оптимальных локаций для размещения ВЭС в Иране. В упомянутом исследовании мультикритериальный анализ используется вместе с нечеткой логикой, что более точно отражает характер пространственных изменений различных критериев, оказывающих влияние на итоговый результат.
В отечественной науке важно отметить масштабную деятельность сотрудников НИЛ возобновляемых источников энергии МГУ, в том числе созданный ГИС ВИЭ России [6]. Однако работ по именно географической оценке потенциала некоторых дальневосточных территорий РФ к возобновляемой энергетике наблюдается не так много [5], а в контексте водородной энергетики не наблюдается вовсе. Более того, к примеру, Приморский край не затронут даже в рамках Атласа Российских проектов по производству низкоуглеродного и безуглеродного водорода и аммиака [1].
Учитывая тот факт, что для производства “зеленого” водорода требуется использование ВИЭ, при оценке потенциала территории к размещению соответствующих мощностей в первую очередь необходимо оценивать именно потенциал (использования) одного возобновляемого источника энергии либо комбинации нескольких. Такое понятие “потенциал” оставляет достаточно широкое поле для его трактовки. В представленном исследовании под потенциалом подразумевается коэффициент, при расчете которого используются значения физико-географических (плотность энергии ветра, уклон поверхности и пр.) и экономико-географических (расстояние от точки пространства до объектов инфраструктуры) параметров территории.
В данном исследовании было принято решение сфокусировать внимание на исследовании ветроэнергетического потенциала некоторых территорий Дальневосточного федерального округа (ДФО) в том числе и в парадигме развития водородной энергетики. В качестве опытных полигонов использованы территории пяти субъектов РФ в пределах ДФО: Амурской области, Еврейской АО, Приморского края, Сахалинской области и Хабаровского края.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В основе расчета потенциала лежит метода анализа иерархий (МАИ), впервые введенный в научный оборот Т. Саати [9]. Суть методики заключается в расчете веса критериев (и при необходимости субкритериев) для определения, насколько тот или иной фактор оказывает влияние на решение поставленной задачи. Для получения весов составляется общая попарная матрица сравнения критериев на основе нескольких попарных матриц, составленных экспертами в исследуемой области. В основе составления матриц стоит шкала относительной важности, разработанная Т. Саати (табл. 1) [9].
Таблица 1. Шкала сравнения по Саати. Сост. авт. по [9]
Table 1. Saaty’s scale of pairwise comparisons. Comp. by author on [9]
Описание | Стандартные значения | Инверсивные значения |
Одинаковая значимость | 1 | 1 |
Умеренное превосходство | 3 | 1/3 |
Сильное превосходство | 5 | 1/5 |
Очень сильное превосходство | 7 | 1/7 |
Абсолютное превосходство | 9 | 1/9 |
Промежуточные значения | 2, 4, 6, 8 | 1/2, 1/4, 1/6, 1/8 |
Для получения матрицы сравнения необходимо усреднить значения матриц, полученных от экспертов, для чего чаще применяется среднее геометрическое, позволяющее сохранить правило согласованности матрицы.
После расчета весов критериев производится тест на согласованность матрицы. Необходимость в подобных расчетах обусловлена возможной излишней дифференциацией в мнении экспертов, которая может привести к неверным результатам. Для понимания, насколько оценки экспертов согласуются между собой, рассчитывается отношение согласованности матрицы (CR — consistency ratio).
(1)
где CI — индекс согласованности, R — основанное на экспериментальных данных среднее значение индекса однородности случайным образом составленной матрицы парных сравнений (табл. 2).
Таблица 2. Среднее значение индекса однородности случайным образом составленной матрицы парных сравнений в зависимости от размерности матрицы. Сост. авт.
Table 2. The average value of the random consistency index, depending on the dimension of the matrix. Comp. by author
n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
RI | 0 | 0 | 0.52 | 0.89 | 1.12 | 1.26 | 1.36 | 1.41 | 1.46 | 1.49 | 1.52 | 1.54 |
Индекс согласованности (CI) рассчитывается следующим образом:
(2)
где lmax — наибольшее собственное значение матрицы, n — размерность матрицы.
Допустимым значением CI является 0.1 или меньше. В противном случае требуется пересмотр составленных экспертами попарных матриц.
После этапа расчета весов критериев возникает вопрос унификации значений самих критериев. Необходимоcть подобных вычислений обусловлена разницей в единицах измерения, что в свою очередь усложняет процесс их использования для получения единого значения. Для унификации значений критериев было принято решение использовать инструментарий нечеткой логики, нередко применяющийся в комплексе с методом анализа иерархий в ряде исследований на схожую тематику.
При унификации значений при помощи аппарата нечеткой логики необходимо вычислить степень принадлежности значения к множеству. Данная степень выражается в действительных числах от 0 (отсутствие принадлежности) до 1 (полная принадлежность). Для расчета степени принадлежности используется одна из функций, используемых в теории нечетких множеств. Использование отдельных функций для разных критериев обусловлено пространственной дифференциацией последних и, как следствие, тем, что влияние некоторых критериев на итоговый результат изменяется в пространстве нелинейно.
В рамках данного исследования было применено 6 различных функций для унификации критериев (рис. 1.).
Рис. 1. Функции для унификации критериев с применением нечеткой логики при оценке потенциала территории к размещению ВЭС.
Fig. 1. The functions for unifying criteria using fuzzy logic in assessing the potential of a territory for wind power plant placement.
После вычисления унифицированных значений критериев последствием использования метода взвешенной линейной комбинации для получения растра с потенциалом необходимо объединить данные значения и рассчитанные ранее веса критериев:
(3)
где AiWLC–score — значение потенциала, xi — унифицированное значение критерия, wi — вес критерия.
Для вычисления ветроэнергетического потенциала исследуемых субъектов ДФО были выбраны критерии, оказывающие наибольшее влияние на размещение соответствующих производств, а также регулярно встречающиеся в научной литературе на подобную тематику (табл. 3). Функции и параметры унификации подбирались согласно пространственной дифференциации того или иного критерия.
Таблица 3. Критерии, функции и параметры унификации при расчете итоговых значения потенциала ветровой энергетики
Table 3. Criteria, functions, and parameters for the unification of wind energy potential calculations and the determination of final values
Критерий | Функция унификации | параметры функции | |||
a | b | c | d | ||
К1 — плотность ветровой энергии (Вт/м2) | Сигмоидальная (VI) | 17 | 1086 | ||
К2 — уклон поверхности (°) | Линейная убывающая (II) | 2 | 20 | ||
К3 — расстояние до аэропортов и взлетно-посадочных полос (м) | Линейная убывающая 2 типа (III) | 10 000 | 30 000 | ||
К4 — расстояние до крупных населенных пунктов (м) | Треугольная (IV) | 1200 | 3300 | 50 000 | |
К5 — расстояние до автомобильных дорог (м) | Треугольная (IV) | 500 | 1200 | 30 000 | |
К6 — расстояние до ЛЭП (м) | Трапециевидная (V) | 500 | 1000 | 15 000 | 60 000 |
К7 — расстояние до железных дорог (м) | Треугольная (IV) | 500 | 1200 | 25 000 | |
К8 — расстояние до ООПТ (м) | Линейная возрастающая (I) | 1000 | 25 000 | ||
К9 — расстояние до крупных водных объектов (м) | Трапециевидная (V) | 200 | 1000 | 20 000 | 25 000 |
К1 — плотность ветровой энергии (WPD). Данный показатель зачастую используется при оценке ветроэнергетического потенциала территории вместо скорости ветра, так как его применение позволяет учитывать сразу и скорость ветра, и плотность воздуха. Рассчитывается по следующей формуле:
(4)
где r — плотность воздуха (кг/м3), V — средняя скорость ветра (м/с).
Для унификации данного критерия была выбрана именно сигмоидальная функция, в связи с тем, что на практике соотношение скорости ветра / плотности энергии ветра и выработке мощности соответствует скорее вышеупомянутой функции, а не линейной, как в ряде исследований [12]. Показатели параметров основаны на данных для ветроэнергетической установки Vestas V150-4.2 MW. В случае с кривой мощности данного ветрогенератора точке а, при которой начинается выработка электроэнергии, соответствует значение скорости ветра 3 м/с, что при плотности воздуха в 1.257 кг/м3 (плотность на 100 метрах над уровнем моря при температуре воздуха, равной 0°С) соответствует значению плотности энергии ветра, равной 17 Вт/м2. Точка, после которой не происходит увеличения выработки электроэнергии, соответствует значению 12 м/с, что при таких же условиях равняется плотности энергии воздуха 1086 Вт/м2.
Стоит отметить, что в данном случае показатель температуры, может оказывать влияние на плотность воздуха (около 15–20% при диаметрально противоположных значениях температуры от −30 до +30°C), однако с учетом того, что в исследовании применены среднегодовые значения, было принято решение отталкиваться от принятой в большинстве подобных исследований плотности в 1.257 кг/м3. Подобный подход обусловлен тем фактом, что хоть небольшая разница, вносимая температурой, и присутствует, фактически она будет нивелирована за счет разницы летних и зимних температур (среднегодовая температура на территории исследования колеблется от 0 до +5°C).
К2 — уклон поверхности. Большие значения уклона поверхности оказывают негативное влияние на стоимость постройки и обслуживание ветроэлектростанций, как следствие — растет и нормированная стоимость производства электроэнергии. В подавляющем большинстве исследований на схожую тематику критичное значение уклона поверхности находится в промежутке от 10° до 25° [19]. В данном исследовании в качестве подобного “барьера” было принято значение 20°.
К3 — расстояние до аэропортов и взлетно-посадочных полос. Необходимость учитывать данный критерий возникает в первую очередь из-за негативного воздействия ВЭС на авиацию, в связи с влиянием работы электростанции данного типа на турбулентность. С другой стороны, близость взлетно-посадочной полосы положительно влияет на логистику самого предприятия. В связи с этим было принято решение использовать для унификации линейную убывающую функцию 2 типа, при этом буферная зона от вышеупомянутых объектов, в рамках которой размещение ВЭС нежелательно, соответствует 10 000 метров. Данное значение основано как на современных исследованиях по оценке потенциала, так и на практических примерах размещения ВЭС.
К4 — расстояние до крупных населенных пунктов, К5 — расстояние до автомобильных дорог, К6 — расстояние до ЛЭП, К7 — расстояние до железных дорог. Данная группа критериев, являясь сугубо экономико-географической, в первую очередь важна с позиции логистики и инфраструктурного обеспечения. В случае с критериями № 4, 5 и 7 важно учитывать нормативы по шумовому загрязнению, а именно рекомендованные для комфортного сна показатели шума, равные 30 дБ. Для расчета расстояния от ВЭС, при котором уровень шума снижается до необходимых значений, использовалась следующая формула:
(5)
где Lp — звуковое давление (дБ), Lw — звуковое давление турбины (дБ), R — расстояние до точки измерения (м), H — высота башни (м), X — расстояние до основания башни (м), a — поглощение звука в атмосфере (дБ/м).
При проведении расчетов были использованы данные по ветрогенератору Vestas V150-4.2 MW, высота башни была взята за 100 метров. В результате расстояние, на котором уровень шума достигал 30 дБ, равняется 1200 метрам, что и отражено в параметрах унификации. Параметр b в случае с расстоянием до крупных населенных пунктов равняется 3300 метрам, что соответствует расстоянию, при котором уровень шума достигает 10 дБ. При унификации значений критериев для учета всех вышеупомянутых факторов была использована треугольная функция. В случае с К6 — расстояние до ЛЭП, использована трапециевидная функция, что связано с меньшей дифференциацией стоимости строительства ЛЭП в зависимости от километража, чем в случае с автомобильными и железными дорогами.
Учитывались и законодательные требования строительства производств на расстоянии минимум 500 метров от дорог любого назначения.
Важно отметить, что в данном исследовании в качестве крупных населенных пунктов были выделены поселения с численностью населения более 5000 человек.
К8 — расстояние до ООПТ (особо охраняемых природных территорий). Данный критерий особенно важен с позиции геоэкологии. В случае с ВЭС существует большой спектр угроз для фауны любого региона, где подобные установки функционируют [4].
При унификации абсолютных значений данного критерия была применена линейная возрастающая функция. Были применены следующие параметры для унификации: точке a присвоено значение 1000 метров, соответствующее минимальному значению буферной зоны согласно действующему документу, регламентирующему порядок установления и изменения охранных зон вокруг ООПТ. Точке b присвоено значение 25 000 метров, что соответствует значениям наибольшей границы буферной зоны, указанной в вышеупомянутом положении.
К9 — расстояние до крупных водных объектов. Данный критерий используется в первую очередь из-за частичной ориентации данного исследования на потенциальное использование электроэнергии, полученной с помощью ВЭС в рамках производства “зеленого” водорода. Вода (в первую очередь пресная) является сырьем при электролизе для соответствующего производства. По оценкам, для производства 1 килограмма водорода требуется около 9 литров чистой воды, хотя фактическое потребление зачастую выше [22]. В качестве крупных водных объектов были отобраны крупнейшие реки и озера региона (Амур, Зея, Бурея, Уссури, Зейское водохранилище, оз. Болонь, оз. Ханка, оз. Орель и пр.).
При внедрении в подобные исследования данного критерия необходимо учитывать и экологические нормы, в частности ширину водоохранной зоны (200 м), установленную статьей 65 "Водного кодекса РФ" [2].
Дополнительно к итоговой оценке потенциала была введена температурная поправка в связи с ограничением деятельности ветрогенератора при низких температурах. Так как в исследовании было принято решение отталкиваться от показателей ветроэнергетической станции Vestas, то и вышеупомянутая поправка рассчитывалась относительно диапазона рабочих температур последней.
Данные о среднемесячной температуре воздуха были получены на портале Гидрометцентра России [3], суммарно были использованы показатели 100 метеостанций, расположенных на территории исследования. Полученные показатели были интерполированы, и в результате были получены массивы данных о средней температуре на каждый месяц (на высоте 2 метра над поверхностью). Важно отметить, что в связи с тем, что высота башни ветрогенератора составляет около 100 метров, была введена дополнительная корректировка температуры воздуха.
Учитывая температурный диапазон установки (от −30 до +45°C — рабочий диапазон, от −20 до +30°C — диапазон без потерь мощности), было принято решение использовать для унификации данного показателя трапециевидную функцию с соответствующими параметрами. На основе полученных данных был рассчитан специальный температурный коэффициент для введения вышеупомянутой поправки:
(6)
где ftn — значение функции от среднемесячной температуры (n — порядковый номер месяца).
Стоит отметить, что данные даже с достаточно большого количества метеостанций не могут претендовать на абсолютную точность, учитывая площадь и сложный рельеф территории исследования. Однако, учитывая большой температурный диапазон ВЭС, а также тот факт, что температура воздуха фигурирует только в рамках поправки, а не критерия, небольшие неточности не сыграют существенной роли в формировании итоговых результатов.
В результате умножения значений коэффициента для каждой точки пространства на полученный ранее потенциал территории для соответствующих точек было получено значение ветроэнергетического потенциала территории согласно использованной методике.
Для исключения непригодных в рамках исследуемой хозяйственной деятельности территорий из общего массива по потенциалу применялась булева логика, где точкам в пространстве были присвоены значения 0 — размещение предприятия запрещено и 1 — размещение предприятия разрешено. Для получения итогового массива данных необходимо произвести умножение полученного растра потенциала на растр с критериями ограничения.
В качестве подобных территорий были выбраны следующие: населенные пункты (буфер — 1200 м), аэропорты и взлетно-посадочные полосы (буфер — 1000 м), ООПТ (буфер — 1000 м), водные объекты (буфер — 200 м), крупнейшие реки региона: Амур, Зея, Бурея и Уссури (буфер 20 000 м). Последний критерий введен в связи с риском затопления территорий. Параметр в 20 000 метров введен согласно учебному пособию А. А. Соколова [11].
Данные, необходимые для анализа экономико-географических критериев, были получены автором с помощью портала NextGIS и впоследствии переработаны [24]. Данные по средней скорости ветра (пространственное разрешение 250 метров на пиксель) были получены на портале Global Wind Atlas [19]. Набор представленных на портале материалов основан на расчетах, включающих в себя использование данных ERA5 (за период с 2008 по 2017 г.) с последующей их обработкой с учетом особенностей рельефа поверхности. Более подробное описание методики представлено на портале Global Wind Atlas в разделе “Методы” [21].
Также в текущем исследовании используется модель рельефа SRTM (30 метров на пиксель) как для введения в анализ критерия уклона поверхности, так и для расчета плотности энергии ветра. Данные с подобным разрешением представлены для территорий южнее 60° с.ш., следовательно, территории севернее не были учтены в расчетах.
Также в рамках статистического анализа данных для административно-территориальных единиц (АТЕ), входящих в состав исследуемых субъектов, были рассчитаны следующие статистические показатели относительно потенциала: среднее арифметическое и 90-й процентиль. Последний показатель имеет экзистенциальное значение при оценке потенциала; так, в рамках подобных исследований наибольший интерес вызывают наиболее энергоэффективные территории, соответственно использование 90-го процентиля позволяет вычленить 10% территорий с наилучшими показателями.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Для составления матриц попарного сравнения были использованы данные, содержащиеся в работах [16, 17, 28, 30]. Дополнительная матрица была сформирована автором исследования для внесения большей доли региональных особенностей.
Итоговая матрица, а также веса критериев представлены в табл. 4. Показатель отношения согласованности (CR) составил 0.99, что позволяет говорить о согласованности самой матрицы.
Таблица 4. Попарная матрица и веса критериев для анализа потенциала территории к развитию ветроэнергетики (через призму водородной энергетики)
Table 4. A pairwise matrix and criteria weights for analyzing the potential of a given territory for wind energy development (considering hydrogen energy)
Среди критериев наибольшую значимость получил критерий плотности энергии ветра (0.393), а наименьшую (0.022) — расстояние до аэропортов и взлетно-посадочных полос (рис. 2).
Рис. 2. Веса критериев при оценке потенциала территории к размещению ВЭС.
Fig. 2. The weights of criteria in assessing the territory potential for the wind farms placement.
По итогам расчетов был сформирован массив данных по потенциалу территории к размещению ВЭС, в том числе с учетом возможности производства “зеленого” водорода. Среднее арифметическое значение рассчитанного потенциала для всей выборки составило около 0.25 (рис. 3).
Рис. 3. Распределение потенциала ветроэнергетики в исследуемом регионе. По оси ординат отмечено количество пикселей итогового растра.
Fig. 3. The distribution of wind energy potential within the studied area. The y-axis represents the number of pixels in the final raster image.
На рис. 4 представлены значения плотности энергии ветра (WPD), а в свою очередь распределение показателя потенциала в пространственном выражении представлено на рис. 5.
Рис. 4. Значения WPD на территории исследования для высот.
Fig. 4. The WPD values in the study area for heights.
Рис. 5. Потенциал территории к размещению ВЭС с возможностью производства “зеленого” водорода.
Fig. 5. The potential of the area for the wind farms construction (considering future hydrogen energy production).
ОБСУЖДЕНИЕ
По результатам оценки ветроэнергетического потенциала в первую очередь выделяются территории, расположенные вдоль границы с Китаем. Можно отметить и некоторые р-ны Хабаровского края недалеко от города Советская Гавань. Отдельно располагаются и небольшие по площади участки, обладающие высоким потенциалом, в частности некоторые территории на Курильских о-вах (к примеру, Итуруп и Симушир), на материковом побережье Сахалинского залива и на юге Приморского края.
По результатам статистического анализа полученного массива данных можно выделить следующие территории:
- по среднему потенциалу АТЕ наиболее ярко выделяются Владивостокский и Южно-Курильский городские округа (ГО). Также стоит отметить Надеждинский и Спасский районы, Хорольский муниципальный округ (все — Приморский край). В Амурской области можно выделить Белогорский муниципальный округ (МО);
- по значениям 90-го процентиля (10% наиболее эффективных территорий) также выделяются Владивостокский и Южно-Курильский ГО, Хорольский МО. Более того, в случае с последним важно отметить и большую площадь территорий с высоким ветроэнергетическим потенциалом (106 км2 обладают значениями больше 0.65).
Суммируя все вышесказанное, можно выделить три основные группы территорий, обладающих высоким потенциалом, а именно юг Приморского края; некоторые территории в южной и центральной областях острова Сахалин; некоторые острова Курильского архипелага. Отдельно выделяются некоторые АТЕ на юге Амурской области, а также Советско-Гаванский район Хабаровского края.
Именно комплексность предложенной оценки территории описанными выше методами позволяет более объективно вычленить территории, обладающие потенциалом. К примеру, высокие показатели Приморского края во многом обусловлены соответствующим уровнем развития инфраструктуры региона, однако там имеются и относительно неплохие показатели как скорости ветра, так и плотности энергии. В случае с другими выделенными территориями, к примеру о. Сахалин, основополагающую роль сыграли физико-географические показатели, однако и определенное инфраструктурное обеспечение также внесло свою лепту в итоговый результат.
В качестве примера, где использование подобных методов исследования позволило отсеять из массива территории, имеющие только высокий физико-географический потенциал при практически полном отсутствии необходимого инфраструктурного обеспечения, можно выделить западное побережье Охотского моря. В данном регионе наблюдаются наивысшие в сравнении со всей территорией исследования показатели плотности энергии ветра, однако экономико-географические факторы практически не представлены, а реализация даже очень внушительных исходных физико-географических данных при подобных условиях не является экономически целесообразной.
Однако, безусловно, учитывая высокий вес критерия “плотность ветровой энергии”, он сыграл значительную роль в итоговом массиве данных. Несмотря на то что практически на всем протяжении Транссибирской магистрали инфраструктурные критерии оказывают практически одинаковое влияние на результат, более высокие скорости ветра на восток от Благовещенска и на запад от Хабаровска увеличивают на данных территориях показатели потенциала, что, к примеру, объясняет высокие показатели Белогорского МО. Другим примером является то, что на юге Приморского края наибольшим потенциалом отличаются территории, протянувшиеся от озера Ханка до г. Владивосток. Данный участок отличается более высокими показателями плотности ветровой энергии, чем земли, находящиеся западнее и восточнее.
Важно понимать, что в случае с ветроэнергетикой размещение предприятий на большом удалении от необходимой инфраструктуры, и в особенности от потребителя, экономически неэффективно. Транспортировка полученной на ВЭС электроэнергии на длительные расстояния ведет к крупным потерям, поэтому в данном случае дистанция между станцией и потребителем априори должна стремиться к минимальной. Когда речь идет о транспортировке полученной энергии при помощи энергоносителя, которым, к примеру, может быть “зеленый” водород, то свою роль играет существующая на данный момент дороговизна его перевозки, в отличие от традиционных энергоносителей, таких как нефть, газ или уголь.
Более того, если рассматривать существующие сейчас способы транспортировки водорода, то самым выгодным (на средние и дальние расстояния) является морской способ доставки. Учитывая полученные в ходе исследования данные, можно выдвинуть предположение, что в рамках указанной парадигмы, помимо имеющегося высокого ветроэнергетического потенциала, территории юга Приморского края, а также Сахалинской области (включая некоторые острова Курильской гряды) могут быть использованы как перспективные площадки для производства “зеленого” водорода в том числе и по причине удачного расположения относительно морских транспортных путей, что в свою очередь потребует развития соответствующей портовой инфраструктуры.
Стоит отметить, что в исследовании не проведен анализ конкретной выработки электроэнергии и следующий за ним экономический анализ. Причина кроется в том, что данная тема обширна и заслуживает отдельного исследования, которое планируется произвести и опубликовать. В рамках данного вопроса необходимо не только рассмотрение скорости ветра и плотности энергии ветра, но и турбин с различными характеристиками, расчета нормированной стоимости производства электроэнергии (LCOE). В случае с последующим производством “зеленого” водорода необходим анализ различных систем для электролиза и экономический анализ, в том числе учитывающий экспорт. Все это является перспективной темой для будущих исследований в данной сфере.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основе полученных данных можно говорить о том, что в исследуемых субъектах ДВФО РФ находятся территории, обладающие высоким ветроэнергетическим потенциалом. Стоит также отметить, что многие из отмеченных ранее административно-территориальных единиц, обладающих высокими показателями, обладают и определенными преимуществами в рамках возможного экспорта, что особенно актуально для “зеленого” водорода. Подобный экспорт, особенно в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, является одним из важных пунктов планирования структуры российского энергетического сектора в будущем, на что указывают и некоторые положения “Концепции по развитию водородной энергетики РФ”, утвержденной Правительством РФ [8].
Также не стоит забывать о том, что способность сохранять необходимую долю на мировом рынке энергоресурсов входит в парадигму энергетической безопасности, которая в свою очередь является одной из основ благосостояния страны. Территории ДВФО РФ, благодаря в том числе и своему приморскому положению, могут внести весомый вклад в развитие данной сферы, безусловно, при необходимых инвестициях в исследуемые сектора энергетики.
В случае с электроэнергией, произведенной на ВЭС, важно отметить и другое положение энергетической безопасности, а именно обеспечение собственного населения достаточным количеством электроэнергии. Учитывая перманентную заинтересованность страны в развитии дальневосточных территорий, введение в строй современных методов добычи энергии может способствовать дальнейшему более активному развитию региона. Совместно с экспортной составляющей данный регион может стать одним из флагманов российской возобновляемой энергетики уже к середине XXI века.
Важно заметить, что полученные значения потенциала не отражают конкретных значений по возможной выработке электроэнергии, однако они являют собой опору для принятия первичных решений и выделения территорий, где имеет наибольший смысл проводить более конкретные изыскания. Для расчета точных значений потенциальной выработки необходимо учитывать как минимум суточные, а желательно и почасовые значения скорости ветра, а также производить моделирование возможных скоростей, к примеру, с использованием распределения Вейбулла. Это позволит учесть как сезонные особенности, так и суточное распределение скорости ветра. Кроме того, перспективным направлением для исследования является анализ с применением характеристик различных типов ветрогенераторов для каждой конкретной локации. Проведение подобных изысканий позволит более точно определить ветроэнергетический потенциал территорий, что должно способствовать более точному выстраиванию энергетической стратегии страны.
About the authors
M. J. Demidionov
Herzen State Pedagogical University of Russia
Author for correspondence.
Email: demidionovforwork@gmail.com
Russian Federation, Saint-Petersburg
References
- Atlas Rossijskih proektov po proizvodstvu nizkouglerodnogo i bezuglerodnogo vodoroda i ammiaka. // minpromtorg.gov.ru [website] / Ministerstvo promyshlennosti i torgovli RF. URL: https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!atlas_rossiyskih_proektov_po_proizvodstvu_nizkouglerodnogo_i_bezuglerodnogo_vodoroda_i_ammiaka
- Vodnyj kodeks Rossijskoj Federacii: Federal’nyj zakon № 74-FZ ot 03.06.2006
- Gidrometcentr Rossii. URL: https://meteoinfo.ru (access date 20.12.2023).
- Govorushko S. M. Vozdejstvie vetrovyh jelektrostancij na okruzhajushhuju sredu // Al’ternativnaja jenergetika i jekologija. 2011. № 4. S. 38–42.
- Demidionov M. Ju. Prostranstvennoe modelirovanie potenciala razvitija al’ternativnoj jenergetiki na primere ostrova Sahalin // Tihookeanskaja geografija. 2023. № 4 (16). S. 82–92. https://doi.org/10.35735/26870509_2023_16_8 EDN: PDZYFQ
- Kiseleva S. V., Lisickaja, N. V., Popel’ O. S., Rafikova Ju. Ju., Tarasenko A. B., Frid S. E., Shakuna V. P. Geoinformacionnye sistemy dlja vozobnovljaemoj jenergetiki (obzor) // Teplojenergetika. 2023. № 11. S. 115–127. https://doi.org/10.56304/S0040363623110073. EDN SNIADQ
- Kiseleva S. V., Shestakova A. A., Toropov P. A., Myslenkov S. A. Evaluation of wind energy potential of the Black Sea coast using cfsr // Alternative Energy and Ecology (ISJAEE). 2016. № 15-18. S. 75–85. https://doi.org/10.15518/isjaee.2016.15-18.075-085
- Rasporjazhenie Pravitel’stva RF: Koncepcija razvitija vodorodnoj jenergetiki v Rossijskoj Federacii ot 05.08.2021 № 136-FZ // government.ru [website] / Pravitel’stvo Rossii. 09.08.2021. URL: http://static.government.ru/media/files/5JFns1CDAKqYKzZ0mnRADAw2NqcVsexl.pdf (application date 01.03.2023).
- Saati T. L. Prinjatie reshenij. Metod analiza ierarhij. M.: Radio i svjaz’, 1989. 316 s.
- Skopinceva E. RF nacelilas’ zanjat’ pjatuju chast’ mirovogo rynka vodorodnoj jenergetiki // eg-online.ru. [website] / Jekonomika i zhizn’. 15.12.2023. URL: https://www.eg-online.ru/article/477628/ (application date: 01.03.2024).
- Sokolov A. A. Gidrografija SSSR. L.: Gidrometeoizdat, 1952. 287 s.
- Soliman H., Burlov V. G., Ukrainceva D.A. Ispol’zovanie nechetkoj logiki v srede GIS dlja vybora mestopolozhenija vetrjanyh jelektrostancij na primere provincii Homs, Sirija // Mezhdunarodnyj nauchno-issledovatel’skij zhurnal. 2022. № 11(125). S. 1–13.
- Ahadi P., Fakhrabadi F., Pourshaghaghy F., Kowsary F. Optimal site selection for a solar power plant in Iran via the Analytic Hierarchy Process (AHP) // Renewable Energy // Renewable Energy. 2023. Vol. 215. № 118944. https://doi.org/10.1016/j.renene.2023.118944
- Albraheem L., AlAwlaqi L. Geospatial analysis of wind energy plant in Saudi Arabia using a GIS-AHP technique // Energy Reports. 2023. Vol. 9. P. 5878–5898. https://doi.org/10.1016/j.egyr.2023.05.032
- Amsharuk A., Łaska G. The Approach to Finding Locations for Wind Farms Using GIS and MCDA: Case Study Based on Podlaskie Voivodeship, Poland // Energies. 2023. Vol. 16 (20). № 7107. https://doi.org/10.3390/en16207107
- Ayodele T. R., Ogunjuyigbe A. S. O., Odigie O., Munda J. L. A multi-criteria GIS-based model for wind farm site selection using interval type-2 fuzzy analytic hierarchy process: The case study of Nigeria // Applied Energy. 2018. Vol. 228. P. 1853–1869. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2018.07.051
- Barzehkar M., Parnell K. E., Dinan N. M., Brodie G. Decision support tools for wind and solar farm site selection in Isfahan Province, Iran // Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2017. Vol. 23. P. 1179–1195. https://doi.org/10.1007/s10098-020-01978-w
- Benti N. E., Alemu Y., Balta M., Gunta S., Diro M., Semie A., Mekonnen Y., Yohannes H. Site suitability assessment for the development of wind power plant in Wolaita area, Southern Ethiopia: an AHP-GIS model // Scientific Reports. 2023. Vol. 13(1). P. 1–13. https://doi.org/10.1038/s41598-023-47149-x
- Cunden T. S. M., Doorga J., Lollchund M. R., Rughooputh S. D. D. V. Multi-level constraints wind farms siting for a complex terrain in a tropical region using MCDM approach coupled with GIS // Energy. 2020. Vol. 211. № 118533. https://doi.org/10.1016/j.energy.2020.118533
- Global Wind Atlas. URL: https://globalwindatlas.info/ru (application date: 25.10.2023)
- Global Wind Atlas. Method. URL: https://globalwindatlas.info/en/about/method (application date: 09.12.2024)
- Kumar P., Date A., Mahmood N., Das R. K., Shabani B. Freshwater supply for hydrogen production: An underestimated challenge // International Journal of Hydrogen Energy. Vol. 78. 2024. P. 202–217. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2024.06.257.
- Kutty S. S., Khan M. G. M., Ahmed M. R. Analysis of wind characteristics and wind energy resource assessment for Tonga using eleven methods of estimating Weibull parameters // Heliyon. 10(9), 2024, e30047. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e30047.
- NextGIS. URL: https://data.nextgis.com/ru/ (application date: 30.10.2023)
- Niang, S. A. A., Gueye, A., Drame, M. S., Ba, A., Sarr, A., et al. Analysis of wind resources in Senegal using 100-meter wind data from ERA5 reanalysis // Scientific African. Vol. 26, 2024, e02480. https://doi.org/10.1016/j.sciaf.2024.e02480
- Noorollahi Y. A., Senani A. G., Fadaei A., Simaee M. A framework for GIS-based site selection and technical potential evaluation of PV solar farm using Fuzzy-Boolean logic and AHP multi-criteria decision-making approach // Renewable Energy. 2022. Vol. 186. P. 89–104. https://doi.org/10.1016/j.renene.2021.12.124
- Raza M. A., Yousif M., Hassan M., Numan M. Geospatial analysis of wind energy plant in Saudi Arabia using a GIS-AHP technique // Renewable Energy. 2023. Vol. 206. P. 180–190. https://doi.org/10.1016/j.renene.2023.02.010
- Rekik S., El Alimi S. Optimal wind-solar site selection using a GIS-AHP based approach: A case of Tunisia // Energy Conversion and Management: X. 2023. Vol. 18. № 100355. https://doi.org/10.1016/j.ecmx.2023.100355
- Sánchez-Lozano J. M., Ramos-Escudero A., Gil-García I. C., García-Cascales M. C., Molina-García A. A GIS-based offshore wind site selection model using fuzzy multi-criteria decision-making with application to the case of the Gulf of Maine // Expert Systems with Applications. 2022. Vol. 210. № 118371. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2022.118371
- Saprong D., Baffoe P. E. Selecting Suitable Sites for Wind Energy Development in Ghana // Ghana Mining Journal. 2015. Vol. 16. № 1. P. 1–8. https://doi.org/10.4314/gm.v16i1.2
- Zhao X. Difficulties in Implementing Russia’s New Energy Strategy and Prospects for Sino-Russian Energy Cooperation // Chinese Journal of Slavic Studies. 2023. Vol. 3(2). P. 263–285. https://doi.org/10.1515/cjss-2023-0010
Supplementary files