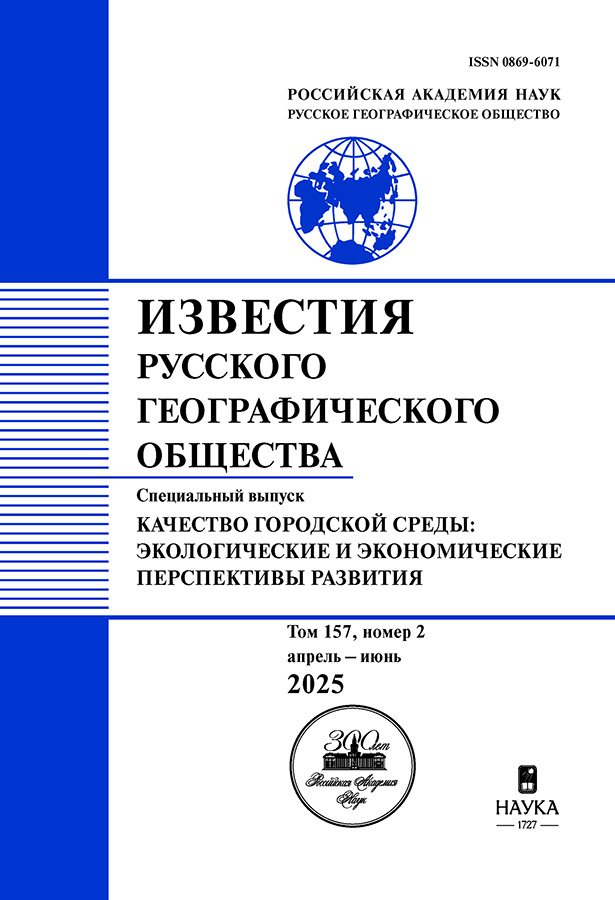Production Specializations as a Factor in the Demographic and Social Development of Medium-Sized Cities in Russia
- Authors: Gataullina A.I.1, Kolchinskaya E.E.1,2, Limonov L.E.1,2
-
Affiliations:
- Higher School of Economics
- Leontiev Center
- Issue: Vol 157, No 2 (2025)
- Pages: 149-175
- Section: Articles
- URL: https://journals.eco-vector.com/0869-6071/article/view/688704
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0869607125020019
- EDN: https://elibrary.ru/KXDMTV
- ID: 688704
Cite item
Full Text
Abstract
The article is devoted to the study of the connection between the specialization of medium-sized cities in Russia and individual socio-demographic parameters. The purpose of the study is to identify the presence of this relationship and determine its characteristics. A group of medium-sized cities in Russia (from 50 to 100 thousand people) homogeneous in number of inhabitants was chosen as an object, which made it possible to minimize the distortion of the results due to the influence of factors determined by the size of the settlement on the studied indicators. Data for calculation behavior were taken from the Rosstat municipal statistics database. Localization coefficients were calculated for 18 types of economic activity in cities, based on these calculations, the sample cities were divided into specialization groups, and for each group, the influence of the degree of specialization on individual socio-demographic indicators of these cities was determined using econometric methods. The result of the study was the conclusion that certain groups of cities are characterized by statistical dependencies between the degree of specialization of their economies and other development parameters.
Full Text
Введение
Неравномерность развития территорий России обусловлена многими факторами: большим количеством регионов, мультикультурностью, различиями в природных и климатических условиях, историческим развитием, экономическими и социальными аспектами. С точки зрения социального государства (см. статью 7 Конституции РФ), неравенство социально-бытовых условий проживания в различных населенных пунктах является проблемой, требующей проведения активной государственной политики. Не только конституционные социальные обязательства, но и необходимость достижения политического единства на большой территории [29] является важной причиной стремления к выравниваю социальных условий.
Хотя полностью ликвидировать неравенство невозможно, выявление причин, обуславливающих эту проблему, полезно для формирования концепций и инструментария проведения соответствующей государственной политики.
Важность исследования проблемы неравномерности социально-экономического развития территории России признается как учеными, так и органами власти. В монографии ИЭОПП СО РАН [15] утверждается, что эта тема начала разрабатываться в СССР еще в 1964 году географами, однако широкого распространения тогда не получила. Анализ существующих исследований в области неравномерности территориального развития России позволяет выявить несколько ключевых направлений, которые уже были рассмотрены отечественными исследователями. Работы по этому вопросу можно условно разделить на несколько групп: исследования, посвященные этническому и культурному разнообразию [5, 18, 20, 21], а также демографическим [3, 16, 19] аспектам.
Также важной темой является исследование пространственного развития России в целом как государства, расположенного на огромной территории с существенными географическими различиями [8, 24, 25, 30]. Это развитие было неоднородным на протяжении всей истории нашей страны [1, 23], и актуальность темы сохранилась и по сей день и рассматривается органами государственной власти при реализации стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года1. Исследователями подчеркивается также важность нахождения оптимального баланса между разнообразием и стремлением к созданию равных условий для развития разных территорий.
В современных научных работах исследуется зависимость различных аспектов жизнедеятельности населения — включая экономические факторы [19], эффективность системы здравоохранения [39], уровень бедности [11], потенциал модернизации экономики и социально-экономическое развитие [34] — от территории расположения и специфики ее экономической структуры.
Подобные исследования актуальны не только для России, и важно сравнивать ее с другими странами, имеющими разнообразие в территориальном и социальном развитии. Например, исследования этнического неравенства [32] и культурного многообразия в Европе [38] предоставляют ценные данные для понимания того, как культурные и социальные различия могут быть учтены в политике стран с мультинациональным населением. Также исследуется влияние многообразия рынка труда на социальное развитие [37]. Отдельно рассматриваются проблемы пространственного развития стран бывшего СССР [10]. В ряде работ освещаются и теоретические вопросы неравенства [35].
Для развития экономики страны ей следует способствовать концентрации хозяйственной активности в городах, поскольку, по общепринятому мнению, они являются благоприятной средой для развития экономики. Само деление поселений на городские и сельские уже обуславливает неравенство, но этот процесс неизбежен, так как значительное число людей самостоятельно выбирает это разделение, стремясь к наилучшим условиям и возможностям жизни, которые может предоставить городская агломерация [2].
В современных исследованиях анализируется важность промышленных поселений как центров экономической активности [6, 7], особенности формирования системы российских городов [5], их роль в пространственном развитии страны [17]. Сами по себе города отличаются от сельских поселений, но в то же время имеют и отличия внутри своей группы и даже подгрупп, выделенных по размеру городов [36].
На основании изучения описанной литературы мы пришли к выводу о важности исследования и неполной изученности проблемы разнообразия городов. При этом мы считаем, что города необходимо рассматривать отдельно от других муниципальных образований, т.к. это позволит минимизировать различия, которые между этими образованиями есть, а также учитывать неоднородность городов по их размеру.
В частности, недостаточно освещена в отечественной литературе тема различий социально-демографического развития городов на основании различий в их специализации. Само по себе различие в специализации муниципальных образований рассматривается исследователями (см., например, [26]), однако без привязки с социально-демографическими факторам.
Поэтому было решено провести исследование связи специализации городов России с их социально-экономическим развитием по данным средних городов России (с численностью населения от 50 до 100 тыс. человек). Выбор этой группы из всей совокупности городов России был сделан по нескольким причинам.
Во-первых, выборка должна быть достаточно однородной по численности населения, потому что города меньшего размера в среднем могут быть уже специализированы, чем более крупные. Чем крупнее город, тем более он склонен к диверсификации экономики вследствие того, что для каждого вида экономической деятельности существуют оптимальные масштабы производства, превышать которые экономически не целесообразно. Поэтому с ростом численности населения города в нем происходит создание предприятий в новых для данного поселения сферах деятельности. Соответственно, для сравнения необходимо отбирать схожие по размеру города.
Во-вторых, выбранная группа городов достаточно большая (150 городов) по сравнению с большими, крупными и крупнейшими городами. Численность малых городов выше, однако сбор информации о них сильно затруднен вследствие несовершенств использовавшейся базы данных муниципальных образований Росстата (см. далее). Это преимущество ослабляет то, что не по всем 150 городам имеются нужные данные (см. раздел “Методика и данные”). Однако все равно группа, для которой проведение оценки возможно, составляет 98 городов, что достаточно много, поэтому было решено выбрать для исследования группу средних городов, а в дальнейшем расширить применение данного подхода на другие города России.
Методика и данные
Специализация городов определялась на основании значений коэффициента локализации, рассчитанного по данным за период с 2017 по 2021 гг. Доля отрасли определялась по показателю среднесписочной численности работников организаций по 18 разделам классификатора ОКВЭД, по которым имеются данные в Росстате.
Коэффициенты локализации (1) были посчитаны отдельно по каждому году, потом из полученных значений высчитывалось среднее арифметическое за все пять лет. Пятилетний период времени был взят для того, чтобы избежать погрешностей вследствие случайных изменений численности занятых, например, вызванных сдвигом административных границ города. В рассматриваемый период времени два года приходятся на пандемию, однако анализ значений коэффициентов за отдельные годы не выявил массовых изменений структуры распределения занятых по видам экономической деятельности, которые можно было бы объяснить влиянием пандемии.
, (1)
где LQir — коэффициент локализации i-ой отрасли, zi — количество сотрудников i-ой отрасли в городе, z — общее количество сотрудников в городе, Zi – количество сотрудников i-ой отрасли в регионе/стране, Z — общее количество сотрудников в регионе/стране.
В качестве знаменателя коэффициента локализации использовались два варианта: данные по РФ в целом и данные по региону расположения рассматриваемого города. Выводы о специализации города делались на основании сравнения с РФ, коэффициент локализации по региону использовался для дополнительных выводов. Сравнение с РФ позволяет точнее определить уникальную для страны специализацию города, что особенно важно в случае исследования городов по всей России, а не по отдельным регионам.
Всего на начало 2021 г. в России было 150 средних городов, располагающихся в 54 регионах России. Источником информации для расчетов и анализа стала база данных Росстата “Показатели муниципальных образований”2. Полноценных альтернатив этому ресурсу найти не удалось. Сборник Росстата о городах России содержит данные только о городах с численностью жителей свыше 100 тыс. человек и по ограниченному перечню показателей.
Часть рассматриваемых городов имеет форму муниципального образования “городской округ”, и по ним есть данные о среднесписочной занятости по видам экономической деятельности. Исключение составляют города, имеющие статус закрытого административно-территориального образования (Железногорск и Зеленогорск в Красноярском крае, Саров в Нижегородской области, Новоуральский в Свердловской области и Озёрск со Снежинском в Челябинской области). По ним данные в базе не представлены.
Подробные результаты расчетов по каждому городу были опубликованы в нашей монографии [28]. В рамках данной статьи мы используем полученные ранее результаты для сопоставления их с показателями социально-экономического развития городов. По городам, имеющим статус городского поселения, среднесписочная численность занятых дана только в агрегированном по всему муниципальному району виде. Наибольшая концентрация таких городов имеется в южной части России (Южном и Северо-Кавказском федеральных округах). Рассматривать муниципальные районы вместе с городскими округами не кажется целесообразным для нашего исследования. Во-первых, муниципальные районы, в которые входят разные городские поселения и другие населенные пункты, не всегда соответствуют выбранному диапазону численности жителей. Во-вторых, социальная инфраструктура в них разнородная вследствие отличий в структуре поселений, поэтому вычленить отличия, обусловленные специализацией, будет сложнее.
Пространственное размещение средних городов России логичным образом отражает распространение экономической активности по территории страны, значительная часть которой малонаселена. Только четыре северных города страны относятся к исследуемой категории: Североморск, Апатиты, Воркута, Салехард. В северной части России есть более крупные города, являющиеся районными центрами, и более мелкие.
Пространственное распределение изучаемых городов выглядит достаточно равномерным: везде присутствуют города различных специализаций, ни одна территория не выглядит как скопление однотипно специализированных городов (см. рис. 1). Это соответствует общей логике пространственного распределения экономической активности.
Рис. 1. Карта расположения средних городов России с указанием их специализации.
Fig. 1. Map of the location of medium-sized cities in Russia indicating their specialization.
Анализ полученных результатов расчетов показал, что в выборке отсутствуют города, у которых нет ни одного вида экономической деятельности со значением коэффициента локализации по РФ не ниже двух, что означает, что каждый из рассматриваемых городов специализируется хотя бы в одном виде экономической деятельности. У многих городов имеется специализация по двум (56 городов) и даже по трем (70 городов) видам деятельности. Это объясняется тем, о чем уже было сказано выше: чем меньше населенный пункт, тем более узкую специализацию он должен иметь, при прочих равных условиях. Есть города, у которых больше четверти экономической активности относится к одному виду деятельности.
Больше всего (а именно 58) городов рассмотренной группы специализируются в промышленности (разделы B, C, D, E), при этом самые высокие значения показателей — в добывающей отрасли (см. рис. 1). Абсолютным лидером по значению LQРФ (коэффициента локализации на основании сравнения с РФ) среди добывающих городов является г. Губкин с показателем 26.4, расположенный в месте Курской магнитной аномалии и специализирующийся в добыче железорудного сырья.
Вместе с тем по семи городам выборки происходили изменения специализации (см. табл. 1), которые требуют комментариев. Для выяснения причин изменений для этих городов был проведен анализ структурных сдвигов [27]. Результаты анализа показали, что в Ступино, Новокуйбышевске и Тобольске “выбросы” связаны с региональными факторами: в первом случае — с изменением границ округа, во втором — с началом масштабных строек, а в третьем — с их окончанием. В Шадринске помимо региональных факторов значим отраслевой сдвиг в электроэнергетике. В Прохладном, Бору и Нягани выявленные изменения произошли из-за закрытия или реструктуризации отдельных предприятий.
Таблица 1. Данные о городах выборки, по которым менялось значение специализации в отдельные годы рассматриваемого периода (с 2017 по 2021 гг.). Рассчитано по данным Росстата
Table 1. Data on sample cities for which the value of specialization changed in individual years of the period under review (from 2017 to 2021). Calculated according to Rosstat data
Название города | Название вида экономической деятельности (LQРФ3), на котором город специализируется | |
В среднем за 2017–2021 гг. | “Выброс” за определенный год | |
Ступино (Московская обл.) | Обраб. пр-ва (2.35) | Деятельность админ. и сопутствующие доп. услуги (до 3.3) в 2020–2021 гг. |
Прохладный (Кабардино-Балкарская респ.) | Деят-ть в обл. здравоохр. и соц. услуг (1.97) | Обраб. пр-ва (1.98) в 2017 г. и Водоснабжение; … (2.02) в 2018 г. |
Бор (Нижегородская обл.) | Обраб. пр-ва (2.11) | Сельское, лесное хозяйство, … (2.42) в 2017 г. и Водоснабжение; … (2.45) в 2018 г. |
Новокуйбышевск (Самарская обл.) | Обраб. пр-ва (2.15) | Строительство (до 2.49) в 2020–2021 гг., Деятельность админ. и сопутствующие доп. услуги (до 2.99) в 2018–2019 гг. |
Шадринск (Курганская обл.) | Деят-ть в обл. здравоохр. и соц. услуг (1.75) | Обраб. пр-ва (1.87) в 2021 г. Обеспечение эл. эн., … (1.82) в 2020 г. |
Тобольск (Тюменская обл.) | Строительство (3.45) | Транспортировка и хранение (до 2.24) в 2020–2021 гг. |
Нягань (Ханты-Мансийский АО) | Доб. пол. иск. (6.58) | Обеспечение эл. эн., … (3.44) |
Таким образом, можно заключить, что все выявленные “выбросы” носят случайный характер, т.е. в каждом конкретном случае есть своя внутренняя причина. Поэтому всех их нельзя обобщить и выявить определенную закономерность, и можно сказать, что средним городам в целом за рассмотренный период времени была присуща стабильность в специализации.
Данные для оценки социально-экономического развития городов были взяты из той же базы Росстата “Показатели муниципальных образований”. Среди имеющихся там показателей к интересующим нас характеристиками можно отнести: оценку численности населения на 1 января текущего года; естественный прирост (убыль), чел.; миграционный прирост, чел.; общую площадь жилых помещений, тыс. кв. м.; число мест в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми (далее — число мест в образовательных организациях); число лечебно-профилактических организаций (ЛПО).
Как и для расчета специализаций, данные о социальном развитии были собраны за 2017–2021 гг, и посчитаны усредненные значения за этот период. По отдельным городам данные имелись не за весь рассматриваемый период. В этих случаях среднее значение рассчитано по имеющимся данным. По Сосновому Бору и Михайловке данные отсутствуют по образовательной деятельности, а по Когалыму нет данных по числу ЛПО.
Рассчитанные коэффициенты локализации сопоставлялись с собранными социально-демографическими показателями (оценкой численности населения на 1 января текущего года; естественным приростом (убылью); миграционным приростом (убылью); общей площадью жилых помещений на 1 жителя; числом мест в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми; числом лечебно-профилактических организаций). Поскольку выборка городов закономерно небольшая, опираться исключительно на эконометрические методы неправильно. Полученные с помощью регрессионного и корреляционного анализа результаты не могут признаваться статистической закономерностью.
Вместе с тем один лишь визуальный анализ полученных соотношений не позволяет разглядеть те закономерности, которые есть, т.к. данных достаточно много. Поэтому для выводов были использованы различные подходы взаимного анализа данных: были построены графики, наглядно иллюстрирующие зависимость между отдельными социально-демографическими показателями и коэффициентами локализации, и рассчитаны коэффициенты парной регрессии и корреляции.
Как было сказано выше, некоторые города имеют высокие значения коэффициентов локализации не по одному виду экономической деятельности, поэтому каждый из таких городов был добавлен в группы 2–3 специализаций.
Результаты и обсуждение
Абсолютное значение LQРФ по всем городам слабо коррелирует с показателями социально-экономического развития (см. табл. 2). В целом положительная статистическая связь есть только у общей площади жилых помещений с миграционным приростом и числом мест в образовательных организациях, что не относится к исследуемой нами проблематике.
Таблица 2. Парная корреляция между показателями LQРФ и социально-экономического развития
Table 2. Paired correlation between indicators of localization coefficient and socio-economic development
Показатели | LQРФ | Естеств. прирост (убыль) | Миграц. прирост (убыль) | Общ. площ. жил. помещ. | Число мест в образоват. организ. |
Естеств. прирост (убыль) | −0.1 | − | − | − | − |
Миграц. прирост (убыль) | −0.1 | 0.3 | − | − | − |
Общ. площ. жил. помещ. | 0.0 | 0.1 | 0.5 | − | − |
Число мест в образоват. организ. | −0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | − |
Число ЛПО | 0.2 | −0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
Для оценки взаимосвязи показателей с учетом не только абсолютного максимального значения коэффициента локализации, но и того, по какому виду деятельности получаются такие значения, были построены графики по каждому показателю.
На рис. 2–6 на левом графике отображены все рассматриваемые отрасли, справа — без добывающей промышленности, строительства, торговли, деятельности гостиниц и предприятий общественного питания, деятельности профессиональной, научной и технической, деятельности административной и сопутствующих дополнительных услуг.
Рис. 2. Соотношение значений показателей LQРФ по отрасли специализации и естественного прироста (убыли) населения.
Fig. 2. Correlation between the values of the localization coefficient indicators for the industry of specialization and the natural increase (decrease) of the population.
Рис. 3. Соотношение значений показателей LQРФ по отрасли специализации и миграционного прироста (убыли) населения.
Fig. 3. Correlation between the values of the localization coefficient indicators for the industry of specialization and the migration increase (decrease) of the population.
Рис. 4. Соотношение значений показателей LQРФ по отрасли специализации и общей площади жилых помещений.
Fig. 4. The ratio of the values of the localization coefficient indicators for the industry of specialization and the total area of residential premises.
Рис. 5. Соотношение значений показателей LQРФ по отрасли специализации и числа мест в образовательных организациях.
Fig. 5. Correlation between the localization coefficient indicators by industry of specialization and the number of places in educational organizations.
Рис. 6. Соотношение значений показателей LQРФ по отрасли специализации и числа ЛПО.
Fig. 6. Correlation between the values of localization coefficient indicators by industry of specialization and the number of medical and preventive organizations.
По добывающей промышленности очень большие значения коэффициентов (до 18, см. рис. 2, слева) локализации, из-за чего на диаграмме плохо видны остальные виды деятельности. По другим пяти отраслям имеется, соответственно, меньше семи городов, в них специализирующихся, поэтому эконометрические расчеты по ним бессмысленны и не проводились.
Для пяти видов деятельности из семи рассматриваемых вектор значений естественного прироста населения однонаправлен с вектором значений коэффициента локализации (см. рис. 2), однако сила связи является небольшой, кроме городов, специализирующихся на образовании. Эту тенденцию подтверждает также регрессионный анализ (см. табл. 3). Учитывая, что 4 из 7 городов этой группы имеют естественную убыль, можно сказать, что бóльшая специализированность в образовании для города соседствует с меньшей убылью населения по естественным причинам. Такая тенденция кажется закономерной и скорее всего свидетельствует об обратной зависимости — в городах с высокой рождаемостью больше образовательных учреждений. Учитывая, что города с положительным приростом Сунжа (Республика Ингушетия), Буйнакск и Избербаш (Республика Дагестан) находятся в регионах с традиционно высокой рождаемостью населения, естественный прирост численности населения обеспечивает именно она.
Таблица 3. Зависимость значений коэффициентов парной регрессии различных социальных показателей от значения LQРФ
Table 3. Correlation between the values of paired regression coefficients of various social indicators and the value of the localization coefficient
Показ./Отрасль (раздел ОКВЭД) | Естеств. прирост (убыль) | Миграц. прирост (убыль) | Лог.4 от общ. пл. жил. помещ., кв. м на 1 жителя | Лог.5 от ч. мест в организ., дошк. образ. | Лог. от ч. лечебно-проф. организ. |
Раздел В: добыча полезных ископаемых | −14 (9) | 40 (24) | 0 (0) | −0.01** (0.00) | 0.06 ** (0.02) |
Раздел С: обрабатывающие производства | 183* (96) | −219 (137) | −1.7 (1.8) | 0 (1.3) | −1.3 (5.2) |
Раздел D: обеспечение электрической энергии | 33 (28) | 39 (37) | −0.8** (0.3) | −5.2* (2.8) | −0.1 (0.1) |
Раздел Е: водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отхода, деятельность по ликвидации загрязнений | 14 (60) | −222* (110) | −0.09 (0.04)** | −0.08** (0.04) | −0.2*** (0.1) |
Раздел Н: транспортировка и хранение | 3 (22) | 164** (57) | 0.02 (0.01)* | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) |
Раздел O: государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 367** (121) | −101 (338) | −0.1 (0.1) | 0.2** (0.1) | −0.6 (0.9) |
Раздел P: образование | 682** (196) | 376*** (90) | −0.2 (0.2) | −0.3 (0.1) | −1.5** (0.4) |
Раздел Q: деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 436*** (126) | 378 (425) | 11* (6) | −0.02 (0.2) | 0.5 (0.6) |
Примечание. * — коэффициент значим на 10%-ном уровне; ** — коэффициент значим на 5%-ном уровне; *** — коэффициент значим на 1%-ном уровне.
Самая высокая значимость у коэффициента парной регрессии при показателе естественного прироста — у группы городов, специализирующихся на здравоохранении, и само значение этого коэффициента достаточно велико (см. табл. 3). Тенденция кажется логичной: чем большая доля людей занята в здравоохранении, тем выше показатели естественного прироста, т.к. большее число врачей косвенным образом свидетельствует о большем объеме финансирования этой отрасли в данном городе в сравнении с другими рассматриваемыми городами. Представляется закономерным, что лучшие условия в здравоохранении должны способствовать снижению смертности. Однако среди городов этой группы большинство имеют естественную убыль, поэтому можно говорить о тенденциях только внутри данной группы, но не о закономерности для показателя доли занятых в сфере здравоохранения. Кроме того, есть взаимосвязь этих двух групп (специализирующихся в образовании и здравоохранении), т.к. некоторые города имеют высокие значения LQРФ по обоим видам деятельности: Буйнакск, Избербаш, Горно-Алтайск и Минусинск. Поскольку таких пересечений всего четыре, то только этим нельзя объяснить схожесть статистических результатов.
Для добывающих городов тенденция, судя по графику, отрицательная: чем более специализирован город, тем сильнее он склонен к естественной убыли населения, но масштабы этой убыли сопоставимы с городами других групп и, согласно данным парной регрессии, эта зависимость не значима статистически. Среди добывающих есть города как с высоким приростом, так и с высокой убылью населения.
Большинство рассматриваемых средних городов в целом имеет естественную убыль, и среди немногих прирастающих городов есть представители шести специализаций. Самыми растущими являются Наро-Фоминск (+702 человека), Сунжа (593 человек), Избербаш (+563 человек). Самыми убывающими по естественным причинам являются Бор (−962) и Клин (−879).
Тренды миграционного прироста населения по большей части похожи на предыдущий показатель (см. рис. 3), но принципиально отличается добывающая промышленность: с ростом специализированности отток населения сокращается. Однако и в этом случае коэффициент при регрессоре по данной отрасли незначим статистически (см. табл. 3). Значимыми и довольно большими положительными являются коэффициенты при регрессоре по отраслям образования и транспорта, но у большинства городов, специализирующихся в этих отраслях, миграционная убыль, а не прирост. Поэтому можно предположить, что наибольшее концентрирование экономики города на этих видах деятельности способствует сокращению оттока населения.
Самыми убывающими миграционным путем являются города Республики Коми: Воркута (−1669 человек) и Ухта (−1334 человека), что в значительной степени связано с их географическим положением (города Крайнего Севера), что подтверждается в исследовании [31]. Оба города специализируются на добыче, и то, что промышленность в них все еще работает, скорее удерживает часть тех, кто хотел бы уехать от суровых условий проживания. Если бы специализация городов была бы в отрасли, которую можно переместить, миграционный отток из этих мест был бы больше.
При этом в трех сырьевых городах Ханты-Мансийского автономного округа есть миграционный приток населения: в Когалыме (+565 человек), Нягани (+297 человек) и Мегионе (+170). Этот регион обладает крупнейшей, не считая Москвы, экономикой РФ, климатические условия там более комфортные, чем в северных районах, поэтому он является притягательным для специалистов добывающей промышленности, переезжающих из сурового севера.
Городами, больше всего притягивающими людей, в нашей выборке являются южная, курортная Анапа (+5674 человека) и город Московской области Наро-Фоминск (+4342 человек). Очевидно, что здесь тоже прослеживается больше географическая зависимость, чем специализированность населенного пункта.
По показателю общей площади жилых помещений на человека положительная связь со специализацией более очевидна для городов из группы “деятельность в области здравоохранения и социальных услуг” (см. рис. 4 и табл. 3). Два из них имеют значения, значительно превышающие средние: Анапа (89) и Геленджик (62), для жителей которых жилые площади скорее являются средством заработка, т.к. в них расположены популярные отечественные курорты. К тому же значительная часть жилья может принадлежать приезжим, а не жителям этих городов.
Четыре города выборки имеют аномальные значения показателя обеспеченности жилыми помещениями. Это Ачинск (189.7 м2), Кизляр (394.2 м2), Мегион (351.7 м2), Новокуйбышевск (350.9 м2) (см. табл. 4), поэтому они были исключены из представления на графике.
Также статистически значимыми являются коэффициенты при регрессорах отраслей, специализирующихся на коммунальных отраслях промышленности. При этом оба они отрицательные, но размер их несопоставимо мал в сравнении с предыдущей рассмотренной группой городов. Можно говорить, что чем более специализирован город в этих отраслях, тем плотнее живут люди, не стремясь расширять свои жилища.
Число мест в образовательных организациях значимо отрицательно связано с населенными пунктами, специализирующимися во всех отраслях промышленности, кроме обрабатывающей, и положительно с городами с высокими значениями LQРФ в сфере государственного управления (см. табл. 3). При этом одни из самых высоких значений этого показателя в выборке имеются у городов с коммунальной промышленностью: Чайковский (96 мест) и Берёзовский (103 места), наименее специализированных в этой сфере.
Для городов, специализирующихся на добывающей промышленности этот показатель достаточно стабилен и ближе к среднему значению по всем отраслям (см. рис. 5). В городах же с относительно высокой долей задействованных в государственных услугах жизнь более комфортна, поэтому детей там больше и выше потребность в детских учреждениях.
По количеству ЛПО лидирует со значительным отрывом Магадан (88 организаций) (см. рис. 6), специализирующийся как в обеспечении электрической энергией, так и в госуправлении. Этот город является областным центром и именно это, а не специализация, в первую очередь объясняет полученные результаты, т.к. в нем сосредоточены типичные для города такого статуса медицинские учреждения, а численность его жителей небольшая (95.1 тыс. человек на 2023 г.). Значимо-отрицательные результаты парной регрессии, которые получились для двух промышленно-специализирующихся групп городов (см. табл. 3), можно объяснить так же, как и для предыдущего показателя.
Необходимо учитывать ограничения, связанные с интерпретацией последнего показателя, т.к. ЛПО могут быть разного размера и поэтому их сложно соотнести с другими характеристиками города.
Заключение
Проведенное исследование позволило выявить, что наименьшая зависимость условий жизни от степени специализированности выявлена у городов с обрабатывающими производствами. Поэтому нельзя сказать, что повышение концентрированности производства в одном городе будет способствовать улучшению социальных показателей в нем.
Из рассмотренных в работе показателей наиболее зависимыми от степени отраслевой специализированности экономики города являются естественный прирост населения и число мест в организациях дошкольного образования. Наибольшие из значимых линейных коэффициентов при регрессоре естественного прироста были получены для городов, специализирующихся в образовании и здравоохранении. Узкая специализированность в образовании также положительно влияет на миграционный приток населения в город и отрицательно — на количество ЛПО в нем.
Отсюда можно предположить, что в условиях низкой безработицы и нехватки рабочих рук, характерных сегодня для России вследствие демографических циклов и политических процессов, для привлечения трудовых мигрантов стоит обратить внимание на обеспеченность образовательными учреждениями, которая недостаточная сегодня во многих регионах, в том числе и за счет другого демографического процесса (всплеска рождаемости в десятых годах нынешнего столетия, вызванного мерами по ее стимулированию).
Значимость полученного нами вывода подкрепляется тем, что для развития городов России процесс иммиграции всегда важен, т.к. плотность населения в стране довольно низкая, что является тормозом для экономического развития [28]. Выявление факторов, притягивающих мигрантов в города, позволяет дать властям инструментарий для обоснования демографической политики. Процессы миграции, в частности, сильно отличаются для городов разного размера [22].
Сделанное нами предположение нуждается в дополнительных подтверждениях социологическими методами. Эта гипотеза может быть интересна для проверки специалистами, изучающими поведенческие причины миграции людей в Россию. Однако необходимо подчеркнуть, что такие меры не могут стать основными для стимулирования миграционного прироста населения.
На число мест в организациях дошкольного образования значимо положительно влияет высокая степень специализации в государственном управлении и значимо отрицательно — в добывающей промышленности, водоснабжении и обеспечении электроэнергией.
В результате проведенного исследования мы пришли к выводу о действенности представленного в данной статье метода анализа социального неравенства городов. Имеет смысл его опробовать на выборке малых городов, хотя здесь возникнут сложности с большей вариабельностью значений в малых городах и еще меньшим количеством доступных статистических данных, поэтому это надо будет учитывать при разработке алгоритма анализа. Нехватка данных статистики может быть восполнена полевым сбором информации, однако такая трудоемкая работа может выполняться только большим коллективом исследователей.
Благодарности
Публикация подготовлена в ходе проведения исследования (проект № 23-00-017 “Сравнительный анализ сетевого взаимодействия промышленных предприятий в моногородах среднего размера (от 50 до 100 тыс. жителей)”) в рамках Программы “Научный фонд Национального исследовательского университета “Высшая школа экономики” (НИУ ВШЭ)”.
Приложение. Таблица 1. Данные о специализации и показателях социально-экономического развития средних городов России за 2017–2021 гг.
Table 1. Data on specialization and indicators of socio-economic development of medium-sized Russian cities in 2017–2021
Название города | LQРФ | LQРег | Специализация | Оценка численности населения на 1 января текущего года, человек | Естественный прирост (убыль), человек | Миграционный прирост (убыль), человек | Общая площадь жилых помещений, кв. м на 1 жителя | Число мест в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, шт. | Число лечебно-профилактических организаций, шт. |
Берёзовский | 3.5 | 3.8 | Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 58222 | 85 | 452 | 40 | 102 | 23 |
Бор | 2.8 | 2.5 | 77694 | −828 | −300 | 48 | 83 | 35 | |
Гуково | 7 | 4.7 | 64531 | −622 | −295 | 23 | 38 | 2 | |
Дубна | 3.5 | 3.3 | 75037 | −86 | −44 | 24 | 56 | 5 | |
Клин | 3.2 | 2.2 | 93350 | −827 | 929 | 46 | 72 | 57 | |
Наро-Фоминск | 2.9 | 2.7 | 133906 | 672 | 4105 | 46 | 69 | 30 | |
Павловский Посад | 3.2 | 3.1 | 68911 | −539 | −388 | 34 | 61 | 23 | |
Феодосия | 3.6 | 3.3 | 100521 | −754 | 765 | 27 | 41 | 40 | |
Анапа | 5.7 | 4.8 | Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 80392 | 49 | 6652 | 89 | 97 | 40 |
Буйнакск | 6.8 | 6.7 | 65427 | 714 | −157 | 18 | 43 | 6 | |
Геленджик | 5.1 | 4.3 | 76428 | −65 | −34 | 61 | 70 | 25 | |
Горно-Алтайск | 3.1 | 2.2 | 63705 | 256 | 47 | 24 | 65 | 45 | |
Егорьевск | 2.6 | 2.9 | 74101 | −673 | 987 | 27 | 80 | 3 | |
Канск | 3.4 | 2.9 | 89442 | −428 | −40 | 23 | 54 | 7 | |
Кинешма | 2.8 | 2.3 | Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 82451 | −682 | −301 | 25 | 58 | 5 |
Клинцы | 3.1 | 2.9 | 62953 | −456 | 291 | 27 | 47 | 1 | |
Магадан | 2.5 | 1.9 | 99223 | −19 | −209 | 25 | 59 | 86 | |
Минусинск | 4.2 | 3.5 | 70992 | −382 | 72 | 30 | 56 | 42 | |
Прохладный | 2.9 | 2.8 | 57961 | −180 | 398 | 67 | 113 | 8 | |
Черемхово | 3.8 | 3.3 | 50697 | −178 | −147 | 29 | 64 | 15 | |
Чехов | 3.1 | 3.4 | 76879 | −241 | 977 | 58 | 83 | 46 | |
Шадринск | 2.7 | 2 | 75138 | −445 | 141 | 23 | 56 | 45 | |
Шуя | 3.7 | 3 | 57861 | −493 | −176 | 19 | 60 | 44 | |
Ялта | 5 | 3.7 | 139073 | −723 | 822 | 19 | 34 | 62 | |
Салехард | 4.1 | 4.9 | Деятельность в области информации и связи | 49690 | 423 | 249 | 25 | 76 | 13 |
Белово | 13.6 | 2.2 | Добыча полезных ископаемых | 125181 | −727 | −34 | 25 | 56 | 20 |
Воркута | 15.2 | 3.6 | 75861 | −26 | −1882 | 33 | 73 | 24 | |
Губкин | 26.4 | 11.8 | 86608 | −685 | 14 | 36 | 67 | 62 | |
Киселёвск | 18.8 | 3.1 | Добыча полезных ископаемых | 88903 | −656 | −769 | 28 | 51 | 56 |
Когалым | 17.2 | 1.3 | 66346 | 565 | 435 | 16 | 65 | − | |
Краснотурьинск | 8.5 | 10.1 | 56849 | −351 | −128 | 26 | 68 | 21 | |
Междуреченск | 22 | 3.6 | 96853 | −428 | −39 | 24 | 59 | 25 | |
Нягань | 8.8 | 0.7 | 58217 | 297 | −54 | 23 | 70 | 24 | |
Сибай | 8 | 5.7 | 61111 | −90 | −167 | 23 | 59 | 9 | |
Ухта | 4.8 | 1.2 | 114101 | −219 | −1455 | 24 | 76 | 33 | |
Анжеро-Судженск | 3.6 | 2.3 | Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 73547 | −632 | −666 | 26 | 51 | 4 |
Апатиты | 4.4 | 2 | 55484 | −347 | −277 | 27 | 80 | 11 | |
Асбест | 2.2 | 2 | 63748 | −474 | −144 | 27 | 68 | 13 | |
Биробиджан | 3.2 | 1.9 | 73173 | −768 | −768 | 23 | 67 | 46 | |
Дзержинский | 4.1 | 4.5 | 55773 | −383 | −292 | 22 | 40 | 3 | |
Дмитров | 2.6 | 2.8 | 105131 | −887 | −485 | 45 | 86 | 27 | |
Донской | 4.5 | 4 | 63277 | −497 | −94 | 23 | 45 | 1 | |
Жигулёвск | 6.1 | 5.5 | 52962 | −500 | −495 | 32 | 46 | 1 | |
Каменск-Шахтинский | 4.1 | 4.7 | Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 88683 | −607 | −25 | 23 | 48 | 18 |
Кузнецк | 4.1 | 5.4 | 81800 | −465 | −434 | 28 | 57 | 16 | |
Кумертау | 5 | 5 | 60053 | −284 | −186 | 28 | 70 | 21 | |
Кунгур | 2.8 | 2.6 | 65507 | −258 | −216 | 19 | 54 | 10 | |
Ленинск-Кузнецкий | 2.6 | 1.6 | 95684 | −613 | −298 | 26 | 52 | 14 | |
Лесосибирск | 3.7 | 2.5 | 64177 | −170 | −54 | 24 | 61 | 12 | |
Сосновый бор | 11.1 | 8.5 | 68031 | −168 | −75 | 22 | − | 11 | |
Троицк | 7.3 | 8.5 | 73929 | −363 | −261 | 21 | 50 | 38 | |
Усолье-Сибирское | 3.6 | 2.8 | 77072 | −330 | −401 | 23 | 62 | 9 | |
Усть-Илимск | 3.5 | 2.8 | 81483 | −299 | −378 | 24 | 73 | 7 | |
Чайковский | 3.1 | 2.9 | 82519 | −423 | −161 | 32 | 96 | 40 | |
Чапаевск | 4.1 | 3.7 | 72417 | −539 | 38 | 22 | 50 | 16 | |
Азов | 4 | 4.5 | 80693 | −330 | −31 | 25 | 55 | 67 | |
Арсеньев | 3.7 | 4.6 | Обрабатывающие производства | 52416 | −303 | 43 | 24 | 69 | 12 |
Великие Луки | 3.3 | 2.8 | 91416 | −724 | 158 | 26 | 63 | 27 | |
Верхняя Пышма | 3.4 | 2.4 | 70802 | 93 | 1195 | 28 | 90 | 34 | |
Волжск | 3.3 | 2.3 | 53873 | −132 | −234 | 29 | 72 | 11 | |
Воткинск | 3.5 | 2.4 | 97551 | −293 | −8 | 22 | 56 | 6 | |
Выкса | 3.8 | 2.7 | 69073 | −379 | 119 | 32 | 79 | 32 | |
Глазов | 2.3 | 1.6 | 92850 | −515 | 90 | 23 | 62 | 24 | |
Гусь-Хрустальный | 2.7 | 2.7 | 56787 | −483 | −418 | 27 | 75 | 20 | |
Краснокамск | 2.7 | 1.9 | 63647 | −208 | −300 | 27 | 72 | 31 | |
Лыткарино | 2.9 | 2.4 | 58317 | −260 | 853 | 22 | 50 | 7 | |
Новоалтайск | 2.2 | 2.4 | 73869 | −298 | 518 | 23 | 43 | 8 | |
Полевской | 3.3 | 2.3 | 61606 | −242 | −448 | 32 | 81 | 20 | |
Ревда | 3 | 2.1 | 62295 | −286 | −200 | 22 | 60 | 19 | |
Ржев | 2 | 1.9 | 58834 | −568 | −283 | 25 | 52 | 25 | |
Сарапул | 3.3 | 2.3 | 96733 | −425 | −414 | 21 | 55 | 6 | |
Соликамск | 3.6 | 2.6 | 93554 | −302 | −421 | 25 | 80 | 26 | |
Ступино | 2.5 | 2.1 | 83412 | −677 | 70 | 44 | 75 | 9 | |
Фрязино | 4.1 | 3.4 | 60092 | −246 | −121 | 24 | 42 | 28 | |
Борисоглебск | 3.1 | 3.3 | Образование | 72551 | −547 | −597 | 27 | 47 | 31 |
Ивантеевка | 2.1 | 2.5 | 77927 | 14 | 2057 | 25 | 49 | 1 | |
Избербаш | 5.2 | 3.9 | 59546 | 588 | 200 | 20 | 37 | 3 | |
Михайловка | 7.1 | 7.4 | 62903 | −484 | −245 | 38 | − | 52 | |
Серов | 10.1 | 9.3 | 96901 | −415 | −384 | 23 | 64 | 41 | |
Черногорск | 2.6 | 2 | 77425 | −138 | 282 | 23 | 67 | 5 | |
Юрга | 2.4 | 2.1 | 81351 | −422 | 84 | 23 | 62 | 30 | |
Свободный | 4.2 | 2.5 | Строительство | 53814 | −337 | 28 | 26 | 54 | 18 |
Тобольск | 2.7 | 2 | 98918 | 92 | −178 | 32 | 77 | 33 | |
Белогорск | 3.3 | 2.6 | Транспортировка и хранение | 65938 | −228 | −258 | 22 | 49 | 5 |
Ишим | 3 | 2.2 | 64867 | −263 | −49 | 23 | 53 | 1 | |
Котлас | 3.3 | 2.8 | 74430 | −211 | 206 | 26 | 73 | 18 | |
Лобня | 8.8 | 7.6 | 88786 | −269 | 813 | 30 | 53 | 16 | |
Минеральные Воды | 4.6 | 5.2 | 80837 | −274 | −780 | 37 | 78 | 39 | |
Мичуринск | 2.4 | 3.3 | 92341 | −638 | −315 | 24 | 49 | 21 |
1 Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года. Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р.
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/56857.html/ (дата обращения 10.11.2023).
2 URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/ykmb3eKg/munst.htm.
3 LQРФ — доля занятых в отрасли города к соответствующей доле по РФ.
4 Для раздела D используется линейное значение.
5 Для раздела D используется линейное значение.
About the authors
A. I. Gataullina
Higher School of Economics
Email: ekolchinskaya@hse.ru
Russian Federation, Saint Petersburg
E. E. Kolchinskaya
Higher School of Economics; Leontiev Center
Author for correspondence.
Email: ekolchinskaya@hse.ru
Russian Federation, Saint Petersburg; Saint Petersburg
L. E. Limonov
Higher School of Economics; Leontiev Center
Email: ekolchinskaya@hse.ru
Russian Federation, Saint Petersburg; Saint Petersburg
References
- Staroosvoennye rajony v prostranstve Rossii: istorija i sovremennost’ / Sost. A.V. Starikov. M.: Tovarishhestvo nauchnyh izdanij KMK, 2021. 379 s.
- Anokhin A.A., Kuzin V.Yu. Podhody k vydeleniju periferii i periferizacija v prostranstve sovremennoj Rossii // Izvestija Russkogo geograficheskogo obshhestva. 2019. T. 151. № 1. S. 3–16. https://doi.org/10.31857/S0869-607115113-16
- Borodina T.L. Regional’nye osobennosti dinamiki naselenija Rossii v postsovetskij period // Izv. RAN. Ser. geogr. 2017. № 1. S. 47–61.
- Bufetova A.N. Dinamika raspredelenija razmerov nestolichnyh gorodov Rossii v postsovetskij period // Ekonomika regiona. 2020. T. 16. Vyp. 3. S. 948–961.
- Bufetova A.N., Kolomak E.A. Nacional’naja neodnorodnost’ v regionah Rossii: ocenka, izmenenie, vlijanie na ekonomicheskoe razvitie // Voprosy Ekonomiki. 2021. № 1. S. 120–142. https://doi.org/10.32609/0042-8736-2021-1-120-142
- Goryachko M.D. Promyshlennye funkcii gorodskih okrugov Moskovskoj oblasti na sovremennom etape // Geourbanistika i gradostroitel’stvo: teoreticheskie i prikladnye issledovanija / Otv. red. A.G. Makhrova. M.: Izd-vo MGU, 2021. S. 270–292.
- Gunko M.S., Glezer O.B. Malye rajonnye centry i okruzhajushhie territorii v Central’noj Rossii v 1970−2010 gg.: dinamika i raspredelenie naselenija // Izv. RAN. Ser. geogr. 2015. № 1. S. 64–76.
- Degtyarev K.S. Ekonomiko-geograficheskoe rajonirovanie Respubliki Kalmykija // Izvestija Russkogo geograficheskogo obshhestva. 2020. T. 152. № 1. S. 31–46. https://doi.org/10.31857/S0869607120010036
- Zubarevich N.V. Regiony Rossii: Neravenstvo, krizis, modernizacija. M.: Nezavisimyj institut social’noj politiki, 2010. 160 s.
- Zubarevich N.V., Safronov S.G. Territorial’noe neravenstvo dohodov naselenija Rossii i drugih krupnyh postsovetskih stran // Regional’nye issledovanija. 2014. № 4. S. 100–110.
- Zubarevich N.V. Bednost’ v rossijskih regionah v 2000−2017 gg.: faktory i dinamika // Naselenie i ekonomika. 2019. № 3 (1). S. 63–74.
- Kolomak E.A. Razvitie gorodskoj sistemy Rossii: tendencii i faktory // Voprosy Ekonomiki. 2014. № 10. S. 82–90.
- Kolomak E.A. Ocenka prostranstvennoj svjaznosti ekonomicheskoj aktivnosti rossijskih regionov // Region: ekonomika i sociologija. 2019. № 4 (104). S. 55–72. https://doi.org/0.15372/REG20190403/
- Kotlyakov V.M. Vyzovy i politika prostranstvennogo razvitija Rossii v XXI veke / Nauch. red. V.M. Kotlyakov, A.N. Shvetsov, O.B. Glaser. M.: Tovarishhestvo nauchnyh izdanij KMK, 2020. 365 s.
- Geterogennost’ kak faktor social’no-ekonomicheskogo razvitija / N.A. Kravchenko, A.N. Bufetova, A.A. Goryushkin i dr.; pod red. d.e.n. N.A. Kravchenko, A.A. Goryushkina. Novosibirsk: IEOPP SB RAS, 2022. 236 s.
- Krasnov A.I., Bizyukov A.D. Dinamika chislennosti naselenija Pskovskoj oblasti v postsovetskij period v razreze sel’skih naselennyh punktov // Izvestija Russkogo geograficheskogo obshhestva. 2021. T. 153. № 5. S. 21–33. https://doi.org/10.31857/S0869607121050050
- Lappo G.M. Raznoobrazie gorodov kak faktor uspeshnogo prostranstvennogo razvitija Rossii // Izv. RAN. Ser. geogr. 2019. № 4. S. 3–23.
- Limonov L.E., Nesena M.V. Osobennosti etnokul’turnogo raznoobrazija rossijskih regionov // Region: ekonomika i sociologija. 2015. № 3 (87). S. 146–170. https://doi.org/10.15372/REG20150906
- Lola A.M. Osnovy gradovedenija i teorii goroda (v rossijskoj interpretacii). M.: Komkniga, 2005. 324 s.
- Manakov A.G. Transformacija etnicheskogo prostranstva Rossii v XVIII–XIX vv.: istoriko-geograficheskij analiz // Izvestija Russkogo geograficheskogo obshhestva. 2019. T. 151. № 1. S. 17–28. https://doi.org/10.31857/S0869-6071151117-28
- Manakov A.G., Danilkina N.V. Russkoe jazykovoe prostranstvo kak otrazhenie processov etnokul’turnogo preobrazovanija territorij v sostave yedinogo gosudarstva // Izvestija Russkogo geograficheskogo obshhestva. 2020. T. 152. № 6. S. 3–15. https://doi.org/10.31857/S086960712006004X
- Mkrtchyan N.V. Migracionnyj balans rossijskih gorodov: k voprosu o vlijanii razmera i polozhenija v sisteme centro-periferijnyh otnoshenij // Nauchnye trudy: Institut narodnohozjajstvennogo prognozirovanija Rossijskoj Akademii Nauk M.: MAKS Press, 2011. S. 416–430.
- Nefedova T.G. Kontrasty social’no-ekonomicheskogo prostranstva v centre Rossii i ih evoljucija: dva “razreza”-profilja // Regional’nye issledovanija. 2020. № 2 (68). S. 18–38.
- Nefedova T.G., Treivish A.I. Sredneural’skij meridian: poljarizacija prostranstva staropromyshlennyh regionov // Izvestija Russkogo geograficheskogo obshhestva. 2020. T. 152. № 5. S. 3–25. https://doi.org/10.31857/S0869607120050055
- Pilyasov A.N., Zamyatina N.Yu. Regional’naja ekonomika i prostranstvennoe razvitie // Region: ekonomika i sociologija. 2015. № 4 (88). S. 285–302.
- Romashina A.A. Tipologija municipal’nyh obrazovanij Rossii po specializacii ekonomiki i polozheniju v sisteme rasselenija // Regional’nye issledovanija. 2019. № 3. S. 42–53.
- Sarycheva T.V. Sravnitel’nyj analiz strukturnyh sdvigov v zanjatosti naselenija regiona // Statistika i ekonomika. 2012. № 2. S. 170–176.
- Sistema gorodov i prostranstvennoe razvitie Rossii / Pod. red. L.E. Limonova – Mezhdunarodnyj centr social’no-ekonomicheskih issledovanij “Leont’evskij centr”. SPb.: MCSeI “Leont’evskij centr”, 2024. 352 s.
- Storper M. Kljuchi ot goroda: Kak ustroeno razvitie? / Per. s angl. M.: Strelka Press, 2018. 368 s.
- Chibilev A.A., Petrishchev V.P., Kosykh P.A., Levykin S.V. Pokazateli social’no-ekonomicheskogo razvitija municipal’nyh obrazovanij stepnyh regionov yevropejskoj Rossii // Izvestija Russkogo geograficheskogo obshhestva. 2018. T. 150. № 5. S. 1–14. https://doi.org/10.7868/S0869607118050018
- Fauser V.V., Lytkina T.S. Migracionnye processy na rossijskom Severe: ugrozy i posledstvija // Rossija: tendencii i perspektivy razvitija. Ezhegodnik. Vyp. 2. M., 2017. Ch. 2. S. 719–725.
- Alesina A., La Ferrara E. Ethnic Diversity and Economic Performance // J. Economic Literature. 2005. V. XLIII. P. 762–800. https://doi.org/10.1257/002205105774431243
- Bell D., Jayne M. Small cities? Towards a research agenda // Intern. J. Urban and Regional Research. 2009. № 33 (3). P. 683–699.
- Kolomak E.A., Sherubneva A.I. Spatial Structure and Factors of Economic Development of Asian Russia // Reg. Res. Russ. 2023. V. 13. Р. 375–385.
- Kühn M. Peripheralization: Theoretical Concepts Explaining Socio-Spatial Inequalities // European Planning Studies. 2015. V. 23. № 2. P. 367–378.
- Norman J.R. Small cities USA: growth, diversity, and inequality. New Brunswick, London: Rutgers Univ. Press, 2013. 208 p.
- Tolsma J., van der Meer T., Gesthuizen M. The impact of neighbourhood and municipality characteristics on social cohesion in the Netherlands // Acta Politica. 2009. V. 44. № 3. P. 286–313. https://doi.org/10.1057/ap.2009.6
- Yong E.L. Understanding cultural diversity and economic prosperity in Europe: A literature review and proposal of a culture-economy framework // Asian Journal of German and European Studies. 2019. V. 4. P. 1–34.
- Zemtsov S.P., Baburin V.L. COVID-19: Spatial Dynamics and Diffusion Factors across Russian Regions // Reg. Res. Russ. 2020. V. 10. № 3. P. 273–290. https://doi.org/10.1134/ S2079970520030156
Supplementary files