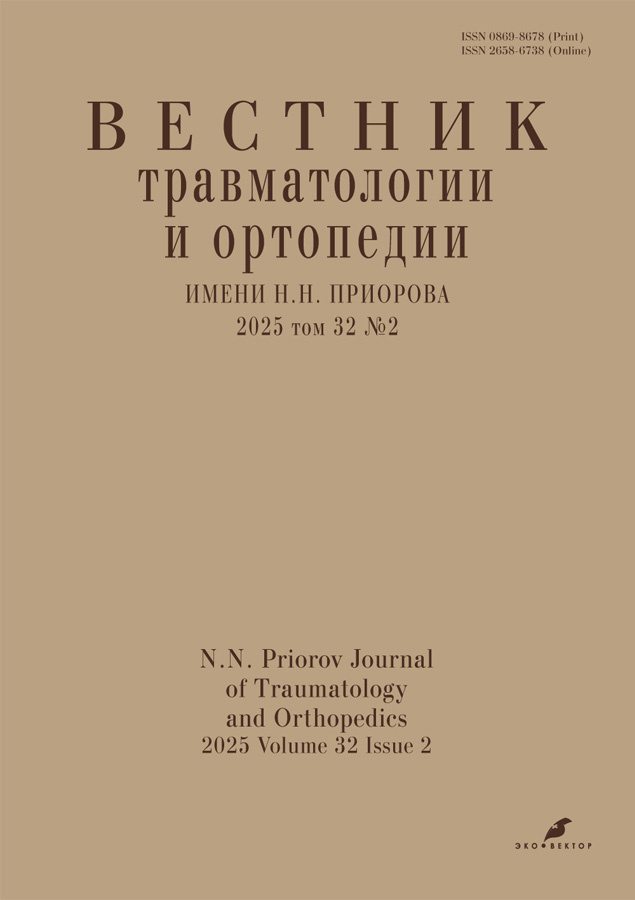Результаты хирургического лечения пациентов с деформациями позвоночника, ассоциированными с неврологическим дефицитом
- Авторы: Кулешов А.А.1, Назаренко А.Г.1, Крупаткин А.И.1, Милица И.М.1, Ветрилэ М.С.1, Струнина Ю.В.2, Макаров С.Н.1, Лисянский И.Н.1, Шаров В.А.1
-
Учреждения:
- Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова
- Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко
- Выпуск: Том 32, № 2 (2025)
- Страницы: 361-374
- Раздел: Оригинальные исследования
- Статья получена: 18.02.2025
- Статья одобрена: 10.03.2025
- Статья опубликована: 22.07.2025
- URL: https://journals.eco-vector.com/0869-8678/article/view/656745
- DOI: https://doi.org/10.17816/vto656745
- EDN: https://elibrary.ru/NHRTEA
- ID: 656745
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Обоснование. Хирургическое лечение пациентов с деформациями позвоночника, сопровождающимися неврологическим дефицитом, является дискутабельным. Имеющиеся исследования, как правило, представлены форматом «случай — контроль» или серией клинических случаев и не содержат статистической оценки результатов лечения. Отсутствие систематизированного подхода к хирургическому вмешательству и недостаток статистически значимых данных о результатах лечения подчёркивают высокую актуальность изучения данной темы.
Цель. Оценить эффективность лечения пациентов с деформацией позвоночника, ассоциированной с неврологическим дефицитом.
Материалы и методы. Проведён ретроспективный анализ результатов хирургического лечения 51 пациента с деформацией позвоночника, ассоциированной с неврологическим дефицитом. Пациенты были разделены на три группы в зависимости от метода хирургического лечения. Всем пациентам проведены стандартные методы обследования. На основе данных КТ-миелографии изготовлены индивидуальные 3D-модели (n=23) позвоночника и спинного мозга и индивидуальные металлоконструкции (n=8). Проведены анкетирование пациентов и оценка неврологического статуса с использованием шкал Frankel, ASIA, FIM.
Результаты. У всех пациентов из групп B, C и D по Frankel выявлен статистически значимый регресс неврологического дефицита. Улучшение моторной функции отмечалось в первые дни после операции, а чувствительность улучшалась в среднем через 6 мес. Было установлено, что на регресс неврологического дефицита влияет декомпрессия спинного мозга в зоне максимального стеноза.
Заключение. Регресс неврологического дефицита в послеоперационном периоде зависит от степени выраженности, продолжительности неврологического дефицита до операции и адекватной декомпрессии спинного мозга в зоне максимального стеноза позвоночного канала. 3D-модели позвоночника и спинного мозга являются важным инструментом для визуализации локальной компрессии спинного мозга.
Ключевые слова
Полный текст
ОБОСНОВАНИЕ
Прогрессирование сколиотических и кифотических деформаций позвоночника приводит к стенозу позвоночного канала, локализующемуся на вершине деформации. Наличие стеноза обусловливает развитие на вершине деформации непосредственной механической компрессии спинного мозга, нарушения микроциркуляции миелорадикулярных структур и натяжения оболочек спинного мозга. Это проявляется развитием миелопатии на вершине деформации. Компрессия спинного мозга проявляется неврологическим дефицитом различной степени выраженности, приводящим к инвалидизации пациентов [1, 2]. Средняя частота вертеброгенных миелопатий при кифозах составляет 21,1%. При агенезии тел позвонков частота неврологических осложнений превышает 66%, при гипогенезии достигает 33%, а при гипоплазии — 20%. Сочетанные кифозогенные пороки сопровождаются миелопатией в 30,8% случаев [3]. Статистические данные о неврологическом дефиците при идиопатических деформациях позвоночника в литературе отсутствуют.
Основной задачей хирургического лечения неврологически осложнённых деформаций позвоночника является декомпрессия спинного мозга на вершине деформации. Цель непосредственной коррекции деформации позвоночника во фронтальной или сагиттальной плоскости становится второстепенной. При анализе литературы можно выделить хирургические методы, основанные на вентральном, дорсальном или комбинированном доступе [4, 5].
В научной литературе сформировались несистематизированные подходы к хирургическому лечению пациентов с неврологически осложнёнными кифосколиотическими деформациями позвоночника, как с применением инструментария, так и без него. Большинство работ по данной тематике выполнены в формате «случай — контроль» или представляют собой серии случаев без проведения статистического анализа лечения [6, 7].
Цель исследования — оценка эффективности методики хирургического лечения пациентов с деформацией позвоночника, ассоциированной с неврологическим дефицитом.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Дизайн исследования
Выполнено ретроспективное наблюдательное одноцентровое контролируемое исследование.
Условия проведения
Исследование проведено на базе Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова.
Критерии соответствия
Критерии включения:
- неврологический дефицит, обусловленный компрессией спинного мозга на фоне деформации позвоночника;
- наличие данных лучевых методов исследования до и после хирургического лечения;
- наличие данных о неврологическом статусе до и после хирургического лечения.
Критерии невключения:
- неврологический дефицит и деформация позвоночника, обусловленные острой травмой позвоночника;
- неврологический дефицит, обусловленный патологией головного мозга;
- новообразования позвоночника и спинного мозга;
- нейромышечные деформации позвоночника.
Продолжительность исследования
Исследование проводилось с октября 2022 по февраль 2025 года.
Описание медицинского вмешательства и анализ в группах
Обследование пациентов проводилось до операции, после операции (через 2 недели), через 6, 12 и 18 мес.
Пациентам был проведён общий осмотр с подробным исследованием нейроортопедического статуса. Выполнены диагностические исследования: рентгенограммы позвоночника в двух проекциях, компьютерная (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ) позвоночника. Выполнена КТ-миелография позвоночника с целью уточнения и объёмной визуализации места компрессии спинного мозга.
С целью планирования места, зоны и объёма резекции позвоночника, а также места и траекторий установки винтов на основании КТ-миелографии на 3D-принтере изготовлены полноразмерные анатомические модели позвоночника и миелорадикулярных структур из пластика (рис. 1). Для проведения вентрального этапа операции 8 пациентам были изготовлены индивидуальные металлоконструкции.
Рис. 1. Анатомическая полноразмерная 3D-модель позвоночника (жёлтый цвет) и спинного мозга (красный цвет) на уровне Th6-Th10 пациента с диагнозом «наследственная невропатия Шарко–Мари–Тута, тип 4С. Нейрогенный левосторонний кифосколиоз грудного отдела позвоночника IV ст. Компрессия спинного мозга на уровне Th6-9. Нижний смешанный глубокий парапарез»: a — вид сзади, b, c — вид модели в разобранном положении в сагиттальной плоскости. Синим овалом обозначена зона наибольшей компрессии миелорадикулярных структур на уровне Th6-9, обусловленной корнями дуг, рёберно-поперечными суставами, головками рёбер с вогнутой стороны деформации.
Fig. 1. Anatomical life-size 3D model of the spine (yellow) and spinal cord (red) at the Th6–Th10 level in a patient with the following diagnosis: Hereditary neuropathy (Charcot–Marie–Tooth disease type 4C). Neurogenic left-sided thoracic kyphoscoliosis, grade IV. Spinal cord compression at Th6–Th9. Lower mixed deep paraparesis: a, posterior view; b, c, sagittal views of the model in disassembled configuration. The blue oval indicates the zone of greatest compression of the myeloradicular structures at the level of Th6-9, caused by the radixes of the arches, costotransverse joints, and heads of the ribs on the concave side of the deformity.
В зависимости от основного способа выполнения декомпрессии спинного мозга пациентов разделили на три группы:
- пациентам первой группы проведено оперативное лечение, основными компонентами которого были вентральная декомпрессия, стабилизация и минимальная коррекция деформации позвоночника;
- пациентам второй группы проведено оперативное лечение, основным компонентом которого была непрямая декомпрессия спинного мозга за счёт инструментальной коррекции и фиксации деформации;
- в третьей группе основным компонентом оперативного лечения являлась задняя и/или заднебоковая декомпрессия позвоночного канала с последующей стабилизацией.
Исходы исследования
Основными конечными точками исследования были показатели выраженности стеноза позвоночного канала и компрессии спинного мозга после хирургического вмешательства, в том числе неврологический статус пациента.
Методы регистрации исходов
Для объективной оценки стеноза позвоночного канала и компрессии спинного мозга на основе данных диагностических исследований (КТ, МРТ и КТ-миелографии) был осуществлён расчёт относительной величины стеноза позвоночного канала (К%) до и после хирургического вмешательства. Расчёт К% проводился в сагиттальной плоскости по формуле:
К% = (А - В) / А × 100%,
где А — размер поперечного сечения спинного мозга в нейтральной зоне (мм), а В — размер поперечного сечения спинного мозга в зоне максимальной компрессии (мм) на вершине деформации (рис. 2) [8].
Рис. 2. Компьютерная томография грудного отдела позвоночника (сагиттальный срез) пациента с диагнозом «врождённый кифосколиоз грудного отдела позвоночника IV ст. Стеноз позвоночного канала на уровне Th4-Th5. Шейно-грудная миелопатия: верхний смешанный дистальный парапарез, нижний спастический парапарез»: a — КТ миелография до операции, b — КТ позвоночника после операции, линия 1 — размер поперечного сечения спинного мозга в нейтральной зоне (см), линия 2 — размер поперечного сечения спинного мозга в зоне максимальной компрессии (мм) на вершине деформации. К% до операции — 79,6%, после — 61,2%.
Fig. 2. Computed tomography (sagittal slice) of the thoracic spine in a patient with the following diagnosis: Congenital thoracic kyphoscoliosis, grade IV. Spinal stenosis at Th4–Th5. Cervicothoracic myelopathy: upper mixed distal paraparesis, lower spastic paraparesis: a, preoperative CT myelography; b, postoperative CT of the spine; line 1: cross-sectional area of the spinal cord in the neutral zone (cm²); line 2: cross-sectional area of the spinal cord at the site of maximal compression (mm²) at the apex of the deformity. Compression ratio (CR): preoperative, 79.6%; postoperative, 61.2%. .
Оценка неврологического статуса пациентов проводилась до и после операции с использованием шкалы Frankel (H. Frankel, 1969 г.) и шкалы Американской ассоциации травм позвоночника (ASIA). Для проведения статистического анализа категориальная шкала Frankel была переведена в числовую шкалу, где A=1, B=2, C=3, D=4, E=5.
Объективная оценка изменений неврологического статуса по шкале ASIA проведена с использованием коэффициента Hirobayashi recovery rate (Hirobayashi RR) (%). Коэффициент Hirobayashi RR (%) рассчитывался по формуле:
,
где M — максимальное значение шкалы. Для ASIA моторная М=100, а чувствительная или болевая М=112.
Функциональная независимость пациентов оценивалась с помощью шкалы функциональной независимости FIM [9].
Этическая экспертиза
Протокол исследования одобрен Локальным этическим комитетом (заседание № 7 от 5 августа 2021 года). Все пациенты (или их представители) добровольно подписывали форму информированного согласия на участие до включения в исследование.
Статистический анализ
Статистическая обработка данных осуществлялась с применением языка статистического программирования R (версия 4.3.1) в интегрированной среде разработки RStudio (версия 2023.09.0). Для сравнения двух зависимых выборок был использован непараметрический критерий Вилкоксона. Анализ двухфакторных рандомизированных блочных конструкций с бинарной переменной проводился с помощью Q-критерия Кокрана. Оценка статистически значимых различий между средними значениями осуществлялась посредством критерия Фридмана для связанных выборок. Корреляционный анализ количественных переменных выполнялся с использованием ранговой корреляции Спирмена. Во всех статистических тестах нулевая гипотеза отвергалась при уровне значимости p <0,05, что соответствует 95% доверительному интервалу.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Участники исследования
В исследовании принимали участие пациенты (n=51) со сколиотическими (n=8; 15,7%), кифотическими (n=26; 51%) и кифосколиотическими (n=17; 33,3%) деформациями позвоночника, ассоциированными с неврологическим дефицитом (рис. 3). Из них 25 пациентов (49%) были мужского пола, а 26 (51%) — женского. В исследуемой выборке пациенты были разделены на две возрастные группы. В первую группу вошли 39 пациентов до 18 лет, средний возраст которых составил 10,5±4,4 года. Вторая группа включала 12 пациентов старше 18 лет, средний возраст в данной группе составил 26±12,5 года. Распределение пациентов по возрасту представлено на рис. 4.
Рис. 3. Распределение пациентов по типу деформации.
Fig. 3. Distribution of patients by type of spinal deformity.
Рис. 4. Распределение пациентов по возрасту.
Fig. 4. Distribution of patients by age.
В 23 случаях в связи с тяжестью деформации и компрессии спинного мозга потребовались дополнительные методы визуализации патологических участков.
Вершина кифотической деформации преимущественно локализовалась на уровнях C3, Th5, Th12, L1 позвонков. Вершина сколиотической деформации располагалась преимущественно в грудном отделе (Th5-Th6). Вершина кифосколиотической деформации была представлена на уровнях Th4, Th8, Th5 и L1 (табл. 1).
Таблица 1. Распределение пациентов в зависимости от вершины и типа деформации
Table 1. Distribution of patients by apex and type of spinal deformity
Кифоз (n=26) | Сколиоз (n=8) | Кифосколиоз (n=17) | |||
Вершина | Кол-во пациентов | Вершина | Кол-во пациентов | Вершина | Кол-во пациентов |
С3 | 3 | Th3 | 1 | Th2 | 1 |
С4 | 1 | Th5 | 2 | Th4 | 3 |
С5 | 2 | Th6 | 2 | Th5 | 2 |
С7 | 2 | Th10 | 1 | Th6 | 1 |
Th1 | 2 | С4 | 1 | Th7 | 1 |
Th3 | 1 | C7 | 1 | Th8 | 3 |
Th4 | 1 | Th9 | 1 | ||
Th5 | 2 | Th10 | 1 | ||
Th5-8 | 1 | L1 | 2 | ||
Th7 | 1 | Т12 | 1 | ||
Th9 | 2 | С4 | 1 | ||
Th11 | 1 | C7 | 1 | ||
Th12 | 3 | ||||
Th12-L1 | 1 | ||||
L1 | 2 | ||||
L2 | 1 | ||||
Большинству пациентов (n=43) проведено многоэтапное оперативное лечение. В зависимости от основного способа выполнения декомпрессии спинного мозга выделено три группы пациентов.
В первую группу вошли пациенты (n=18):
- с передней компрессией спинного мозга;
- локальной угловой деформацией позвоночника;
- деформацией, развившейся и прогрессирующей на фоне нарушения формирования или развития передней колонны позвоночника.
Этиология деформаций в данной когорте была представлена врождёнными аномалиями шейно-грудного (n=6), грудного (n=8) и поясничного (n=4) отделов позвоночника. У 7 пациентов деформация позвоночника была обусловлена синдромом цервико-торакальной инклинации (n=3), мукополисахаридозом 1-го и 6-го типов (n=2), прогерией (n=1) и нейрофиброматозом (n=1). Морфологическая характеристика деформаций включала преимущественно кифотический компонент (n=14). Сколиотический и кифосколиотический компоненты деформации были представлены единичными случаями (n=1 и 1 соответственно).
- В 5 клинических случаях реализовано трёхэтапное хирургическое лечение. На первом этапе проведена гало-пельвик-тракция. Второй этап предусматривал выполнение дорсальной фиксации с минимальной коррекцией деформации. Понятие «минимальная коррекция деформации» включало коррекцию, достигнутую в результате положения пациента на операционном столе в наркозе, а также в результате напряжения установленных стержней. Из-за невозможности абсолютно точно отмоделировать стержни согласно деформации сохраняется их напряжение, обеспечивающее незначительное корригирующее усилие. Завершающим этапом являлись вентральная резекция тел позвонков в области вершины деформации, передняя декомпрессия спинного мозга и вентральная фиксация.
- В 9 случаях выполнено двухэтапное хирургическое вмешательство. У этих пациентов преобладала кифотическая деформация позвоночника, локализованная в нижнегрудном или грудопоясничном отделе. Восемь пациентов имели вершину деформации на уровне Th5-L1, а один — на уровне C На первом этапе хирургического лечения проведена транспедикулярная фиксация с минимальной коррекцией деформации. На втором этапе выполнялась резекция тел позвонков с последующей декомпрессией позвоночного канала и замещением дефекта сетчатым титановым кейджем.
- Четырём пациентам было проведено одноэтапное лечение, включающее вентральную декомпрессию позвоночного канала с резекцией тел позвонков на вершине деформации и вентральную фиксацию. В двух из этих случаев потребовалось изготовление индивидуальной пластины и пластины-кейджа.
Пациенты второй группы (n=12) имели следующие закономерности:
- протяжённая дуга кифотической или сколиотической деформации позвоночника;
- стеноз позвоночного канала за счёт передней колонны позвоночника;
- отсутствие нарушений передней колонны позвоночника.
Кифоз был диагностирован у 5 пациентов, кифосколиоз — у 2, сколиоз — у 5. У одного пациента деформация позвоночника развилась на фоне ахондроплазии, у двоих — на фоне синдрома Клиппеля–Фейля, у пяти — на фоне нейрофиброматоза, и у четырёх пациентов — на фоне врождённых аномалий позвоночника, включая один случай торако-цервикальной инклинации. На первом этапе всем пациентам была проведена гало-пельвик-тракция, и на втором этапе — дорсальная коррекция и фиксация деформации. В двух случаях потребовалась вентральная фиксация для формирования спондилодеза 360° с целью снижения риска развития нестабильности дорсальной металлоконструкции.
Пациенты третьей группы (n=21) имели следующие закономерности:
- протяжённая дуга деформации;
- компрессия спинного мозга за счёт задних или заднебоковых структур позвоночника;
- отсутствие нарушений передней колонны позвоночника.
Кифоз наблюдался у 7 пациентов, кифосколиоз — у 12, и сколиоз — у 2. В отдельных случаях деформация развивалась на фоне синдрома Джарко–Левина, диастематомиелии, ахондроплазии, спондилоэпифизарной дисплазии, болезни Шарко–Мари–Тута, синдрома Морриса, и в четырёх случаях — на фоне нейрофиброматоза. Семерым пациентам было проведено двухэтапное оперативное вмешательство: на первом этапе выполнена галотракция, на втором — декомпрессия позвоночного канала или его моделирование с дорсальной фиксацией деформации. Остальным пациентам проведено одноэтапное оперативное лечение, включающее декомпрессию позвоночного канала и дорсальную фиксацию деформации с минимальной коррекцией.
Основные результаты исследования
Применение непараметрического критерия Фридмана выявило статистически значимые показатели (р <0,001) регресса неврологического дефицита до и после оперативного вмешательства во всех исследуемых группах, оцениваемые по шкале ASIA (тактильная, болевая и моторная функции). В первой группе обнаружена более выраженная корреляция показателей ASIA — моторная (p <0,000204) и болевая (p <0,000205) в период от 6 до 12 мес. после операции. Однако для шкалы ASIA тактильная статистически значимая зависимость наблюдалась в интервале от 12 до 24 месяцев.
Во второй группе также зафиксирована статистически значимая положительная динамика неврологического статуса (р <0,028), но без существенных изменений по периодам наблюдения, что обусловлено отсутствием выраженного неврологического дефицита до операции.
В третьей группе выявлена статистически значимая взаимосвязь моторной функции после операции (р <0,00013), усиливающаяся к 6-му месяцу и сохраняющая корреляционную связь до 24-го месяца (р <0,000061). Аналогичные показатели наблюдались для тактильной и болевой функций по шкале ASIA.
Применение непараметрического критерия Фридмана также выявило статистически значимую взаимосвязь между функциональной независимостью и динамикой неврологического статуса пациентов, оцениваемую по шкале FIM, в первой и третьей группах (р <0,000212 и <0,000190 соответственно). Во второй группе отмечена статистически значимая, но менее выраженная взаимосвязь (р <0,037), сохраняющаяся на всех этапах исследования, что объясняется изначально высоким уровнем функционального статуса пациентов этой группы.
Использование Q-критерия Кокрана позволило выявить статистически значимую корреляционную взаимосвязь динамики неврологического статуса по шкале Frankel во всех исследуемых группах после проведённого лечения. Результаты представлены в табл. 2.
Таблица 2. Динамика неврологического статуса в группах пациентов с учётом возраста и продолжительности неврологического дефицита до операции
Table 2. Changes in neurological status by age and duration of neurological deficit prior to surgery
Группа пациентов | Количество пациентов | Продолжительность неврологического дефицита, мес. | Возраст, лет | Frankel до операции | Frankel после операции (через 18 мес.) | ||
Первая | 18 | 22,4±16,3 | 11,2±7,8 | 3,4±1,2 | 4,7±0,5 | ||
Вторая | 12 | 14,8±8,5 | 13,3±6,9 | 3,7±0,9 | 4,8±0,5 | ||
Третья | 21 | 25,1±15,6 | 16,8±8,7 | 3,5±1,0 | 4,6±0,6 | ||
Frankel до операции | Количество пациентов | Средняя продолжительность дефицита (мес.) | Количество пациентов с восстановлением до Frankel B через 18 мес. | Количество пациентов с восстановлением до Frankel C через 18 мес. | Количество пациентов с восстановлением до Frankel D через 18 мес. | Количество пациентов с восстановлением до Frankel E через 18 мес. | |
Пациенты до 18 лет (n=39) | |||||||
B | 10 | 18,5±6,2 | – | 2 | 3 | 5 | |
C | 12 | 16,2±5,8 | – | – | 2 | 10 | |
D | 15 | 12,8±4,5 | – | – | 1 | 14 | |
E | 2 | 8,5±3,1 | – | – | – | 2 | |
Пациенты старше 18 лет (n=12) | |||||||
B | 4 | 30,5±8,7 | – | 1 | 2 | 1 | |
C | 4 | 28,7±7,9 | – | – | 2 | 2 | |
D | 4 | 24,5±6,4 | – | – | – | 4 | |
E | 0 | – | – | – | – | – | |
С использованием коэффициента ранговой корреляции Спирмена установлена статистически значимая взаимосвязь в первой группе, демонстрирующая влияние исходного размера поперечного сечения спинного мозга в зоне максимальной компрессии на вершине деформации на восстановление тактильной и болевой функций (p <0,0415), оцениваемых по шкале ASIA, в раннем послеоперационном периоде в течение первых 6 мес. (p <0,0329). Кроме того, обнаружена статистически значимая связь исходного размера поперечного сечения спинного мозга в зоне максимальной компрессии на вершине деформации с восстановлением моторной функции в позднем послеоперационном периоде в пределах 24 месяцев (p <0,0305). Во второй группе статистически значимой взаимосвязи не выявлено.
Относительная величина стеноза (K%) была получена и проанализирована с использованием критерия Вилкоксона по группам до и после хирургического лечения (рис. 5).
Рис. 5. График boxplot относительной величины стеноза позвоночного канала (К%) до и после операции: a — в первой группе, b — во второй группе, c — в третьей группе.
Fig. 5. Boxplot of the relative spinal stenosis ratio (CR%) before and after surgery: a, Group 1; b, Group 2; c, Group 3.
Отмечено, что у пациентов во второй и третьей группах исходный размер поперечного сечения спинного мозга в зоне максимальной компрессии на вершине деформации коррелировал с динамикой моторной и тактильной функций в первые 6–12 мес. после оперативного вмешательства (p <0,0355).
В третьей группе выявлена взаимосвязь между изменением угла кифотической деформации после операции и динамикой моторной (p <0,0384), тактильной (p <0,0142), а также болевой функции (p <0,0366) по шкале ASIA. Во второй группе также обнаружена статистически значимая взаимосвязь между изменением угла кифоза и динамикой неврологического статуса, касающаяся лишь тактильной и болевой функций по шкале ASIA (p <0,00562). Это влияние объясняется менее выраженным исходным неврологическим дефицитом и отсутствием прямой декомпрессии позвоночного канала.
В первой группе была обнаружена положительная корреляционная связь между изменением угла кифотической деформации и степенью функциональной независимости пациента до и после операции. Результаты представлены на рис. 6.
Рис. 6. Коррелограмма показателей функциональной независимости (по вертикали) и угла коррекции кифоза деформации (по горизонтали).
Fig. 6. Correlation matrix of functional independence parameters (vertical axis) and kyphotic deformity correction angle (horizontal axis).
Во всех группах выявлена корреляционная взаимосвязь между динамикой восстановления моторной функции по шкале ASIA и функциональным статусом по шкале FIM сразу после операции и в течение первых 6–12 мес. последующего лечения (p <0,001).
Был проведён анализ взаимосвязи между продолжительностью неврологического дефицита (в месяцах) до момента оперативного лечения и динамикой его восстановления после операции. Неврологические проявления были классифицированы как серьёзные (соответствующие группам A, B и C по шкале Frankel) и незначительные (соответствующие группам D и E по шкале Frankel). Такое разделение обусловлено тем, что в генеральной выборке присутствовали пациенты с неврологическим дефицитом, который не оказывал значительного влияния на функциональную активность. Разделение пациентов на две условные группы неврологического дефицита объясняется тем, что у пациентов групп D и E по шкале Frankel исходный неврологический статус был высоким и, следовательно, после хирургического вмешательства показатели неврологического статуса (по шкале ASIA) также оставались на высоком уровне.
У пациентов детского возраста (до 18 лет), входящих в генеральную выборку, обнаружена значительная корреляция между длительностью грубого неврологического дефицита и степенью его восстановления через 18 месяцев после оперативного вмешательства (рис. 7).
Рис. 7. Коррелограмма взаимосвязи продолжительности неврологического дефицита (по горизонтали) и неврологического статуса (по вертикали) у детей и пациентов молодого возраста (р <0,042).
Fig. 7. Correlation matrix of the relationship between neurological deficit duration (horizontal axis) and neurological status (vertical axis) in children and young adults (p <0.042).
Следует обратить внимание на сильную корреляционную связь между продолжительностью грубого неврологического дефицита и динамикой его восстановления в третьей группе. Особенно заметно влияние продолжительности дефицита на восстановление моторной функции, оцениваемой по шкале ASIA, а также на уровень функциональной независимости пациентов, измеряемый по шкале FIM (рис. 8, 9).
Рис. 8. Коррелограмма взаимосвязи продолжительности неврологического дефицита (по горизонтали) и моторной функции по шкале ASIA (по вертикали) в третьей группе (р <0,032).
Fig. 8. Correlation matrix of the relationship between neurological deficit duration (horizontal axis) and motor function on the ASIA scale (vertical axis) in Group 3 (p <0.032).
Рис. 9. Коррелограмма взаимосвязи продолжительности неврологического дефицита (по горизонтали) и неврологического статуса по Frankel (по вертикали) в третьей группе (р <0,0077).
Fig. 9. Correlation matrix of the relationship between neurological deficit duration (horizontal axis) and neurological status on the Frankel scale (vertical axis) in Group 3 (p <0.0077).
У детей первые симптомы неврологических нарушений перерастали в клинически значимые проявления в среднем через 13 мес. В отличие от них у взрослых пациентов те же проявления развивались быстрее, за 10 мес. В течение последующих 16 мес. наблюдалось усугубление неврологического статуса, достигавшее уровня C по классификации Frankel и далее (p <0,0388).
ОБСУЖДЕНИЕ
Основной задачей операции у пациентов с неврологически осложнёнными деформациями позвоночника является предупреждение усугубления и восстановление неврологического статуса. Несмотря на достижения в усовершенствовании хирургических методов лечения деформации позвоночника с компрессией спинного мозга, выбор оптимального хирургического метода остаётся предметом дискуссий [10–12].
Пациентам, у которых выявлена передняя компрессия спинного мозга с локальной угловой деформацией позвоночника на фоне нарушения формирования или развития его передней колонны, показано проведение передней декомпрессии спинного мозга, стабилизации деформации с минимальной коррекцией. Этапы хирургического лечения проведены в разные операционные сессии. Как правило, пациентам на первом этапе проводилась дорсальная стабилизация с минимальной коррекцией деформации. Перед первым этапом хирургического лечения была проведена гало-тракционная подготовка. Вентральная декомпрессия и передняя стабилизация деформации проводились вторым этапом. В ситуациях, когда имеется вентральная компрессия, но анатомические структуры не позволяют установить дорсальную конструкцию, вариантом хирургического лечения является передняя декомпрессия и только вентральная фиксация деформации позвоночника [13].
Коррекция деформации и непрямая декомпрессия показаны пациентам, у которых выявлены протяжённая дуга кифотической или сколиотической деформации позвоночника, вентральный стеноз позвоночного канала, но нет нарушений задней колонны позвоночника. Отсутствие локальной компрессии спинного мозга, регресса неврологического дефицита при стабилизации и коррекции деформации на этапе гало-тракции, а также стойкой динамики восстановления неврологического статуса после операции и целостности передней колонны позвоночника позволяет отказаться от проведения прямой декомпрессии.
В группе пациентов, у которых компрессия спинного мозга обусловлена задними или заднебоковыми элементами позвоночника и имеющих протяжённую дугу деформации позвоночника без дефектов передней колонны позвоночника, показаны проведение задней или заднебоковой декомпрессии спинного мозга и фиксация деформации с минимальной коррекцией.
Во всех исследуемых группах пациентов моторная функция и тактильная чувствительность демонстрируют одну из первых положительных динамик в восстановлении неврологического дефицита при декомпрессии позвоночного канала. Восстановление прослеживается в течение первых 6 месяцев после хирургического вмешательства. Начиная с 6-го месяца и в течение последующих 18 месяцев отмечено восстановление болевой чувствительности. Восстановление моторной функции вносит наибольший вклад в функциональную независимость пациентов, оцениваемую по шкале FIM, что отражается в повышении способности к самообслуживанию.
Величина компрессии спинного мозга (K%) оказывает значительное влияние на изменения неврологического статуса. В первой и третьей группах исследуемых пациентов величина компрессии спинного мозга была наибольшей, что коррелировало со степенью неврологического дефицита. У пациентов второй группы величина K% была меньше, чем в первой и третьей группах. Пациенты второй группы исходно имели менее выраженный неврологический дефицит, а проведение коррекции деформации позвоночника (непрямая декомпрессия спинного мозга) способствовало сохранению неврологического статуса и снижению риска развития грубого неврологического дефицита.
Следует отметить использование гало-пельвик-тракции, хотя в научной литературе данный метод лечения зачастую рассматривается как противопоказание для пациентов с деформациями позвоночника, осложнёнными неврологическим дефицитом. Во время выполнения гало-тракции выявлен частичный регресс неврологического дефицита у всех наблюдаемых пациентов. Проявления спастичности уменьшались на 1–2 балла по шкале Ashworth, улучшалась чувствительность в дистальных отделах конечностей, а мышечная сила возрастала на 1–2 балла или же возникали движения, ранее отсутствовавшие. Этот частичный регресс неврологических нарушений при гало-пельвик-тракции является положительным прогностическим признаком. Применение гало-тракции показало эффективность в достижении частичного регресса неврологических нарушений. Необходимость применения гало-пельвик-тракции обоснована:
- компрессией спинного мозга;
- стабилизацией деформации;
- достижением непрямой декомпрессии спинного мозга вследствие начальной коррекции деформации, снижением натяжения оболочек спинного мозга и улучшением микроциркуляции в спинном мозге;
- необходимостью повышения резистентности сосудистых и миелорадикулярных структур позвоночника к тракционному воздействию во время операции. Улучшение перфузии и оксигенации тканей спинного мозга приводит к клинически наблюдаемому регрессу неврологического дефицита [11, 14–16].
Анализ результатов исследования показал, что величина деформации, а именно её кифотический компонент, существенно влияет на развитие неврологического дефицита. Эти данные согласуются с данными научной литературы [17]. Такая закономерность более выражена у пациентов второй группы, которым проведена непрямая декомпрессия, обусловленная коррекцией и стабилизацией деформации позвоночника. Статистически получены данные о том, что стабилизация и коррекция деформации на 30–40° от исходных значений создают условия для предотвращения усугубления неврологического статуса и его дальнейшего восстановления [18–20].
Длительность неврологического дефицита и возраст пациента оказывают влияние на восстановление неврологического статуса после проведённого хирургического лечения. У детей клинически значимый неврологический дефицит (группы B, C по Frankel) развился в течение 14,0±6,7 мес., а у взрослых — через 27,9±8,3 мес. от момента появления первых симптомов. Такая закономерность может быть обусловлена активным ростом позвоночника и, вследствие этого, быстрым прогрессированием деформации. Следует отметить, что во всех исследуемых группах у пациентов в возрасте 11–20 лет (14,2±10,1 года) наблюдалась наибольшая активная динамика регресса неврологического дефицита. Это связано с компенсаторными возможностями сосудистых и миелорадикулярных структур [8].
Объективная оценка изменений неврологического статуса проводилась с использованием формулы Hirobayashi recovery rate (Hirobayashi RR) (%) (табл. 3). В ходе анализа восстановления функции спинного мозга с использованием коэффициента Hirobayashi выявлено, что первая группа демонстрирует наилучшие результаты восстановления по всем трём функциям (моторная, тактильная, болевая); третья группа показывает промежуточные результаты, которые хуже, чем в первой группе, но лучше, чем во второй; вторая группа имеет наименьшие значения коэффициентов Hirobayashi RR (%) по всем функциям. Результаты исследования свидетельствуют о том, что прямая декомпрессия спинного мозга оказывает более значительное влияние на восстановление его функции.
Таблица 3. Средние значения коэффициентов Hirobayashi RR (%) для моторной, тактильной и болевой функций в группах пациентов после хирургического вмешательства
Table 3. Mean Hirobayashi RR (%) values for motor, tactile, and pain function after surgical intervention
Группа | Моторная функция | Тактильная функция | Болевая функция |
Первая (n=18) | 85,2 | 95,6 | 96,1 |
Вторая (n=12) | 68,3 | 85,2 | 86,1 |
Третья (n=21) | 78,4 | 90,3 | 91,2 |
p | 0,012 | 0,045 | 0,038 |
Индивидуальные анатомические модели играют важную роль в планировании хирургического доступа, определении зон резекции и локализации точек установки транспедикулярных винтов. Их применение повышает точность предоперационного планирования, что особенно важно для определения объёма резекции костных структур позвоночника, необходимого для адекватной декомпрессии миелорадикулярных структур. Пространственная визуализация расположения нейрососудистых образований минимизирует риск их повреждения в процессе резекции и установки металлоконструкций, что способствует персонализации зоны декомпрессии. В результате достигается основная цель хирургического вмешательства — регресс неврологического дефицита с достижением положительного функционального исхода [21]. Использование 3D-моделей обеспечивает реалистичное анатомическое представление патологических участков, что способствует более точному пониманию сложных анатомических взаимоотношений, определению оптимальных траекторий установки винтов и объёма декомпрессии. Это особенно актуально при тяжёлых деформациях позвоночника, где стандартизированные подходы могут быть ограничены. Например, при деформациях шейно-грудного отдела позвоночника выполнение спондилодеза 360° часто требует индивидуального подхода. Если дорсальная стабилизация может быть выполнена с использованием стандартных имплантатов, то вентральная фиксация нередко сопряжена с техническими сложностями или невозможностью применения типовых пластин. В таких случаях изготовление индивидуальных имплантатов для вентральной стабилизации позволяет обеспечить надёжную фиксацию даже при сложных анатомических деформациях [1, 22].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Регресс неврологического дефицита у пациентов с деформациями позвоночника происходит в течение первого года после операции. Это обеспечивает способность пациентов к самообслуживанию в повседневной жизни и улучшение качества их жизни. Регресс неврологического дефицита не был выявлен только в группе A по Frankel. Стабилизация деформации и декомпрессия спинного мозга в зоне максимальной компрессии (на вершине деформации позвоночника) являются основными компонентами, обеспечивающими условия для восстановления неврологического статуса. Коррекция деформации, в частности кифотического компонента, оказывает влияние на регресс неврологического дефицита. У пациентов детского и молодого возраста неврологический дефицит развивается быстрее, но так же быстро наступает его регресс после операции. Изготовление индивидуальных моделей позвоночника и спинного мозга в 45% случаев и индивидуальных металлоконструкций у 16% пациентов подтверждает необходимость персонализированного подхода к хирургическому лечению в значительной части исследуемой когорты.
Таким образом, исследование подтверждает важность и эффективность хирургического вмешательства при деформации позвоночника, ассоциированной с неврологическим дефицитом, выделяя ключевые факторы, влияющие на успешность лечения и восстановления пациентов. Применение индивидуальных анатомических моделей и имплантатов способствует повышению точности хирургического планирования, минимизации рисков и улучшению функциональных результатов лечения.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Вклад авторов. Все авторы одобрили финальную версию перед публикацией, а также согласились нести ответственность за все аспекты работы, гарантируя надлежащее рассмотрение и решение вопросов, связанных с точностью и добросовестностью любой её части.
Источники финансирования. Отсутствуют.
Раскрытие интересов. Авторы заявляют об отсутствии отношений, деятельности и интересов (личных, профессиональных или финансовых), связанных с третьими лицами (коммерческими, некоммерческими, частными), интересы которых могут быть затронуты содержанием статьи, а также иных отношений, деятельности и интересов за последние три года, о которых необходимо сообщить.
Оригинальность. При создании настоящей работы авторы использовали ранее опубликованные сведения (https://doi.org/10.17816/vto629012).
Генеративный искусственный интеллект. При создании настоящей статьи технологии генеративного искусственного интеллекта не использовали.
Рассмотрение и рецензирование. Настоящая работа подана в журнал в инициативном порядке и рассмотрена по обычной процедуре. В рецензировании участвовали два внешних рецензента, член редакционной коллегии и научный редактор издания.
ADDITIONAL INFORMATION
Author contributions: All the authors approved the final version of the manuscript to be published and agreed to be accountable for all aspects of the work, ensuring that questions related to the accuracy or integrity of any part of the work are appropriately investigated and resolved.
Funding sources: No funding.
Disclosure of interests: The authors have no relationships, activities, or interests (personal, professional, or financial) related to for-profit, not-for-profit, or private third parties whose interests may be affected by the content of the article, as well as no other relationships, activities, or interests in the past three years to disclose.
Statement of originality: Previously published materials were used to prepare this article (https://doi.org/10.17816/vto629012).
Generative AI: No generative artificial intelligence technologies were used to prepare this article.
Provenance and peer-review: This paper was submitted unsolicited and reviewed following the standard procedure. The peer review process involved two external reviewers, a member of the editorial board, and the in-house scientific editor.
Об авторах
Александр Алексеевич Кулешов
Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова
Email: cito-spine@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-9526-8274
SPIN-код: 7052-0220
д-р мед. наук
Россия, 127299, Москва, ул. Приорова, д. 10Антон Герасимович Назаренко
Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова
Email: nazarenkoag@cito-priorov.ru
ORCID iD: 0000-0003-1314-2887
SPIN-код: 1402-5186
член-корреспондент РАН, д-р мед. наук, профессор РАН
Россия, 127299, Москва, ул. Приорова, д. 10Александр Ильич Крупаткин
Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова
Email: krup.61@mail.ru
ORCID iD: 0000-0001-5582-5200
SPIN-код: 3671-5540
д-р мед. наук, профессор
Россия, 127299, Москва, ул. Приорова, д. 10Игорь Михайлович Милица
Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова
Автор, ответственный за переписку.
Email: igor.milica@mail.ru
ORCID iD: 0009-0005-9832-316X
SPIN-код: 4015-8113
MD
Россия, 127299, Москва, ул. Приорова, д. 10Марчел Степанович Ветрилэ
Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова
Email: vetrilams@cito-priorov.ru
ORCID iD: 0000-0001-6689-5220
SPIN-код: 9690-5117
канд. мед. наук
Россия, 127299, Москва, ул. Приорова, д. 10Юлия Владимировна Струнина
Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко
Email: ustrunina@nsi.ru
ORCID iD: 0000-0001-5010-6661
SPIN-код: 9799-5066
MD
Россия, МоскваСергей Николаевич Макаров
Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова
Email: moscow.makarov@gmail.com
ORCID iD: 0000-0003-0406-1997
SPIN-код: 2767-2429
канд. мед. наук
Россия, 127299, Москва, ул. Приорова, д. 10Игорь Николаевич Лисянский
Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова
Email: lisigornik@list.ru
ORCID iD: 0000-0002-2479-4381
SPIN-код: 9845-1251
канд. мед. наук
Россия, 127299, Москва, ул. Приорова, д. 10Владислав Андреевич Шаров
Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова
Email: sharov.vlad397@gmail.com
ORCID iD: 0000-0002-0801-0639
SPIN-код: 8062-9216
канд. мед. наук
Россия, 127299, Москва, ул. Приорова, д. 10Список литературы
- Goel SA, Neshar AM, Chhabra HS. A rare case of surgically managed multiple congenital thoraco-lumbar and lumbar block vertebrae with kypho-scoliosis and adjacent segment disease with myelopathy in a young female. Journal of Clinical Orthopaedics and Trauma. 2020;11(2):291–294. doi: 10.1016/j.jcot.2019.04.017
- Matee S, Ayaz SB, Bashir U. Progressive thoracic kyphoscoliosis leading to paraplegia in a child with neurofibromatosis type-1. Journal of the College of Physicians and Surgeons Pakistan. 2021;31(1):98–100. doi: 10.29271/jcpsp.2021.01.98
- Ulrikh EV, Mushkin AYu, Gubin AV. Congenital spine deformities in children: epidemiological prognosis and management. Russian Journal of Spine Surgery. 2009;(2):055–061. doi: 10.14531/ss2009.2.55-61
- Novikov VV, Kolesov SV, Ryabykh SO, et al. Surgical management of neurologically complicated kyphoscoliosis using transposition of the spinal cord: Case report. International Journal of Surgery Case Reports. 2016;27:13–17. doi: 10.1016/j.ijscr.2016.07.037
- Sugimoto Y, Ito Y, Tomioka M, et al. Cervical cord injury in patients with ankylosed spines: Progressive paraplegia in two patients after posterior fusion without decompression. Spine. 2009;34(23):E861–E863. doi: 10.1097/BRS.0b013e3181bb89fc
- Lonstein JE, Akbarnia BA, Boachie-Adjei O, et al. Neurologic deficits secondary to spinal deformity: A review of the literature and report of 43 cases. Spine. 1980;5(4):331–355. doi: 10.1097/00007632-198007000-00007
- Song KS, Chang BS, Yeom JS, et al. Surgical treatment of severe angular kyphosis with myelopathy: Anterior and posterior approach with pedicle screw instrumentation. Spine. 2008;33(11):1229–1235. doi: 10.1097/BRS.0b013e31817152b3
- Shamji MF, Ames CP, Smith JS, et al. The association of cervical spine alignment with neurologic recovery in a prospective cohort of patients with surgical myelopathy: Analysis of a series of 124 cases. World Neurosurgery. 2016;86:112–119. doi: 10.1016/j.wneu.2015.09.044
- Khokhlova O.I. Rehabilitation potential of personality and functional independence of persons with traumatic spinal cord injury. Politravma. 2020;(3):100–107. doi: 10.24411/1819-1495-2020-10038 EDN: CLWSXA
- Maxwell AKE. Spinal cord traction producing an ascending, reversible, neurological deficit: Case report. Verhandlungen der Anatomischen Gesellschaft. 1967;115:49–69.
- Ransohoff J, Spencer F, Siew F, et al. Case reports and technical notes. Journal of Neurosurgery. 1969;31:459–461.
- Vetrile ST, Kuleshov AA. Surgical treatment of severe progressive forms of scoliosis: simultaneous intervention on the ventral and dorsal spine using instrumentation Cotrel-Dubousset. N.N. Priorov Journal of Traumatology and Orthopedics. 2000;7(3):14–20. (in Russ.).
- Kuleshov AA, Vetrile MS, Lisyansky IN, et al. Urgical treatment of a patient with congenital deformity of the spine, the thoracic and lumbar pedicle aplasia, and spinal compression syndrome. Russian Journal of Spine Surgery. 2016;13(3):41–48. doi: 10.14531/ss2016.3.41-48 EDN: WKYPBR
- Ailon T, Smith JS, Shaffrey CI, et al. Progressive spinal kyphosis in the aging population. Neurosurgery. 2015;77(Suppl 4):S164–S172. doi: 10.1227/NEU.0000000000000944
- Dommisse GF. The blood supply of the spinal cord: A critical vascular zone in surgery. The Journal of Bone and Joint Surgery. 1974;56(2):225–235.
- Kleinberg S, Kaplan A. Scoliosis complicated by paraplegia. The Journal of Bone and Joint Surgery. 1952;34-A(1):162–7.
- Masini M, Maranhão V. Experimental determination of the effect of progressive sharp-angle spinal deformity on the spinal cord. European Spine Journal. 1997;6(2):89–92. doi: 10.1007/BF01358738
- McMaster MJ, Singh H. Natural history of congenital kyphosis and kyphoscoliosis: A study of one hundred and twelve patients. The Journal of Bone and Joint Surgery. American Volume. 1999;81(10):1367–1383. doi: 10.2106/00004623-199910000-00002
- Saito M. Anterolateral decompression for thoracic myelopathy due to severe kyphosis using the costotransversectomy approach. Rinsho Seikei Geka. 1997;32:523–530.
- Shimode M, Kojima T, Sowa K. Spinal wedge osteotomy by a single posterior approach for correction of severe and rigid kyphosis or kyphoscoliosis. Spine. 2002;27(20):2260–2267. doi: 10.1097/00007632-200210150-00015
- Wilcox B, Smith JA, Brown MJ, et al. Systematic review of 3D printing in spinal surgery: The current state of play. Journal of Spine Surgery. 2017;3(3):433–443. doi: 10.21037/jss.2017.09.01
- Borzunov DYu, Shevtsov VI, Stogov MV, Ovchinnikov EN. Analysis of the experience of carbon nanostructured implants use in traumatology and orthopaedics. N.N. Priorov Journal of Traumatology and Orthopedics. 2016;(2):77–81. EDN: WGESGN
Дополнительные файлы