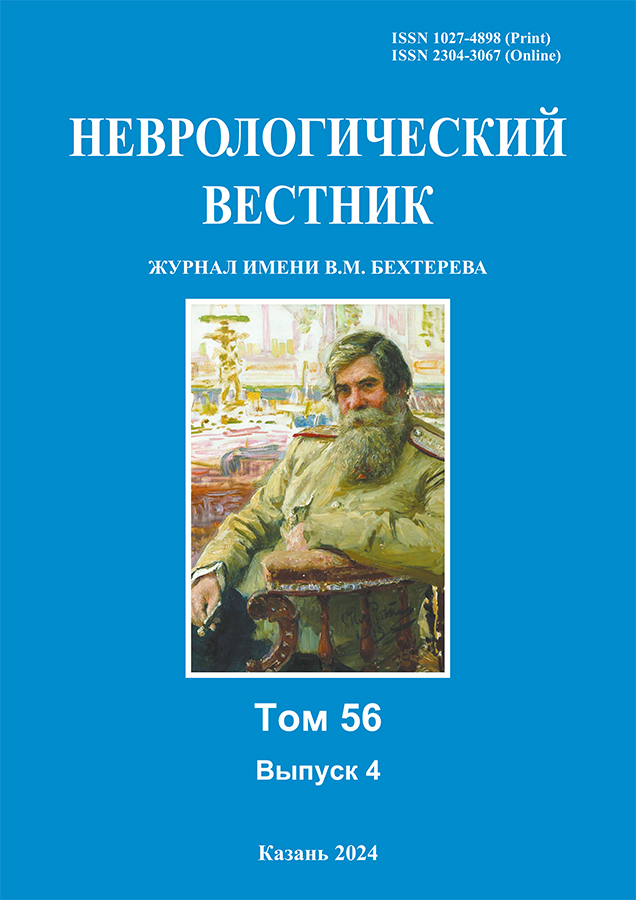Диффузная идентичность как психологический и психопатологический феномен. Случай небинарной религиозной персоны
- Авторы: Менделевич В.Д.1, Каток А.А.1, Митрофанов И.А.1
-
Учреждения:
- Казанский государственный медицинский университет
- Выпуск: Том LVI, № 4 (2024)
- Страницы: 341-354
- Раздел: Передовые статьи
- Статья получена: 02.11.2024
- Статья одобрена: 02.11.2024
- Статья опубликована: 19.12.2024
- URL: https://journals.eco-vector.com/1027-4898/article/view/640889
- DOI: https://doi.org/10.17816/nb640889
- ID: 640889
Цитировать
Аннотация
В статье проведён анализ проблемы психолого-психиатрической принадлежности феномена диффузной идентичности на примере клинического случая 17-летней Самихи — девушки с арабским именем, решившей сменить его на корейское унисексуальное имя Ха-Ныль. Пациентка считала себя небинарной персоной, но обратилась в психиатрический стационар не по поводу гендерной дисфории, а по причине наличия суицидальных мыслей/намерений и селфхарм-поведения. В статье проведена дифференциальная диагностика между феноменом диффузной идентичности, причисляемым к критериям диагностики пограничного расстройства личности, с аутопсихической и соматопсихической деперсонализацией. Сделан вывод о том, что феномен диффузной идентичности может представать не только в форме психологического феномена, но и психопатологического симптома. Это требует углублённого осмысления и нахождения места новому симптому в реестре психической патологии. Высказана идея о том, что для теории психопатологии на современном этапе развития важно отслеживать общественные постмодернистские изменения, именно благодаря им психиатрия обязана рождению нового раздела — неопсихопатологии.
Ключевые слова
Полный текст
Обоснование
Понятие нарушения идентичности практически не используется в психиатрии и не входит в число критериев диагностики психических и поведенческих расстройств. Исключение составляет недавно включённый в МКБ-11 диагноз «диссоциативное расстройство идентичности», ранее называвшийся «множественное расстройство личности», а также отдельные характеристики гендерной дисфории, исключённой из психиатрического раздела МКБ-11. Однако на современном этапе развития психиатрии появляются основания для признания нарушений идентичности не только психологическими феноменами, но и психопатологическими симптомами. В первую очередь это касается феномена диффузной идентичности (ДИ), под которым понимается неустойчивость и неопределённость самооценки, самовосприятия человеком самого себя, которые переживаются как недостаток аутентичности и цельности истории собственной жизни [1–12]. По мнению S. Akhtar [13], синдром диффузной идентичности включает в себя шесть клинических признаков: 1) противоречивые черты характера; 2) временная неоднородность личности; 3) отсутствие аутентичности; 4) чувство пустоты; 5) гендерная дисфория; 6) чрезмерный этнический и моральный релятивизм. Этот синдром чаще встречается в молодом возрасте, предполагает наличие тяжёлой патологии характера и отличается от подросткового кризиса идентичности. ДИ обычно создаёт существенные сложности адаптации человека в обществе и особенно остро проявляется в ситуациях неопределённости или свободы выбора.
В психиатрии для обозначения факта неприятия (отторжения) человеком собственных чувств, переживаний и ощущений, «утраты самости» традиционно используется термин «деперсонализация». В некоторых случаях противоречивость в самовосприятии называют амбивалентностью или амбитендентностью [14]. Синдром деперсонализации — это расстройство самосознания с чувством отчуждения некоторых или всех психических процессов (мыслей, представлений, воспоминаний, отношений к окружающему миру), часто осознаваемое и болезненно переживаемое самим пациентом. Аутопсихический вариант деперсонализации отражает близкое к понятию нарушения идентичности искажённое восприятие своего «я» в рамках аффективных, диссоциативных и бредовых расстройств [15–19]. Таким образом, значимым с теоретической и практической точек зрения следует признать обнаружение чётких дифференциально диагностических критериев нарушений идентичности, с одной стороны, и аутопсихической деперсонализации — с другой. Немаловажным является вопрос о том, следует ли относить диффузную идентичность к психологическим или психопатологическим феноменам.
Приведённый ниже клинический случай 17-летней пациентки Самихи1, решившей сменить имя на Ха-Ныль2 и обратившейся в психиатрический стационар после периода тягостных суицидальных мыслей/намерений и селфхарм-поведения, можно считать показательным в плане психопатологического анализа феномена диффузной идентичности (гендерной небинарности и нарушения религиозной идентичности).
Клинический случай пациентки Самихи (Ха-Ныль), 17 лет
Анамнез жизни со слов пациентки и её отца
Наследственность психическими заболеваниями отягощена, отец обращался за помощью к психиатрам в связи с депрессией, принимает антидепрессанты. Родилась в одной из мусульманских стран Ближнего Востока первой из троих детей (брат младше на два года, сестра — на пять лет). Матери на момент рождения Самихи было 20 лет, отцу 21 год. О течении беременности, родах и раннем развитии данных не имеется. Со слов пациентки, она была активным и общительным ребенком, часто ударялась головой, «люди боялись, что начну по стенкам бегать». Детские дошкольные учреждения посещала, говорила на русском языке с детьми и на арабском с воспитателями, сложностей адаптации не испытывала. В начальной школе первые два класса училась на дому у русского учителя. Через год перешла в американскую школу, где проучилась два года. Выбор школы был связан с желанием отца, чтобы дочь знала несколько языков. Отношения со сверстниками были хорошими, но дружила лишь с одной девочкой. Родители занимались семейным бизнесом — пошивкой одежды по законам шариата, мама была дизайнером, папа организатором. Семья считалась религиозной, соблюдались все традиции ислама, включая ношение традиционной мусульманской одежды. Отец, помимо бизнеса, углубленно изучал религиозные тексты. По характеру он был вспыльчивым, бескомпромиссным, требовательным, особенно, когда дело касалось выполнения домашних обязанностей. Считал, что женская роль (матери, дочери) в семье второстепенная, подчинённая, требовал неукоснительного выполнения всех женских обязанностей, в частности, в обслуживании главы семьи. Ввёл тотальный контроль за поведением окружающих, запрещал близким проявлять какие бы то ни было эмоциональные реакции в его присутствии: нельзя плакать, возражать, спорить. Со слов Самихи, «он не умел и не умеет контролировать свои негативные эмоции, вспыльчив, выплёскивает на окружающих гнев и недовольство», особенно когда у него плохое настроение. Мог поднять руку на жену и дочь, утверждая, что «женщина ничего не должна говорить перед мужчиной, он даже может её ударить». Мама по характеру была мечтательной, романтичной, подчиняемой. Брат — закрытый, людей не любит («человеческие лица вызывают отвращение»), склонен злиться на людей, копить обиды. Как-то спросил у Самихи, «могла бы она кого-нибудь пырнуть ножом в печень». По мнению Самихи, если брат когда-нибудь возьмёт в руки ружье, то первой застрелит её. Отношения с ним «холодные, он проходит через подростковый возраст, не очень человечный». Младшая сестра по характеру жизнерадостная, улыбчивая, дружелюбная, легко находит контакт с другими людьми. С сестрой отношения гораздо лучше, «она берёт с меня пример, я ей нравлюсь, она считает меня интересной, мотивирующей». Между родителями отношения всегда были сложными — часто ссорились, громко ругались. «Было страшно, что произойдёт что-то трагическое». Родители часто упоминали о необходимости развода. В день смерти мамы также был скандал, отец в гневе сломал стул. Мама умерла от сердечного приступа, когда Самихе было 11 лет, что девочка связывает с длительным стрессом, в котором находилась мать из-за отношений в семье. После смерти мамы воспитанием детей и ведением хозяйства занималась бабушка (по линии отца). Папа пытался строить новые семейные отношения, первая мачеха прожила с ними всего две недели, вторая — два года («сильно травмировала психику и не только мою, она была очень нарциссическим человеком, втёрлась в доверие к детям, считала, что я ей должна быть благодарна…, сильно давила, ревновала к отцу, любые действия окружающих критиковала, подозревала во всём плохом»). Несмотря на это, из-за давления со стороны отца не смогла ужиться с ним и «ради своего блага ушла от отца».
После окончания второго класса школы в возрасте одиннадцати лет Самиха с семьёй переехала в Россию. Сразу поступила в пятый класс. Проучилась там менее одной четверти, по причине буллинга со стороны одноклассников была переведена на домашнее обучение («мальчики в школе задирали, всё им во мне казалось странным, смеялись и издевались… папа говорил, что каждый день со школы я приходила заплаканной»). В шестом классе переехали с семьей из города в деревню, в частный дом, отец хотел уберечь дочь от дурного влияния и сделать её жизнь более безопасной. С тех пор начала учиться в онлайн-школе, вплоть до 9-го класса. За период обучения из школьных предметов нравились английский язык и русский язык. Подруг и друзей за время обучения не было, преимущественно общалась онлайн. Отец два года подряд пропускал сроки подачи документов на сдачу ОГЭ, вследствие чего почти полтора года вообще не училась. Позднее начала учиться самостоятельно и параллельно занималась изучением корейского языка («хотела освоить язык, который не понимает отец»). В середине 10-го класса началась депрессия, ОГЭ сдала лишь с третьего раза. Затем поступила в педагогический колледж, в котором до настоящего времени учится. Стала проживать отдельно от отца и семьи — в общежитии. Отношения с соседками по комнате не сложились («они меня боятся, не сразу озвучивают претензии, пытаются застать врасплох, как будто я их укушу»). В студенческой группе отношения обычные, конфликтов нет.
С младшего детского возраста в соответствии с традициями семьи и религиозными правилами готовила себя к ношению головного платка (хиджаба, никаба3). Считала это неотъемлемой и обязательной частью ислама, доказательством настоящей веры. Надела его по своей воле, гордясь, что выполняет каноны ислама. Никогда по этому поводу не переживала и не комплексовала. Однако впоследствии стала относиться ношению хиджаба по-другому.
Половое развитие
В девятилетнем возрасте обнаружился первый романтический интерес к женщине — в гости приехала дальняя родственница, которая показалась настолько красивой, что Самихе «захотелось стать принцем, поцеловать и забрать её». С 12–14 лет некоторые девочки казались симпатичными, влекло к ним («мечтали с подругой, что выйдем замуж за близнецов, будем жить в одном доме, мужчины там будут для соблюдения условностей»). В 16–17 лет ощутила сексуальную тягу к девочке. Мужчины никогда не нравились, фантазии на тему отношений с ними оставляли ощущение неестественности. С этого возраста осознала, что не может отнести себя ни к женщинам, ни к мужчинам (« я триксик, когда нравятся только женщины»). Изучила этот вопрос в интернете и пришла к выводу, что она небинарная личность. «Мне неинтересно и неприятно быть с мужчиной, они меня вообще не привлекают, впервые на это обратила внимание в 16 лет. Вот девочки, когда слушают корейские группы, они хотят быть с певцами-идолами, а я нет». Утверждает, что «не получается воспринимать себя лесбиянкой — я как будто бы не на месте. Если с мужчиной быть, могу представить только феминного мужчину». Запланировала уменьшение молочных желез или их удаление, но допускала, что может передумать. «Полностью мужчиной я всё равно не стану, я не могу бороться, чтобы меня воспринимали как мужчину, я могу лишь воспринимать себя в более мужском свете, но не могу других заставить себя так воспринимать. В компьютерных играх представляюсь мужчиной». Сообщила, что решила изменить своё арабское женское имя на корейское Ха-Ныль, которое может быть как женским, так и мужским. Утверждала, что ей не нравится своё настоящее имя: « Я не чувствую себя человеком, которого зовут Самиха, кроме того, хочу убрать отчество». Менархе в 12 лет, менструации нерегулярные, аменорея до восьми месяцев в году. Половой жизнью не жила, мастурбация с 10–11 лет, оргазм испытывала.
Анамнез болезни
Считает, что психологические проблемы начались в 11-летнем возрасте, когда после смерти матери возникло «шоковое состояние», поскольку оказалась свидетелем ухода мамы из жизни. В момент смерти матери от инфаркта миокарда находилась в соседней комнате, вынуждена была помогать отцу проводить реанимационные мероприятия. При этом «ощущала, как тело матери выдыхает, слышала звук её голоса». С того времени как будто «выпала из реальности» — окружающие вещи перестали казаться настоящими, воспринимала себя как в видеоигре, а не в реальности: « я была не настоящим человеком, меня в этот период не существовало, воспринимала себя как нечто неполноценное, недочеловек, не могла понять собственную сущность, телом управляла не напрямую, в зеркало смотрела и не чувствовала, что это я, в зеркале на моё тело смотрело моё отражение, одно время даже не понимала, что мне нравится, а что нет, чего я хочу, а чего нет — просто существовала, не было никаких личных интересов, не верила и не верю до сих пор, что мама умерла…».
Отец после смерти матери стал ещё более раздражительным, упрекал Самиху в бесчувствии, она поняла, что должна «засунуть свои эмоции куда подальше и помогать справиться с ситуацией, а не заниматься своими проблемами, не должна иметь права на личное пространство». Отец ожидал, что Самиха вместо матери будет помогать ему в бизнесе. Иногда он вёл себя как маленький ребенок: требовал от дочери, чтобы она его эмоционально поддерживала и даже «гладила по спине, делала массаж головы». Самиха категорически отказывалась прикасаться к нему, из-за чего отец ещё больше злился и раздражался. Временами у неё неожиданно возвращалась прежняя энергия, пыталась переделать множество дел, получалось быть продуктивной. Такие периоды длились по 2–3 дня, но затем всё вновь становилось тусклым, пропадали желания. Называла такое состояние выгоранием. Позднее «просветы» прекратились.
В 15-летнем возрасте впервые отметила у себя признаки «серьёзной депрессии» — не стало сил вставать с кровати, разговаривать с людьми, снизилось настроение, не хотелось ничего делать, изолировалась от всех и физически, и морально, набрала вес (10 кг), «не было сил плакать, тем более дома отношение к слезам оставалось плохим, по-прежнему категорически запрещалось проявлять эмоции, поскольку это воспринималось как манипуляция». Отец заметил симптомы депрессии у Самихи и направил её к психиатру. Был назначен сертралин до 200 мг/сут, который принимала в течение двух лет. Существенного эффекта от лечения не ощущала: «лекарство сдерживало эмоции, но настроение не возвращалось к норме, не могла плакать, но лекарство сдерживало экстремальность». Во время приёма сертралина и отсутствия улучшения стала думать о самоубийстве, хотела перерезать себе вены и умереть. Продумывала технологию самоубийства: «расстелю целлофан в бане, это место, где можно уединиться и где можно убрать после меня, рядом положу полотенце, чтобы потом могли вытереть кровь, поставлю тазик. Жалко себя не было». Суицидальные мысли часто появлялись в виде образов: представляла, как убивает себя разными способами, например, расплющивает голову или что-то ещё необычное, «так проявляла креативность». Впоследствии по рекомендации психиатра стала принимать венлафаксин до 300 мг, аминофенилмасляную кислоту 500 мг, тразодон 100 мг в сутки без существенного улучшения. Параллельно с мыслями о самоубийстве появилось желание наносить себе порезы — лезвием резала бедро, это помогало справиться со слишком большим количеством мыслей в голове. Считала, что частично делала это назло отцу: «он этого не видел, я втихаря так проявляла протест, вслух протестовать было нельзя». От самопорезов на душе становилось спокойнее. Однажды отец «психанул», грубо схватил её за волосы, дал подзатыльник. В другой раз был крайне раздражён тем, что дочь создала новый телеграмм-канал, чего он категорически не поощрял. Вернулись воспоминания и обида за то, что он когда-то забирал у Самихи телефон на несколько месяцев. В тот же период староста группы случайно увидел порезы на руке у Самихи и настоял на обращении к психиатру, который и направил девочку на стационарное обследование и лечение.
Психический статус при поступлении в больницу
В приёмном покое была в хиджабе, но сразу при обсуждении этой темы выразила желание снять платок и посмотреть, «вдруг я этого не хотела, и это было не моё желание». Сообщила, что раньше таким образом хотелось закрыться от всех, поскольку посторонние взгляды были неприятны. Говорила, что ей казалось, что на неё все смотрят. Утверждала, что это приводило к ощущению, что окружающие нарушали её личное пространство. Иногда противоречила сама себе, сообщая, что, возможно, «сама создавала иллюзию этого пространства». При более подробном расспросе на эту тему вспоминала, что в детском возрасте ждала, когда можно будет надеть платок, впоследствии сделала это исключительно по своей воле и с радостью.
В приёмном покое была одета в одежду спортивного типа, нижнее белье мужское, использовала утягиватель груди. «Женское белье неудобное, там рюшечки, тяжелее найти большие размеры. Мне нравится брать одинаковые вещи, чтобы не морочить себе голову, мужскую одежду по моему вкусу искать легче, носить её комфортнее». Отмечала, что не хочет выглядеть женственно назло отцу: «папа жуткий мизогин, он ненавидит женщин, он использовал женские признаки против меня, теперь мне не нравится выглядеть женственной. Кроме того, чем женственнее ты выглядишь, тем больше внимания от мужчин можешь получить, а это неприятно. Когда я пытаюсь вести себя по-женски, то просто изображаю того, кем я не являюсь, мне неприятно быть женщиной, но я не считаю, что это противно». Говорила, что ощущает телесную дисфорию: «красоту могу признать, но мне не хочется даже обнять мужчин, дружить — да, без какого-либо подтекста, осторожность к мужчинам присутствует, а девочки безопасные, мне мужчины никогда не нравились и не нравятся». В отделении практически сразу сняла платок (хиджаб), поскольку поймала на себе неодобрительные и непонятные взгляды окружающих.
Волосы окрашены, «один раз обесцветила летом, хотела покрасить в розовый цвет, но струсила, а ещё хотела покрасить себя в зелёный», но « я поступила в педагогический техникум, планируя снять платок, поскольку это выглядело бы непрофессионально». Говорила, что декоративной косметикой не пользуется, стрижётся редко, так как каждый раз нужно уговаривать папу на поездку к парикмахеру. На приёме сидела на стуле скрестив ноги, перебирала пальцами рук, трогала бумагу на столе, ощипывала носки от катышков. Просила дать ей карандаш, чтобы вертеть его в руках («мне нравится, меня это успокаивает»). Зрительный контакт в беседе поддерживала мало, осматривалась по сторонам. Говорила обычным голосом. После просьбы врача показала рубцы на бедре и предплечье, сообщив, что «шрамы символизируют борьбу за выживание, я ими дорожу, когда резалась то хотела иметь шрамы, удовлетворена, что прошла через такое, не виню себя в этом и не злюсь, что случилось, то случилось».
Была правильно ориентирована в месте, времени и собственной личности. Внимание привлекалось и удерживалось недостаточно, легко отвлекалась. Темп речи был обычным. Многословна, откровенна, словарный запас обширный. Откровенно отвечала на вопросы врача, не испытывала смущения и недовольства при обсуждении интимных тем. Начитанна, уместно использовала психологические понятия и термины. Дотошно анализировала собственные переживания и делилась ими. Особенно охотно рассказывала о сложных взаимоотношениях с отцом, отслеживала, каким образом из них вытекают её переживания и ощущения: «когда просишь деньги или какое-то разрешение, которое папа должен мне преподнести, чувствую загнанной, появляются флэшбеки, как я дома, я в ловушке, я в западне, как меня поймали, не могу выбраться и проживу до конца своих дней дома, я вижу, как меня снова бросили, у меня снова нет будущего, застряла дома, нет связи с внешним миром, нет возможности свободного передвижения, осуществить своё желание». Настроение снижено, но внешних проявлений тревоги не выявлялось, за исключением стереотипных движений руками и ногами. «Чувствую так, что никого нет. Всегда ощущаю внутреннюю пустоту — как будто её ничем не заполнить, что-то бездонное, дно есть, но оно слишком глубоко, его не заполнить, можно что-то поставить, но не убрать пустоту». « Я базово готова, что любой человек может меня оставить в любой момент, очень бы хотела привязаться, не готова быть настолько уязвимой, не могу себе этого позволить». Суицидальные мысли «иногда проскакивают, а может, ну его…». Аппетит «здорово упал, когда переехала от отца, ранее хотелось еды и много, а сейчас более расслабленна, нет аппетита, чтобы поесть» (вес уменьшился на 1,5 кг за месяц). Мышление в обычном темпе, последовательное. Галлюцинаторно-бредовой симптоматики не выявлялось. В отделении ела мало, так как пища была «не халяль, мне неприятно от мысли, что я буду есть мертвечину». Сообщила, что сон поверхностный, утром просыпалась неотдохнувшая, удовлетворения от сна не было.
Первые дни в отделении спала плохо, долго засыпала, говорила, что мешают «плохие мысли, уродливые какие-то картинки, ощущение грязности». Сообщила, что увидела картинки с закрытыми глазами: как будто разрезают её туловище «как мертвеца, и руки тоже вдоль, и сороконожки, и черви, которые съедают мертвую тушу». Повторяла, что склонна мыслить образами, картинками. Временами описывала появление флэшбеков, когда чувствовала, что теряла контроль над собой, ощущала себя запертой, казалось, что всю жизнь так и проведёт.
Поведение в отделении на фоне терапии (флувоксамин + психотерапия)
Отмечала, что за период госпитализации стала ощущать себя спокойнее, « я себе сказала, что какие-то наружные проблемы вне стен больницы пока изменить не могу, нужно расслабиться и сосредоточиться». «Вопреки многолетней изоляции, людей не боюсь, не шарахаюсь, всё ещё есть интерес к ним, любопытство, хочется, чтобы людям было хорошо… Вчера, как телефон дали позвонить, я вспомнила реальный мир, и мне стало грустно, что не могу там оказаться, но сама себе сказала: давай представим, что всё это не по-настоящему, и тогда успокоилась». За время нахождения в стационаре (один месяц) существенно улучшилось настроение, исчезли суицидальные мысли и желание наносить себе самопорезы, появилось желание изменить свою жизнь.
Заключение психолога
Поддерживает визуальный контакт, эмоционально откликаема, в общении заинтересована, охотно вступает в беседу, на вопросы отвечает по существу заданного, негромко. Из сведений о себе сообщает: «учусь в педагогическом колледже, буду учителем младших классов… нравится с детьми… участвовать в их развитии». Себя характеризует, как рассеянную, высказывает недовольство своей внешностью («хочу грудь уменьшить максимально... дисфория у меня гендерная..., но пол менять не хочу… я небинарная личность»), а также именем, фамилией, напряжёнными отношениями с отцом («хочу изменить имя, чтоб меня называли по-корейски, а потом изменить фамилию, а то папа всё время боится, что я его опозорю»). Сообщает, что любит корейскую музыку, учит корейский язык, чтобы была область, в которой папа не сможет её понимать и контролировать. С благодарностью отзывается о психиатре, которая «спасла [ей] жизнь, ведь я готовилась к самоубийству, но не хотела ей говорить об этом, подумала, если спросит, скажу, она спросила и в больницу отправила». На фоне лечения отмечает улучшение состояния: «Сейчас депрессии нет, прошла».
В эксперименте инструкции усваивает и удерживает, иногда требуется корректирующая помощь. На критику реагирует спокойно. Темп выполнения нормативный. При исследовании сенсомоторных проб внимание неустойчивое, истощается по гиперстеническому типу (по таблицам Шульте: 47”–33”–1’00”–50”–53”). Мнестические возможности сохранны: срочное запоминание из 10 слов: 6, 8, 10, отсроченное – 9, продуктивность опосредованного — 100%. В пиктограммах опосредует понятия адекватными стандартными образами, чаще конкретного, единично атрибутивного содержания. Рисунки развёрнутые, сценоподобные, излишне детализированные, с признаками ригидности в графических характеристиках. Вербальные ассоциации адекватные, высшего порядка. При исследовании мыслительной деятельности выявляется категориальный уровень обобщения, логическое оперирование (вербальные аналогии). При сравнении понятий опирается на существенные свойства, в единичных случаях актуализирует корригируемые поверхностные признаки (« у обмана и ошибки первая буква О»). Качественно устанавливает причинно-следственные связи по серии простых и умеренно сложных сюжетных последовательностей, понимает юмор, составляет подробный рассказ. Улавливает условные смыслы известных ей пословиц и рассказа средней сложности. Данные самооценочных и проективных методик: акцентуированные черты спонтанности, непринуждённости в выставлении напоказ характерологических особенностей, эмоциональной незрелости, лабильности, ригидность позиции, скрываемая обидчивость и раздражительность (гиперкомпенсаторные установки) при повышенной сензитивности, зависимости, недостаточном самоконтроле, снижении уровня жизнелюбия, фрустрированной аффилиативной потребности, актуальной невыраженности тревожно-депрессивных проявлений. В методике «Рисунок человека» признаки пола недифференцированы, проективно отмечаются трудности в контактах, черты зависимости, отсутствие опоры. По данным самооценочного тестирования: отсутствие актуальной тревоги и депрессии (HADS: 4 и 1 балла соответственно). Заключение: выявляется неустойчивость и истощаемость внимания по гиперстеническому типу при достаточных интеллектуально-мнестических возможностях у личности с акцентуированными чертами импульсивности, гиперкомпенсаторными ригидными установками, эмоциональной лабильностью, незрелостью при повышенной сензитивности, недостаточном самоконтроле, снижении уровня жизнелюбия, актуальности аффилиативной потребности.
Заключения других врачей
Заключение гинеколога: вирго, гинекологически здорова. Заключение невролога: вегетососудистая дистония с головными болями напряжения.
Электроэнцефалографическое исследование
Биоэлектрическая активность головного мозга в пределах вариабельности возрастной нормы. Ориентировочная реакция на афферентные раздражители достаточная. Очаговой медленноволновой активности и значимой межполушарной асимметрии не выявлено. Эпилептиформной активности за время проведения записи не зарегистрировано.
Психический статус
При выписке из стационара была представлена на клиническую конференцию.
Вошла в аудиторию уверенным шагом, без малейшего смущения перед большим числом врачей. Улыбчива, добродушна, расположена к собеседнику и проведению клинического разбора. Понимает, для какой цели проводится разбор, уместно смеётся шуткам. Фон настроения ровный, эмоционально синтонна. Однако при обсуждении субъективно значимых тем на глаза наворачиваются слезы и дрожит голос. Без стеснения была готова обсудить интимные вопросы — как отношения в семье, так и вопросы гендерной идентичности и религиозности. Склонна к философствованию, использовала в речи сложные обороты, научные термины, но при этом не выглядела заумной. Сообщила, что интересуется психологией и, возможно, по окончании колледжа сменит профессию. Планирует не только сменить профессию, но и уехать на постоянное место жительства в другую страну. На вопрос о том, почему в качестве такой страны выбрана Австралия, уточнила, что это самое безопасное, с её точки зрения, место на планете: «везде идут войны, обстановка напряжённая, а там всё спокойно». Тему безопасности поднимала во время беседы неоднократно, упирая на то, что с детства подвергалась психологическому насилию со стороны отца, из-за которого умерла её мать. О своей особой идентичности говорила с интересом, пытаясь объяснить аудитории суть проблемы и свою позицию. Описала, чем отличается гомосексуальная ориентация от небинарной идентичности. На своём примере рассказала, что прошла путь от анализа собственных особенностей как лесбийских до признания себя небинарной персоной. Понимает и разъясняет аудитории, чем небинарность отличается от трансгендерности. Собственное желание уменьшить грудь и приобрести более маскулинные черты не считает признаками транссексуализма, поскольку убеждена в том, что не стремится стать мужчиной. Именно поэтому выбрала себе новое унисекс-имя, которое в Корее носят как мужчины, так и женщины. Просила обращаться к ней по новому мужскому имени, но в женском роде. Обрадовалась, когда профессор поддержал эту просьбу. Склонна к рассуждениям об ошибочности бинарного подхода при оценке гендерной принадлежности. Считает, что на свете существует множество гендеров, а мужской и женский находятся на разных полюсах одного и того же спектра.
Себя оценивает как активную, жизнерадостную, креативную персону с богатым воображением. Выделяет также такую особенность своей личности, как эмпатичность. Рассказала, что обладает способностью тонко понимать эмоции и состояние собеседников, например, в отделении переживала за других пациентов, старалась им помочь. С едва скрываемым волнением сообщила о том, что крайне болезненно относится к утратам и предательству — очень страдала раньше, когда кто-то из близких людей уходил из её жизни. Чтобы как-то компенсировать эту свою особенность, выработала позицию, в соответствии с которой никому изначально не доверяет и, начиная общение, уже готова расстаться с человеком без сожаления. Отметила, что сейчас в её окружении есть только один человек, которого она страшится потерять по-настоящему — это подруга, с которой она знакома исключительно по интернет-переписке и никогда лично не виделась. Она дорога ей тем, что разделяет её ценности и мировоззрение. При этом она не является ни небинарной, ни принадлежащей к ЛГБТ-сообществу.
Самиха искренне благодарна психиатрам за то, что за время лечения её избавили от депрессии, суицидальных мыслей и эмоционального дискомфорта. На вопрос о том, чем бы еще психиатры могли ей помочь, ответила, что со всеми иными проблемами она справится самостоятельно. В частности, она не считает, что психиатры смогут как-то помочь решить проблему гендерной дисфории. Убеждена, что способна сделать это самостоятельно, поменяв имя и имидж. На клиническом разборе выглядела маскулинно: на ней были широкие черные брюки, оверсайз пиджак тёмного цвета и грубые ботинки. На тему религиозности и соблюдения традиций ислама говорила свободно, искренне пытаясь объяснить собственную позицию. Признала, что, несмотря на то что в отделении впервые в жизни отказалась от ношения хиджаба, это не означает, что она отказалась от своей веры. Называет себя религиозной и не видит противоречия в том, что перестала соблюдать некоторые канонические принципы поведения. При этом не уверена, что так будет в дальнейшем. Допускает, что может когда-нибудь вернуться к ношению хиджаба. В беседе никаких признаков патологии мышления или восприятия не обнаружилось. Интеллект высокий, память и внимание без отклонений.
Обсуждение
Представленный клинический случай поставил перед психиатрами несколько проблемных вопросов:
- Как можно охарактеризовать личностную позицию пациентки в отношении собственной небинарной гендерной идентичности, флюктуирующих представлений о собственной религиозности и профессиональной неопределенности?
- Носят ли перечисленные феномены психопатологический или психологический характер?
- Соответствуют ли выявленные феномены/симптомы какому-либо диагнозу психического или поведенческого расстройства?
- Можно ли признать, что у пациентки обнаруживается диффузная идентичность или речь может идти об аутопсихической деперсонализации?
- Могут ли два этих феномена/симптома сочетаться?
- Может ли в дальнейшем диффузная идентичность у пациентки купироваться, как обычно при взрослении купируются «чувство пустоты» или селфхарм?
В круг диагностически сложных мы намеренно не включили очевидный диагноз депрессивного эпизода (или дистимии), наблюдавшийся у Самихи после смерти матери, который отвечал всем диагностическим критериям данного психического расстройства.
Как уже упоминалось, диффузная идентичность должна быть дифференцирована от деперсонализации и от амбивалентности. Сходными качествами перечисленных феноменов являются нарушения самовосприятия, самопринятия, отчуждения, различиями – их устойчивость или склонность к флуктуациям, а также разный уровень критичности. В этом ряду амбивалентность занимает отличное от других положение — при ней отсутствует критичность, переживания носят деструктивный характер, а мышление и поведение дезадаптированы. При деперсонализации происходит формирование субъективно эмоционально значимого, осознаваемого как тягостное переживание «утраты самости», прежней целостности и цельности. В отличие от этого диффузная идентичность обычно не воспринимается человеком ни как утрата, ни как обретение чего-то нового, несмотря на противоречивость осознавания собственных изменений и неопределенности.
В случае Самихи можно отметить как наличие перманентной и разноформной диффузной идентичности, так и эпизод деперсонализации, носивший непродолжительный характер и связанный с острой психотравмой. После неожиданной смерти матери Самиха «выпала из реальности — окружающие вещи перестали казаться настоящими, воспринимала себя как в видеоигре, а не в реальности… считала, что её как бы и не существовало, воспринимала себя как нечто неполноценное, не могла понять собственную сущность, управляла телом не напрямую, воспринимала своей образ как отражение, не понимала, что ей нравится, а что нет, чего хочет, а чего нет». Перечисленные переживания укладывались в понятие аутопсихической деперсонализации, носившей диссоциативный характер. В дальнейшем подобное состояние не повторялось, но Самиха периодически отмечала появление чувства внутренней пустоты: «как будто её ничем не заполнить, что-то бездонное, или вроде бы дно есть, но оно слишком глубоко, можно что-то поставить внутрь, но невозможно убрать пустоту». Это переживание привело пациентку к необходимости нанесения себе самоповреждений (селфхарма). Феномен душевной пустоты считается отражением процессов деперсонализации и диссоциации [20].
Признание же пациенткой себя небинарной персоной выбивается из круга деперсонализационных. С нашей точки зрения, правомерно утверждать, что у Самихи выявляется феномен диффузной идентичности, охватывающий по крайней мере две сферы её жизни — гендерную и религиозную идентичность. В соответствии с МКБ-11 и DSM-5 данный феномен входит в круг критериев диагностики пограничного расстройства личности (ПРЛ), наряду с обнаруживавшимися у пациентки хроническим чувством пустоты, селфхармом, импульсивностью, эмоциональной нестабильностью, страхом отвержения. Небинарная идентичность у Самихи в рамках ПРЛ отличалась от традиционных её проявлений вне ПРЛ. В частности, у нашей пациентки отсутствовали признаки гендерной флюидности (индифферентности), то есть плавающей, изменчивой с течением времени идентичности. Несмотря на то что она утверждала, что является « не мужчиной и не женщиной», она всё же ориентировалась на маскулинный тип как на идеал, то есть фактически определяла для себя приоритетный гендер. По этой причине она нацелилась на изменение женского имени на мужское и планировала изменить внешность (уменьшить или удалить молочные железы). Обычная небинарность характеризуется гендерной определённостью не на словах, а на деле, но презентует себя стремлением избегать употребления в отношении себя каких бы то ни было гендерно альтернативных местоимений (он, она). В случае с Самихой этот аспект отсутствовал — она просила называть себя унисексуальным корейским именем, но в женском роде, что отражало её гендерную неопределённость.
Другим проявлением диффузной идентичности пациентки следует признать неопределённость в отношении религиозности. Многие годы она существовала в желанной для неё мусульманской идентичности, строго соблюдала мусульманские нормы поведения и одежды, добровольно надела и использовала хиджаб и никаб, но с определённого времени решила снять традиционный головной убор. При этом она продолжала утверждать, что остаётся, как и прежде, религиозной, не исключая, что в будущем может вернуться к следованию традициям, принятым в исламе. Отказ от ношения хиджаба относится в исламе к числу редких поступков (если не считать его вариантом социального протеста). Можно было бы предположить, что этот акт Самиха осуществила в знак протеста против тирании отца, но, по словам самой пациентки, она с детских лет мечтала о том, что будет причастна к исламской традиции и носила хиджаб «по велению сердца».
Понятие диффузной идентичности обычно описывает психологические (личностные) особенности человека, а не психопатологию. Однако появление данного понятия в диагностических критериях одного из личностных расстройств (ПРЛ) поставило вопрос о неправомерности однозначного причисления ДИ исключительно к психологическим феноменам. Можно утверждать, что в ряде клинических случаев ДИ может представать в виде психопатологического симптома. Феномен ДИ, наряду с феноменом пустоты, относится к новым для психиатрии конструктам, что, вероятнее всего, обусловлено влиянием социальных факторов, нарушением адаптации людей к условиям постмодернизма, характеризующегося невозможностью установления эмоционального созвучия и утратой самости [20].
По мнению ряда авторов [21–31], диффузная идентичность может наблюдаться не только при ПРЛ, но и при расстройствах пищевого поведения, депрессивных, тревожных расстройствах, шизофрении и других психозах, при расстройствах аутистического спектра, а также у лиц, злоупотребляющих психоактивными веществами. С позиции классической психопатологии данный синдром всё же не следует называть ДИ, он в большей степени отражает соматопсихическую и аутопсихическую деперсонализацию, обусловленную аффективными, бредовыми или иными психопатологическими мотивами. Исключение в этом ряду составляют лишь нарушения самосознания при злоупотреблении психоактивными веществами, поскольку у аддиктивных личностей может обнаруживаться диссоциация между идентичностью абстинента и идентичностью зависимого [32–35].
Следует признать, что в рамках расстройства множественной личности (диссоциативного расстройства идентичности) феномена ДИ фактически не обнаруживается, поскольку пациент не смешивает две или более существующих в его воображении личности. Также ДИ отсутствует в рамках классической небинарной идентичности — ведь ДИ должна характеризоваться неопределённостью, а в рамках небинарной идентичности человек, очевидно, определился, что он и женщина, и мужчина одновременно и что ему есть чёткое место в спектре идентичности [36, 37]. У пациентки Самихи присутствовала не классическая небинарность, а именно ДИ — она утверждала, что она не женщина и не мужчина, исключала для себя обращение к ней как к «they» («оно», «что-то среднее»). То есть фактически в собственной гендерной позиции она оставалась в положении неопределённости. Сходная тенденция обнаруживалась у неё и по вопросу религиозной идентичности.
Отдельной темой становится тема обратимости или необратимости ДИ в рамках ПРЛ. Доказано, что большинство симптомов ПРЛ обнаруживается исключительно у подростков или молодых людей, а с возрастом симптомы чувства пустоты, селфхарма исчезают (нередко без какой бы то ни было терапии) [20]. В отличие от этого, при классической небинарной идентичности с возрастом тема идентичности сохраняется актуальной [38–40].
Заключение
Анализ проблемы психолого-психиатрической принадлежности феномена ДИ на примере клинического случая 17-летней Самихи позволяет констатировать, что, наряду с некоторыми иными психопатологическими симптомами (например, феноменом душевной пустоты), появившимися в поле зрения психиатров в последние годы и отражающими суть постмодернистских трансформаций, ДИ как симптом требует углублённого осмысления и нахождения места в реестре психической патологии. Можно согласиться с мнением В.А. Емелина [41] о том, что «имплицитная неспособность создавать устойчивые модели идентификации, размытие идентичности человека в современном обществе базируется на основополагающем принципе постмодернизма, а именно на плюрализме, приводящем к релятивизму. Утрате устойчивых ориентиров способствует культивирование неограниченного выбора, отказ от формулирования предпочтительных векторов самоидентификации». Для теории психопатологии крайне важно на современном этапе отслеживать общественные изменения, именно благодаря им психиатрия обязана рождению нового научного раздела — неопсихопатологии [42, 43].
Дополнительная информация
Источник финансирования. Авторы заявляют об отсутствии внешнего финансирования при проведении исследования.
Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.
Вклад авторов. В.Д. Менделевич — клиническое обследование пациентки, анализ литературы, дифференциальная диагностика, написание статьи; А.А. Каток — клиническое обследование пациентки; И.А. Митрофанов — клиническое обследование пациентки. Все авторы подтверждают соответствие авторства международным критериям ICMJE (все авторы внесли существенный вклад в разработку концепции, проведение исследования и подготовку статьи, прочли и одобрили финальную версию перед публикацией).
Информированное согласие на публикацию. Авторы получили письменное согласие законных представителей пациента на публикацию медицинских данных.
Additional information
Funding source. This study was not supported by any external sources of funding.
Competing interests. The authors declare that they have no competing interests.
Authors’ contribution. V.D. Mendelevich — clinical examination of the patient, literature analysis, differential diagnosis, writing an article; A.A. Katok — clinical examination of the patient; I.A. Mitrofanov — clinical examination of the patient. All authors confirm that their authorship meets the international ICMJE criteria (all authors made a significant contribution to the development of the concept, conducting the study and preparing the article, read and approved the final version before publication).
Informed consent for publication. The authors obtained written consent from the patient's legal representatives for the publication of medical data.
1 Имена изменены. Самиха — женское имя арабского происхождения.
2 Имена изменены. Ха-Ныль — корейское унисекс-имя.
3 Хиджаб, никаб – традиционные для мусульманок женские головные уборы.
Об авторах
Владимир Давыдович Менделевич
Казанский государственный медицинский университет
Автор, ответственный за переписку.
Email: mendelevich_vl@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-8476-6083
SPIN-код: 2302-2590
д-р мед. наук, профессор
Россия, КазаньАлена Алямовна Каток
Казанский государственный медицинский университет
Email: alenaakatok@gmail.com
ORCID iD: 0000-0001-9046-3532
SPIN-код: 4511-6293
ассистент кафедры психиатрии и медицинской психологии
Россия, КазаньИван Александрович Митрофанов
Казанский государственный медицинский университет
Email: iv.mitrofanov@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-0541-7038
SPIN-код: 5782-0447
ассистент кафедры психиатрии и медицинской психологии
Россия, КазаньСписок литературы
- Rivnyak A., Poharnok M., Peley B., Lang A. Identity diffusion as the organizing principle of borderline personality traits in adolescents — a non-clinical study // Front Psychiatry. 2021. Vol. 12. P. 683288. doi: 10.3389/fpsyt.2021.683288
- Jorgensen C.R., Boye R. How does it feel to have a disturbed identity? The phenomenology of identity diffusion in patients with borderline personality disorder: a qualitative study // J Pers Disord. 2022. Vol. 36, N 1. P. 40–69. doi: 10.1521/pedi_2021_35_526
- De Meulemeester C., Lowyck B., Vermote R., et al. Mentalizing and interpersonal problems in borderline personality disorder: The mediating role of identity diffusion // Psychiatry Res. 2017. Vol. 258. P. 141–144. doi: 10.1016/j.psychres.2017.09.061
- Wilkinson-Ryan T., Westen D. Identity disturbance in borderline personality disorder: an empirical investigation // Am J Psychiatry. 2000. Vol. 157, N 4. P. 528–541. doi: 10.1176/appi.ajp.157.4.528
- Sollberger D., Gremaud-Heitz D., Riemenschneider A., et al. Change in identity diffusion and psychopathology in a specialized inpatient treatment for borderline personality disorder // Clin Psychol Psychother. 2015. Vol. 22, N 6. P. 559–569. doi: 10.1002/cpp.1915
- Verschueren M., Claes L., Gandhi A., Luyckx K. Identity and psychopathology: Bridging developmental and clinical research // Emerging Adulthood. 2020. Vol. 8, N 5. P. 319–332. doi: 10.1177/2167696819870021
- Банников Г.С., Кошкин К.С. Антивитальные переживания и аутоагрессивные формы поведения подростка с «диффузной идентичностью» // Психологическая наука и образование. 2013. № 1. C. 31–40. EDN: PZRNBD
- Тхостов А.Ш., Рассказова Е.И. Идентичность как психологический конструкт: возможности и ограничения междисциплинарного подхода // Психологические исследования. 2012. Т. 5, № 26. C. 2. EDN: QBGZIN doi: 10.54359/ps.v5i26.741
- Соловьёва С.Л. Идентичность как ресурс выживания // Медицинская психология в России. 2018. T. 10, № 1. C. 5. EDN: XWERKH doi: 10.24411/2219-8245-2018-11050
- Пискарёва Т.К., Ениколопов С.Н. Нарушения половой идентичности и проблемы психического здоровья // Обозрение психиатрии и медицинской психологии имени В.М. Бехтерева. 2019. № 3. C. 28–35. EDN: HFEVKK doi: 10.31363/2313-7053-2019-3-28-35
- Plakolm Erlac S., Bucik V., Gregoric Kumperscak H. Explicit and implicit measures of identity diffusion in adolescent girls with borderline personality disorder // Front Psychiatry. 2022. Vol. 12. P. 805390. doi: 10.3389/fpsyt.2021.805390
- Basten Ch., Touyz S.W. Sense of self: its place in personality disturbance, psychopathology, and normal experience // Review of General Psychology. 2019. Vol. 24, N 2. P. 108926801988088. doi: 10.1177/1089268019880884
- Akhtar S. The syndrome of identity diffusion // Am J Psychiatry. 1984. Vol. 141, N 11. P. 1381–1385. doi: 10.1176/ajp.141.11.1381
- Менделевич В.Д. Терминологические основы феноменологической диагностики в психиатрии. Москва: Городец, 2016. EDN: WQBUBJ
- Дьяконов А.Л. Синдром деперсонализации при расстройствах шизофренического спектра // Психиатрия, психотерапия и клиническая психология. 2020. Т. 11, № 2. С. 364–371. EDN: JOKKZL doi: 10.34883/PI.2020.11.2.013
- Крылов В.И. Деперсонализационные расстройства в психиатрической и соматической клинике // Неврологический вестник. 2019. Т. 51, № 2. С. 105–111. EDN: SUVSVQ
- Пятницкий Н.Ю. «Дефектная» и «функциональная» деперсонализации в концепции K. Haug // Психиатрия и психофармакотерапия. 2022. Т. 24, № 1. С. 4–10. EDN: SKWFSO
- Самылкин Д.В., Ткаченко А.А. Ключевая роль «самости» и метакогнитивных процессов в саморегуляции // Российский психиатрический журнал. 2022. № 2. С. 15–25. EDN: XWPFFL doi: 10.47877/1560-957H-2022-10202
- Меграбян А.А. Деперсонализация. Ереван: Армянское государственное издательство, 1962.
- Менделевич В.Д. Феномен «душевной пустоты» в современной психиатрии // Неврологический вестник. 2024. Т. 56, № 3. С. 228–239. EDN: GCVTPM doi: 10.17816/nb633794
- Raemen L., Claes L., Palmeroni N., et al. Identity formation and psychopathological symptoms in adolescence: Examining developmental trajectories and co-development // Journal of Applied Developmental Psychology. 2022. Vol. 83, N 5. P. 101473. doi: 10.1016/j.appdev.2022.101473
- Sollberger D., Gremaud-Heitz D., Riemenschneider A., et al. Associations between identity diffusion, axis ii disorder, and psychopathology in inpatients with borderline personality disorder // Psychopathology. 2011. Vol. 45, N 1. P. 15–21. doi: 10.1159/000325104
- Gilboa-Schechtman E., Keshet H., Peschard V., Azoulay R. Self and identity in social anxiety disorder // J Pers. 2020. Vol. 88, N 1. P. 106–121. doi: 10.1111/jopy.12455
- Seeman M.V. Identity and schizophrenia: Who do I want to be? // World J Psychiatr. 2017. Vol. 7, N 1. P. 1–7. doi: 10.5498/wjp.v7.i1.1
- Cowan H.R., Mittal V.A., McAdams D.P. Narrative identity in the psychosis spectrum: A systematic review and developmental model // Clin Psychol Rev. 2021. Vol. 88. P. 102067. doi: 10.1016/j.cpr.2021.102067
- Conneely M., McNamee Ph., Gupta V., et al. Understanding identity changes in psychosis: a systematic review and narrative synthesis // Schizophrenia Bulletin. 2021. Vol. 47, N 2. P. 309–322. doi: 10.1093/schbul/sbaa124
- Davies J., Cooper K., Killick E., et al. Autistic identity: A systematic review of quantitative research // Autism Research. 2024. Vol. 17, N 5. P. 874–897. doi: 10.1002/aur.3105
- Kallitsounaki A., Williams D.M. Autism spectrum disorder and gender dysphoria/incongruence. a systematic literature review and meta-analysis // J Autism Dev Disord. 2023. Vol. 53, N 8. P. 3103–3117. doi: 10.1007/s10803-022-05517-y
- Palmeroni N., Luyckx K., Verschueren M., Claes L. Body dissatisfaction as a mediator between identity formation and eating disorder symptomatology in adolescents and emerging adults // Psychologica Belgica. 2020. Vol. 60, N 1. P. 328–346. doi: 10.5334/pb.564
- Croce S.R., Malcolm A.C., Ralph-Nearman C., Phillipou A. The role of identity in anorexia nervosa: A narrative review // New Ideas in Psychology. 2024. Vol. 72. P. 101060. doi: 10.1016/j.newideapsych.2023.101060
- Budde L.I., Wilms S., Föcker M., et al. Influence of identity development on weight gain in adolescent anorexia nervosa // Front Psychiatry. 2022. Vol. 13. P. 887588. doi: 10.3389/fpsyt.2022.887588
- Pickard H. Addiction and the self // Nous. 2021. Vol. 55, N 4. P. 737–761. doi: 10.1111/nous.12328
- Deriu V., Altavilla D., Adornetti I., et al. Narrative identity in addictive disorders: a conceptual review // Front Psychol. 2024. Vol. 15. P. 1409217. doi: 10.3389/fpsyg.2024.1409217
- Mester J.J. The relationship between substance abuse and identity development // HIM 1990–2015. P. 1162.
- Запесоцкая И.В., Никишина В.Б., Ахметзянова А.И. Диссоциативные механизмы нарушения личностной идентичности при наркотической зависимости // Неврологический вестник. 2015. Т. 47, № 2. С. 34–41. EDN: TUFSHF
- Bouman W.P., Thorne N., Arcelus J. Nonbinary gender identities // Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2023. Vol. 88. P. 102338. doi: 10.1016/j.bpobgyn.2023.102338
- Менделевич В.Д. Небинарная гендерная идентичность и трансгендерность вне психиатрического дискурса // Неврологический вестник. 2020. Т. 52, № 2. C. 5–11. EDN: APCCEM doi: 10.17816/nb26268
- Адамова Т.В. Особенности полоролевой идентичности у женщин пожилого возраста // Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2018. Т. 7, № 2. C. 328–330. EDN: XULHJB
- Головнева И.В. Гендерная идентичность: тенденции изменений. Харьков: изд-во НУА, 2006. EDN: YRSGGD
- Lampe N.M., Pfeffer C.A. «We grow older. We also have lots of sex. I just want a doctor who will at least ask about it»: Transgender, non-binary, and intersex older adults in sexual and reproductive healthcare // Soc Sci Med. 2024. Vol. 344. P. 116572. doi: 10.1016/j.socscimed.2024.116572
- Емелин В.А. Кризис постмодернизма и потеря устойчивой идентичности // Национальный психологический журнал. 2017. № 2. С. 5–15. EDN: YUBHDJ doi: 10.11621/npj.2017.0202
- Менделевич В.Д. Проблема диагностики психических и поведенческих расстройств в эпоху постмодернизма // Экспериментальная психология. 2015. Т. 8, № 3. С. 82–90. EDN: VCXXPZ doi: 10.17759/exppsy.2015080308
- Менделевич В.Д. Неопсихопатология. Казань: Медицина, 2024.
Дополнительные файлы