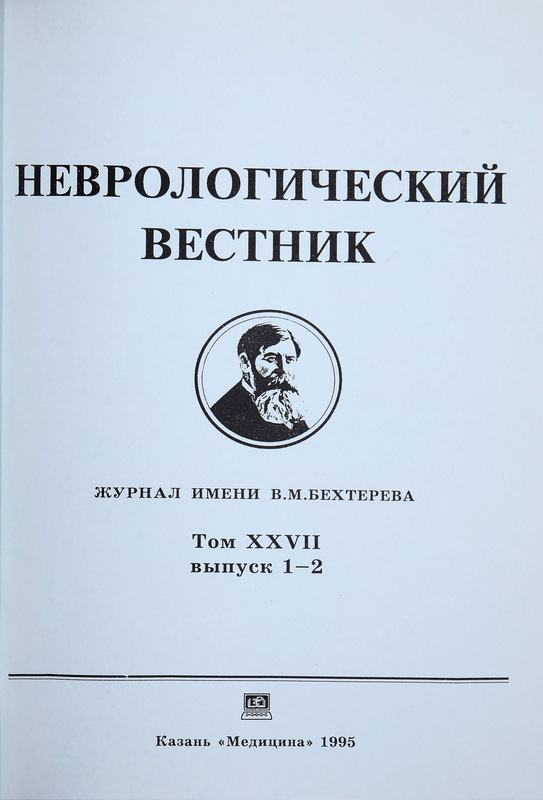Modern approaches to the definition of functional autonomic disorders
- Authors: Ismagilov М.F.1
-
Affiliations:
- Kazan State Medical University
- Issue: Vol XXVII, No 1-2 (1995)
- Pages: 49-56
- Section: Articles
- Submitted: 21.08.2021
- Accepted: 21.08.2021
- Published: 15.05.1995
- URL: https://journals.eco-vector.com/1027-4898/article/view/78658
- DOI: https://doi.org/10.17816/nb78658
- ID: 78658
Cite item
Full Text
Abstract
Treatment and rehabilitation of patients with acute cerebrovascular accidents and their consequences are the most important medical and social tasks. Movement disorders, along with speech disorders, are the main organic defects in patients after a stroke, causing a high degree of disability.
Keywords
Full Text
Деятельность организма может быть целесообразной только в том случае, если функции различных органов выполняются согласованно и служат потребностям всего организма. Регулирование и координация функций отдельных органов у высших животных и человека осуществляются зависящими друг от друга механизмами двух координационных систем: гуморальной и нервной. Последняя — более молодая филогенетически, быстрее осуществляет функциональные изменения. В пределах нервной системы в 1807 г. J.G. Reil [95] выделил и ввел в литературу понятие вегетативная нервная система (ВНС). Функции ВНС, не зависящие в целом от воли организма, адаптируют органы к требованиям всего организма. Постоянство внутренней среды организма (температура, химический состав, обмен веществ, кровяное давление и т.д.) является основой предпосылки всякой "высшей формы жизни" [78]. W.В. Cannon [82] назвал стремление организма поддерживать внутреннюю среду в определенных нормальных пределах гомеостазом. Важнейшая задача ВНС — сохранение этого гомеостаза и регуляция адаптации организма к постоянно меняющимся условиям внутренней и внешней среды [25].
ВНС объединяет в единое целое деятельность всех органов и систем, регулируя и координируя ее, поэтому при нарушении ее функций могут появляться симптомы в любом органе. Отсюда очевидны большая распространенность и чрезвычайное разнообразие клинических проявлений нарушения функции ВНС нередко при ее негрубых повреждениях — вегетативной дизрегуляции. Этот универсальный синдром нарушеного гомеостаза служит в определенной степени сигналом неполного благополучия в организме и довольно редко выступает в качестве самостоятельной клинической формы [19, 80].
Вариант нормы вегетативной регуляции со склонностью к количественным и качественным видоизмененным реакциям, не укладывающимся в понятие болезнь [70], W. Scheid [96] рекомендует понимать как вегетативную лабильность (ВЛ). W. Schulte [97] говорит о компенсированных вариантах ВЛ в противоположность декомпенсированным ее состояниям — вегетативной дисфункции (ВД).
Н.К. Боголепов [12] рекомендует применять термин ВД лишь при наличии общих признаков вегетативной дизрегуляции, возникающих как симптом болезни и характеризующихся в основном функциональны ми обратимыми нарушениями центральной вегетативной регуляции. Он считает необходимым детализировать и характер вегетативных (моторные, секреторные, висцеральные) нарушений, желудочно-кишечные расстройства, явления нейродермизма (экзема, пароксизмальный зуд), вазомоторные нарушения, учащение или замедление пульса, принимать во внимание одышку, потливость и т.д.
Легкие симптомы вегетативной дизрегуляции, т.е. ВЛ, проявляющуюся с детства и часто усиливающуюся под влиянием инфекций, физической или психической травмы и других внешних причин, Н.К. Боголепов характеризует как вегетативную неустойчивость. При этом субъективная симптоматика практически отсутствует. При объективном изучении у этих лиц можно выявить быструю смену окраски кожи, потливость, нерегулярность и смену ритма сердца, колебания артериального давления (АД), частоты пульса и дыхания, тошноту, дискинезию в желудочно-кишечном тракте, склонность к субфебрилитету, плохую переносимость духоты или холода, физического и умственного напряжения, метеотропность. Н. Eppinger, L. Hess [84] определили лиц с врожденной слабостью вегетативной регуляции образно как инвалидов вегетативной системы. Довольно часто эти расстройства носят семейно-наследственный характер [2, 5, 7, 19, 26, 35, 40, 41]. Эта форма вегетативной дизрегуляции при благоприятных условиях компенсирована, но легко декомпенсируется при неблагоприятных ситуациях, проявляясь теми или иными признаками ВД. Причины, вызывающие декомпенсацию, нередко остаются невыясненными.
Э.С. Рутенбург [57] пишет, что необходимо дифференцировать ВЛ и ВД. В качестве основных критериев для их деления она рассматривает: а) степень выраженности вегетативных расстройств; б) степень оказываемого ими влияния на функциональное состояние других органов и систем (главным образом сердечно-сосудистой системы); в) наличие характерных жалоб. Наличие у обследуемого небольшого гипергидроза и цианоза кистей, умеренно выраженного красного дермографизма при практическом отсутствии жалоб данный автор оценивает как вариант функциональной лабильности ВНС.
К явлениям ВД автор относит более грубые вегетативные нарушения: резко выраженный цианоз, гипергидроз кистей и стоп, разлитой красный дермографизм, пятнистую гиперемию на коже лица, груди, шеи, усиленную саливацию, гипотермию, выраженную лабильность пульса, тенденцию к колебаниям артериального давления, повышенную возбудимость мышц (мелкий тремор век и пальцев рук, "оживление" сухожильных рефлексов, симптомы “мышечного валика" и Хвостека), резко положительный или извращенный рефлекс Ашнера, ортостатические феномены с тенденцией к коллаптоидным реакциям и другие. Как правило, объективные признаки вегетативных нарушений при ВД сочетаются с жалобами на головную боль, головокружение, чаще при перемене положения тела или длительном неподвижном состоянии, в транспорте и в душном помещении, боли в области живота и сердца колющего, давящего, сжимающего характера, нарушения дыхания и т.п. Эти лица в большинстве своем отличаются эмоциональной лабильностью, быстрой утомляемостью, нередко подавленным настроением, снижением трудоспособности и нарушением сна.
Литература, посвященная функциональным вегетативным нарушениям, пестрит обилием определяющих их названий и терминов, многие из которых не получили широкого распространения и применения на практике: вегетоз и вегетопатия [47]; общие вегетозы, вегетативный синдром при функциональных заболеваниях и диэнцефалозы [56]; вегетативная дисфункция [1, 12]; вегетативная дизрегуляция и дисвегетоз [88]; нейровегетативная дистония и вегетативный невроз [22, 94]; компенсированная и декомпенсированная вегетативная лабильность [97] и др.
В 1918 г. В.S. Oppenheimer и соавт. [93] ввели в англо-американскую литературу термин нейроциркуляторная астения (НЦА). Этот термин явился отражением исторической метаморфозы таких понятий, как "воз будимое сердце", "раздражимое сердце", "синдром усилия", "солдатское сердце", идущих от первых определений функциональной патологии сердца у солдат британской армии на территории Северной Америки с времен Да Коста (1871) [45]. Термин НЦА употребляется широко и в настоящее время в зарубежной литературе, определяя на фоне разнообразных проявлений вегетативной дизрегуляции в первую очередь генерализованные нарушения сердечно-сосудистой системы как следствие функциональной слабости нервной системы [76, 77, 102].
По аналогии с представлениями Г.Ф. Ланга [42] о патогенезе гипертонической болезни ряд циркуляторных расстройств стал рассматриваться как следствие нарушений высших уровней центральной регуляции и был обозначен как нейроциркуляторная дистония (НЦД). Этот термин получил широкое распространение в нашей стране. НЦД отнесена к группе неврогенных заболеваний сердечно сосудистой системы наравне с гипертонической болезнью.
НЦД достаточно хорошо изучена Н.Н. Са вицким [58] и его последователями [45, 64] как функциональное полиэтиологическое заболевание, в основе которого лежат расстройства нейроэндокринной регуляции с разнообразными и множественными клиническими симптомами со стороны внутренних органов, преимущественно сердечно-сосудистой системы, сопровождающимися психоэмоциональными расстройствами.
Г.М. Покалев и В.Д. Трошин [54] под НЦД понимают группу вегетативно висцеральных и эндокринных ("малая эндокринопатия") синдромов, ведущими среди которых являются функциональные расстройства сосудистого тонуса и кровотока в целом на уровне как макро , так и микроциркуляции НЦД авторы относят к заболеваниям полиэтиологического типа, среди которых они рекомендуют выделять заболевания, послужившие ведущей причиной, и уcловия, способствующие развитию патологического процесса. Из внешних факторов на первый план выдвигаются вирусная и очаговая инфекция, интоксикация, профессиональная вредность (токи УВЧ, вибрация), беременноcть, травмы головы Травмирующим психику факторам отводится лишь 5—7%. Среди внутренних факторов рассматриваются врожденная или приобретенная дисфункция ВНС и желез внутренней секреции В предлагаемой классификации все формы НЦД Г.М.Покалев и В.Д. Трошин делят на нейрогенно-сосудистые (первичные) и симптоматические (вторичные — при заболеваниях внутренних органов, нейроэндокринной системы инфекционного, травматического и другого генеза). При этом рекомендуется учитывать распространенность (монорегионарная, полирегионарная) клинических проявлений по органам и системам, характер течения (стойкое, в виде кризов) и связь с АД (на фоне норме , гипо и гипертензии).
Ряд интернистов, признавая близкое созвучие терминов НЦА и НЦД, а также общность их основных патогенетических механизмов, не отождествляют эти понятия по содержанию. Так, В.Г. Вогралик и А.П. Мешков [23] полагают, что симптоматологическая структура при этих функциональных расстройствах в значительной степени определяется особенностями этиологии, которые должны быть отражены в формулировке диагноза. Под НЦА эти авторы подразумевают состояние, идентичное неврозу, развитию которого предшествует психогения и в клинической картине доминирует кардиалгия с яркой эмоциональной окраской и кардиофобией. При этом признаки вегетативных нарушений будто бы исчерпываются периферическими стигмами (цианоз и гипергидроз ладоней, мраморность кожи и т.д.). В то время как для НЦД считается характерным обилие вегетативных симптомов, сопровождающееся объективно регистрируемыми отклонениями преимущественно в деятельности сердечно сосудистой системы. Последние могут "затушевываться" невротическими проявлениями. Однако следует заметить, что авторы, объясняя нарушения регулирования сердечно сосудистой системы пре имущественно дисфункцией коры и ближайшей подкорки при ИЦА и дисфункцией структур лимбико-ретикулярного комплекса (АРК), в первую очередь гипоталамуса, при НЦД, в итоге объединяют эти формы функциональных нарушений одним и тем же патогенетическим механизмом — дизрегуляцией надсегментарных аппаратов ВНС.
Стремление избежать одностороннего (органного или системного) подхода к проблеме функциональной патологии ВНС с признанием роли психоэмоционального стресса как основного этиологического фактора заболевания отразилось в появлении термина вегетоневроз [22, 34, 89, 94]. В свою очередь, неврологи А.М. Гринштейн и Н.А.Попова [27] писали, что функциональные вегетативные нарушения могут быть подразделены на вегетоневрозы и вегетопатии. При вегетативных неврозах у больных отмечаются нарушения функции сердца, сосудов, желудка, кишечника и других внутренних органов. Эти нарушения нерезко выражены, часто возникают при ступообразно и находятся в зависимости от состояния психики больного. Механизм происхождения указанных патологических феноменов в основном психогенный. Функциональные же вегетативные расстройства с резкими и длительными нарушениями функции органа, нередко приводящими к смерти, А.М. Гринштейн, Н.А. Попова и ряд других авторов именуют вегетопатией. К ним относят бронхиальную астму, гипертоническую и язвенную болезни, вазомоторную форму синдромов Меньера и Рейно. В их основе усматривается срыв нейрогуморальной регуляции.
Понятие вегетативная дистония было введено в клиническую практику B.Wichmann [101] для обозначения функциональных расстройств симпатической и парасимпатической вегетативной регуляции, описанных H.Eppinger, L.Hess [84]. Этот термин получил распространение и в нашей стране [14, 18, 20, 29].
По мере систематизации представлений о вегетативных расстройствах выделилась форма с ведущими нарушениями тонуса сосудов, обозначенная как вегетососудистая дистония (ВСД) [19, 47].
Термин ВСД является наиболее распространенным и прочно входящим в настоящее время в практику отечественной медицины. А.М. Вейн и соавт. [19] под синдромом ВСД объединяют разнообразные как по форме, так и по степени клинической выраженности проявления вегетативных нарушений, которые могут быть симпатическими, парасимпатическими, смешанными перманентными и пароксизмальными синдромами, носящими генерализованный или локальный (системный) характер. Синдром ВСД авторы связывают с патологией как сегментарно периферических, так и надсегментарных структур ВНС и анализируют роль в его генезе разнообразных факторов, подчеркивая ведущее значение эмоционально личностных и конституциональных особенностей при формировании вегетативно-сосудистых нарушений. По мнению авторов, ВСД может быть конституциональной природы, возникать на фоне эндокринных перестроек организма (периоды пубертата, климакса и т.д.), при заболеваниях висцеральных органов и периферических эндокринных желез, аллергии, при патологии сегментарных аппаратов ВНС, при органических поражениях и функциональных расстройствах (неврозы) центральной нервной системы (ЦНС).
Следовательно, согласно этой концепции ВСД является не нозологической формой, а лишь синдромом, предполагающим наличие врожденно-конституциональной и (или) приобретенной дисфункции вегетативных аппаратов. А.М.Вейн и соавт. подчеркивают, что непременным условием диагностики функционального заболевания ВНС является исключение первичной патологии в висцеральной и сосудистой системах, при знание ведущей роли в его возникновении патологии вегетативных аппаратов.
Анализ литературы создает впечатление, что ряд авторов [23, 45, 54], переоценивая тот или иной этиологический фактор или отдельные звенья патогенетической цепи функциональных вегетативных нарушений, придает наиболее ярким проявлениям то нозологический, то синдромологический смысл. Так, Г.М. Покалев и В.Д. Трошин [54], предлагая вначале рассматривать НЦД как нозологическую единицу, а ВСД как синдром, затем рекомендуют не противопоставлять эти два термина. Подобные толкования существующих в литературе определений, отражающих особенности клинического полиморфизма вегетативных нарушений, препятствуют пониманию сущности вегетативной дизрегуляции. В то же время эти обстоятельства привели к тому, что все еще продолжается довольно активная дискуссия преимущественно вокруг терминов ВСД и НЦД.
Терапевты и кардиологи прежде всего, несомненно, хотят увидеть в НЦД не синдром, а самостоятельное заболевание, полагая, что при ней имеются функциональные нарушения исключительно в кардиоваскулярной системе. Эти взгляды объясняются прежде всего тем, что диагноз НЦД рождается в терапевтических учреждениях кардиологического профиля, где расстройствам функции кардиоваскулярной системы придается главенствующее значение, тогда как нарушениям в дыхательной сфере, желудочно-кишечном тракте, термо регуляторной, выделительной и другим сферам не придается какого либо значения.
Не исключается, что у данной категории больных и в самом деле наиболее яркими являются кардиологические и другие кар диоваскулярные симптомы. В данной ситуации было бы полезным и правомерным привести строки, написанные вегетологом А.М. Вейном [31]: «... Вступив на путь выделения НЦД (как нозологической формы), мы должны дать дорогу и таким синдромам, как гипервентиляционный, нейрогастральная дистония, нейрогенная терморегуляция и т.д. Все они — абсолютная клиническая реальность... При этом мы не считаем, что это самостоятельные заболевания, и рассматриваем их как клинические варианты СВД, в частности психовегетативного синдрома, при котором на фоне полисистемных нарушений вегетативной регуляции доминируют клинические симптомы недостаточности определенных функциональных систем». Далее: «... Врач, диагностировав НЦД начинает лечить эту "болезнь”, завершив необходимый в этой ситуации поиск причин, обусловивших этот синдром. В этом и заключается практическая опасность использования термина "нейроциркуляторная дистония”». Понятна тревога неврологов по поводу этих представлений.
В понятиях вегетососудистая дистония, нейроциркуляторная дистония и вегетативная дистония термин дистония обозначает расстройства не сосудистого тонуса, а механизм его регуляции [58], т.е. применяется вместо понятия "дисфункция”. Поэтому ряд отечественных исследователей [1, 12, 33, 43] считает, что как понятия НЦД, ВСД так и вегетативная дистония недостаточно полно отражают состояние нейровегетативной регуляции и других жизненно важных систем организма. Исходя из того, что в таких случаях наблюдаются не только нарушения тонуса сосудов, но и расстройства функций нескольких или многих органов и систем (полисистемные нарушения вегетативной регуляции — сердечно сосудистой, пищеварительной, дыхательной, терморегуляционной, потоотделительной и др.), авторы полагают, что эти состояния правильнее называть вегетативной дисфункцией (ВД). Разнообразные сердечно сосудистые нарушения, в частности кардиальные или сосудистые дистонические синдромы, в основе которых лежат нейрогенно обусловленные колебания тонуса на микро и макроциркуляторном уровне, cледует рассматривать как частное проявление дисфункции аппаратов вегетативной регуляции, т.е. в данной ситуации доминируют клинические симптомы недостаточности преимущественно одной функциональной системы — сердечно сосудистой. Следовательно, термин вегетативная дисфункция более емкое понятие, чем НЦД, ВСД, вегетативная дистония и другие, и достаточно хорошо отражает все многообразие проявлений нейровегетативной дизрегуляции.
Исходя из позиций последних авторов, наиболее полно охватывает вегетативные нарушения классификация Г.В. Архангельского [1]. На основании клинических признаков расстройства основных функционалыных систем организма автор выделяет шесть форм ВД: с сердечно сосудистыми нарушениями, с нарушениями дыхания, с нарушениями нейрорегуляции пищеварительного тракта, с вестибулярными и эндокринными нарушениями. Явления ВД, входящие в клиническую картину неврозов, т.е. обусловленные психической травмой, автор именует первичными. Те же проявления ВД при различных патологических состояниях — аллергии, инфекционных заболеваниях, интоксикациях и структурно функциональных поражениях головного мозга — рекомендуется обозначать вторичными. Анализируя причинно-следственные отношения при ВД, к предрасполагающим факторам наряду с вышеперечисленными заболеваниями Г.В. Архангельский относит особенности личности, тип высшей нервной деятельности, конституциональную неполноценность вегетативной регуляции, "био химическую индивидуальность” [100] и соматические особенности организма [79]. ВД может быть начальной, функциональной стадией многих заболеваний, в патогенезе которых ведущая роль принадлежит нарушению нейровегетативной и гуморальной регуляции функций организма.
Изучение неспецифических систем [11, 86, 88, 92] выявило связь психоэмоциональных и вегетативно эндокринных процессов, лежащих в основе адаптации организма к раздражителям внешней и внутренней среды и осуществляемых надсегментарным интегративным аппаратом головного мозга — лимбико-ретикулярным комплексом (ЛРК) [7]. Не случайно эмоционально-вегетативные нарушения имеют место при патологии ЛРК [17, 21]. По образному выражению W.Thieile [99], "вегетативная эйтония и уравновешенное настроение соответствуют друг другу так же, как вегетативная дистония и эмоциональная лабильность".
У здоровых людей существуют определенные психовегетативные взаимоотношения [10, 15]. По мнению А.М. Вейна [15], эмоционально вегетативный комплекс играет важнейшую роль в приспособительной деятельности: "Если первый компонент его — сигнал к действию, то второй обеспечивает действие энергетически". При патологических состояниях соотношение между эмоциональным и вегетативным нарушается и возникает психовегетативный синдром (ПВС), идентичный вышеописанным клиническим понятиям: ВД, НЦД, ВСД и т.д.
Клиника ПВС включает разнообразные вегетативные нарушения: колебания АД, нарушение частоты и ритма сердечных сокращений, вазомоторные реакции, болевые и другие неприятные ощущения в области головы, сердца, груди и живота, ощущение нехватки воздуха или остановки дыхания, нарушение аппетита, тошноту, рвоту, поносы или запоры, нарушение терморегуляции, гипергидроз, нарушение обмена веществ, функции эндокринных желез и т.д. Наряду с перечисленными вегетативно висцеральными расстройствами обнаруживаются психоэмоциональные расстройства: легкая смена настроения, плаксивость, тревожность, страхи, нарушение сна, ухудшение внимания, чувство слабости, снижение работоспособности и т.д.
Термин ПВС впервые предложили W.Thielle [99] и L.Delius, I.Fahrenberg [83]. Он широко распространен в современной немецкой и американской литературе. Анализируя ПВС как состояние расстроенных психических, вегетативных и физических функций, авторы обращают внимание на то, что это еще не болезнь, а "потенциал болезни”, и он не может рассматриваться как нозологическая единица. В то же время L.Delius, I.Fahrenberg [83], а затем H.M.Heinisch [87] подчеркивают, что основные психогенные функциональные вегетативные синдромы должны разграничиваться от симптоматических функциональных синдромов, возникающих на фоне первичного поражения вегетативных образований головного мозга вследствие инфекций, интоксикаций, череп- но мозговой травмы и т.д. Любопытно, что пишет H.M.Heinisch [87]: "Мы рассматривали как функциональные синдромы все клинические явления функциональных на рушений, которые не основываются на явно анатомических нарушениях органа”. Далее он продолжает: "Возможность этих симптомов проявится как функциональное нарушение таит в себе опасность неправильного диагноза. Поэтому до постановки диагноза функционального синдрома должны исключаться те или иные вышеуказанные заболевания".
Следует заметить в связи с этим, что клиницистам хорошо известны сложность, а порою отсутствие уверенности в необходимости проведения такого разграничения. Ведь деление заболеваний того или иного органа на функциональные и органические является условным, хотя сегодня ни у кого не должно возникать сомнений относительно отсутствия функциональной патологии органов и систем без структурных изменений в них. При отсутствии единых точек зрения на этот счет ряд исследователей [58, 59, 61], опираясь на фундаментальные положения философии о единстве и неразрывности категорий структуры и функции, вообще возражает против обособления чисто функциональных заболеваний от органических, настаивая на их недели мости. Согласно точке зрения других исследователей [23, 45, 50, 69, 72, 89] совокупность структурных субклеточных или молекулярных изменений может восприниматься как сумма функциональных расстройств па органном и системном уровнях. Тем более, что существующие клинические методы не всегда в состоянии позволить их документировать. Следовательно, существование функциональных заболеваний при знается условно.
В современной литературе так называемые функциональные заболевания внутренних органов рассматриваются как висцеральная проекция первичного повреждения одного из уровней нейрогормональной регулирующей системы, т.е. дистантная патология. С этих позиций внутренний орган — это мишень, а первичные отклонения локализуются в нервной системе [5, 7, 23, 72] При этом на первый план выступают выраженные нарушения функции при кажущемся отсутствии структурных изменений. В связи с этим функциональные заболевания органов и систем неврогенной природы обозначаются как дезинтеграционные расстройства [59], или дисциркуляторные висцеропатии [23, 44, 63, 66, 72], или синдром дезинтеграции [16], или болезнь адаптации [36] и т.п. С этих позиций легко понять, что к разряду дезинтеграционных расстройств относятся в первую очередь синдромы ВД, или ПВС. Многообразные симптомы нарушения функции внутренних органов при ВД являются дистантными проявлениями висцеральной проекции первичного (при любом характере этиологического фактора) повреждения (возможно, и органического) одного из уровней (надсегментарного или сегментарно-периферического) ВНС.
В связи с вышесказанным следует обратить внимание на тот факт, что исследованиями преимущественно отечественных ученых показано, что функциональные нарушения нейровегетативной регуляции могут быть начальной, обратимой стадией заболеваний различных органов и систем, в первую очередь сердечно-сосудистой [4, 8, 24, 32, 39, 49, 71, 73, 75], истоки большинства которых прослеживаются еще в детстве [4, 60, 85, 98]. Не будучи купированы на ранних этапах онтогенеза, они могут привести к развитию нейродистрофических процессов в органах, способствуя формированию психосоматических (симпато и вагозависимых) заболеваний взрослых [3, 6, 9, 28, 38, 46, 48, 53, 65, 68, 74].
По сводным статистическим данным R. Kellner [91], в различных странах континентов функциональные вегетативные расстройства в практике врачей составляют до 40% и более. Эти показатели продолжают расти. Отмечая учащение функциональных заболеваний нервной системы в развитых капиталистических странах мира (ФРГ, Англия, США и Япония), S.Kamran [90] подчеркивал, что ВД является важнейшей проблемой XX века, увеличение которой является "следствием цивилизации".
Материалы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) свидетельствуют о том, что в наше время практически во всех странах мира продолжает расти частота нервно психических и психосоматических заболеваний [7, 51] Повышению невротизации населения, включая и детское, и росту функциональных нарушений в организме способствует научно техническая революция, механизация и химизация условий быта и производства, непрекращающийся рост урбанизации и социальных перестроек общества, требующих высоких темпов и напряжения, особенно в психоэмоциональной сфере человека [1, 13, 30, 62, 67, 72].
Таким образом, в основе разнообразных проявлений функциональной патологии органов и систем лежат расстройства функционирования сегментарных и надсегментарных отделов ВНС. Общим для всех (определяемых конституциональными, органическими и психогенными факторами) церебральных процессов является то, что они отражают нарушение интегративных механизмов мозга, неполноценность адаптивно приспособительных функций. Надсегментарные нарушения вегетативной регуляции являются психовегетативными. Степень психовегетативных (эмоциональных, эндокринно обменных, висцеральных и др.) расстройств хорошо отражает уровень нарушения адаптивной, приспособительной деятельности, обеспечиваемой головным мозгом, и в первую очередь его лимбико-ретикулярным комплексом. Многообразие клинических проявлений этого большого "синдрома дезинтеграции" в форме функциональных заболеваний внутренних органов рассматривается как висцеральная проекция первичного повреждения одного из уровней вегетативно гормональной регуляции, локализирующейся в пределах ВНС.
С этих позиций все вышеописанные расстройства могут быть определены единым емким понятием вегетативная дисфункция (ВД). Многообразие терминологии, характеризующей эту патологию, как в отечественной, так и зарубежной литера туре отражает отсутствие общепринятой систематизации функциональных вегетативно-висцеральных нарушений и обусловлено, вероятно, не столько различным пониманием природы и сущности заболевания, сколько разнообразием принципиального подхода врачей разных специальностей и их мировоззрения, определяющего формулировку диагноза. Следовательно, ВД — полиэтиологическое заболевание, не являющееся самостоятельной нозологической формой и лишь клинически отражающее наличие врожденной и (или) приобретенной дисфункции аппаратов нейровегетативной регуляции органов и систем.
About the authors
М. F. Ismagilov
Kazan State Medical University
Author for correspondence.
Email: info@eco-vector.com
Professor, Head of the Department of Neuropathology, Neurosurgery and Medical Genetics
Russian Federation, KazanReferences
- Архангельский Г.В. О нейро циркуляторном синд роме как проявлении вегетативных дисфункций // Журн. невропатол. и психиатр. — 1969. — Вып. l.- с. 1305—1306.
- Бабкин П.С., Алейных Н.И. Роль наследственности в происхождении обмороков // Пароксизмальные вегетативные нарушения. — М., 1979. — С. 218—219.
- Бадалян Л.О. Проблемы антенатальной неврологии // Журн. невропатол. и психиатр. — 1984. — Вып. 10. — С. 1441—1446.
- Белоконь НА. Неревматические кардиты у детей. — М.: Медицина, 1984. — 216 с.
- Белоконь НА., Белозеров Ю.М., Баринова В.С. и др. Функциональные кардиопатии у детей (семейное исследование) // Вестн. АМН СССР. — 1984. — № 2. — С. 68—72.
- Белоконь Н.А. Проблема атеросклероза — перспективное направление в кардиологии детского возраста // Вопр. охраны материнства и детства. — 1984. — № 2. — С. 3—12.
- Белоконь НА., Шварков С.Б., Осокина Г Г. и др. Под ходы к диагностике синдрома вегетососудистой дистонии у детей // Педиатрия. — 1986. — № 1 — С. 37—41
- Бельченко Д.И., Лазарев В.И. О предрасположенности больных нейроциркуляторной дистонией кардиального типа к развитию ишемической болезни сердца // Ранняя диагностика и профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. — Новосибирск, 1983. — Ч. 2. — С. 52—53.
- Бережков Л.Ф., Рязанова Л.П. Глюкокортикоидная и андрогенная функция надпочечников у детей пубертатного возраста со средним физическим развитием, а так же при ожирении и дефиците веса // Вопр. охраны материнства и детства. — 1969. — № 12. — С. 13—18.
- Березин Ф.Б. Транквилизирующий эффект и его соотношение с антипсихическим и антидепрессивным эффектом (на материале гипоталамических поражений) // Терапия психических заболеваний. — М., 1968. — С. 331—340.
- Бериташвили И.С. Эмоциональная психонервная и условнорефлекторная деятельность архипалеокортекса // Структура и функция архипалеокортекса. — Тбилиси, 1968. — С. 55.
- Боголепов Н.К. О патологии вегетативных функций // Журн. невропатол. и психиатр. — 1954. — Вып. 5. — С. 415—425.
- Бухаловский И.Н., Буянов П.В. функциональные заболевания сердечно-сосудистой системы // Воен. мед. журн. — 1971. — № 8. — С. 41.
- Вегетативная дистония: Метод. рекомендации /Г.В. Архангельский, А.П. Куцемалова, Л.М. Пучинская и др. — М., 1968. — 48 с.
- Вейн А. М. Вопросы патогенеза вегетативных расстройств // Журн. невропатол. и психиатр. — 1971. — Т. 71, вып. 1.— С. 74—78.
- Вейн А.М., Колосова О.А. Вегетативно сосудистые пароксизмы: Клиника, патогенез, лечение. —М.: Медицина, 1971. — 156 с.
- Вейн А.М., Соловьева А.Д. Лимбико-ретикулярный комплекс и вегетативная регуляция. — М. Наука, 1973. — 268 с.
- Вейн А.М., Соловьева А.Д. Патологические вегетативные синдромы: клинико-физиологическая характеристика // Физиология вегетативной нервной системы. — Л., 1981. — С. 668—710.
- Вейн А.М., Соловьева А.Д., Колосова О.А. Вегетососудистая дистония. — М.: Медицина, 1981. — 318 с.
- Виленский Б.С. Диагностика вегетативной дисто нии: Метод. рекомендации. — Л., 1978. — 20 с.
- Власова В.Я. Клиника тонзиллогенных вегетативно-диэнцефальных нарушений и особенности их течения в климатических условиях Туркмении // Вопр. невропатологии, физиотерапии и курортологии в Туркмении. —Ашхабад, 1971. — С. 7—20.
- Вогралик В.Г. Гипоталамо-висцеральная патология // Физиология и патофизиология гипоталамуса. — М.,1966. — С. 49—54.
- Вогралик В.Г., Мешков А.П. Клинико-патогенетические варианты функциональных (дизрегуляторных) расстройств деятельности сердца // Функциональные сердечнососудистые расстройства. — Горький, 1982. — С. 14—20.
- Гаевский Ю.Г. Исследование некоторых психовегетативных показателей, а также адренергической и холинергической активности у больших стенокардией // Патология нервной системы. — Актюбинск, 1977. —С. 11 — 13.
- Гращенков Н.И. Гипоталамус, его роль в физиологии и патологии. — М.: Наука, 1964. — 363 с.
- Григорьева И В. Характеристика функционального состояния сердечно-сосудистой системы и факторов риска ишемической болезни сердца у детей с отягощенной наследственносгью по атеросклерозу: Автореф. дис. канд. мед. наук. — М., 1984. — 19 с.
- Гринштейн А.М., Попова Н.А. Вегетативные синдромы. — М.: Медицина, 1971. — 308 с.
- Губачев Ю.М., Стабровский Е.М. Клинико-физиологические основы психосоматических соотношений. — М.: Медицина, 1981. — 216 с.
- Давиденков С.Н. Проблема полиморфизма наследственных болезней нервной системы. — Л., 1934. — 138 с.
- Жариков Н.М., Перошок И.Л. Проблема связей психической и соматической патологии // Клин. мед.—1986. — № 7. — С. 19—23.
- Заболевания вегетативной нервной системы: Руководство для врачей /Под ред. А.М. Вейна. — М.:Медицина, 1991. — С. 93—94.
- Ильинский Б.В. Предвестники атеросклероза удетей // Профилактика, ранняя диагностика и лечение атеросклероза. — М., 1977. — С. 8—34.
- Исмагилов М.Ф. Церебральные вегетативные нарушения пубертатного периода: Дис. ... д ра мед. наук. —Казань, 1986. — 440 с.
- Калюжная Р.Л. Взаимосвязь сосудистого тонуса и гемодинамики современных детей и подростков с особенностями их развития // Вопр. кардиологии детского возраста. — Минск, 1972. — С. 36—39.
- Капустин А.В. Клинико-электрокардиографическая характеристика экстрасистолии у детей и ее связь с функциональным состоянием вегетативной нервной системы:Автореф. дис. ... канд. мед. наук. — М., 1985. — 19 с.
- Кассиль Г.Н. Вегетативное регулирование гомеостаза внутренней среды // Физиология вегетативной нервной системы. — Л., 1981. — С. 536—572.
- Каюшева И.В. О патогенезе гипоталамического синдрома пубертатного периода // Вопросы нейрогормональной патологии и геронтологии: Тр. Горьк. мед. ин-та. — Горький, 1972. — Вып. 40. — С. 46—47.
- Климов А Н. Причины и условия развития атеросклероза // Превентивная кардиология. — М., 1977. —С. 260— 321.
- Клиорин А.И. Атеросклероз в детском возрасте. — Л.: Медицина, 1981. — 192 с.
- Колосова О.А. Вегетативная регуляция в норме и патологии (клинико-физиологический анализ): Автореф. дис. ... д-ра мед. наук. — М., 1983. — 29 с.
- Коровин А.М., Лепулькальн А.И., Амос Е.Г. Обморочные состояния у детей // Пароксизмальные вегетативные нарушения. — М., 1979. — С. 230—231.
- Ланг Г.Ф. Гипертоническая болезнь. — М.: Медицина, 1950. — 496 с.
- Левин В.М., Рутенбург Э.С. Врачебная профессиональная консультация подростков. — А.: Медицина, 1965. —236 с.
- Лунев Д. К., Усман В.Б. Цереброкардиальный синдром // Клин. мед. — 1975. — № 9. — С. 8—16.
- Маколкин В.И., Аббакумов С.А. Нейроциркуляторная дистония в терапевтической практике.—М.: Медицина, 1985. — 192 с.
- Мальцина В.С. Диэнцефальный (гипоталамический) синдром у детей: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. — М., 1965. — 19 с.
- Маркелов Г.И. Заболевания вегетативной нервной системы. — Киев: Госмедиздат УССР, 1948.—684 с.
- Мартынов Ю.С., Малкова Е.В., Чекнева Н. С. Изменения нервной системы при заболеваниях внутренних органов. — М.: Медицина, 1980. — 224 с.
- Мясников А.Л. Гипертоническая болезнь и атеросклероз. — М., 1965. — 393 с.
- Петленко В.П. Философские вопросы соотношения нормы и патологии // Основные вопросы современной биологии и медицины. — Л., 1967. — С. 86—102.
- Петраков БД. Психическая заболеваемость в некоторых странах в XX веке (социально гигиеническое исследование). — М.: Медицина, 1972. — 300 с.
- Попова Н.В. Вегетативно-сосудистая дистония // Патология вегетативной нервной системы. — Калинин, — С. 9.
- Покалев Г.М. Нейроциркуляторная дистония. — Ниж. Новгород: Изд-во НГМИ, 1994. — 300 с.
- Покалев Г.М., Трошин В.Д. Нужен ли диагноз нейроциркуляторной дистонии? // Журн. невропатол. и психиатр. — 1986. — Вып. 8. — С. 1256—1257.
- Пурахин Ю.Н., Петухов Б.Н. Неврологические изменения у здоровых людей, вызываемые двухмесячной гипокинезией // Космическая биология и медицина. — 1963. — № 3. — С. 51—56.
- Русецкий И.И. Клиническая нейровегетология. — М.: Медицина, 1950. — 292 с.
- Рутенбург Э.С. Возрастные особенности и функциональные отклонения в нервной системе у подростков // Санаторно-курортное лечение подростков. — М., 1971. — С. 34—35.
- Савицкий Н.Н. О номенклатуре и классификации заболеваний сердечно-сосудистой системы неврогенной природы // Клин. мед. — 1964. — Т. 42, № 3. — С. 20—25.
- Сахацкая Т.С. ХИМИЯ адренокортикотропного гормона и его влияние на надпочечник // Пробл. эндокринологии и гормонотерапии. — 1957. — №4. — С. 95—111.
- Сердоковская Г.Н. Итоги развития научных исследований в области гигиены детей и подростков // Вопр. охраны материнства и детства. — 1982. — Т. 27, № 12. —С.25—28.
- Серебрякова P.O. Особенности интеллектуальной деятельности больных с нервно-психическими заболеваниями // Тр. Ленингр. науч.-исслед. психоневролог, ин-та. — Л., 1974. — Т. 72. — С. 125—134.
- Соколов Е.И., Белова Е.В. Эмоции и патология сердца. — М.: Наука, 1983. — 304 с.
- Сорокина Т.А. Нейроциркуляторная дистония. — Рига: Зинатне, 1979. — 176 с.
- Сорокина Т.А. Клиника, классификация и дифференциальная диагностика нейроциркуляторной дистонии // Заболевания сердечно сосудистой системы. — Рига, 1973. — С. 79—87.
- Тополянский В.Д., Струковская М.В. Психосоматические расстройства. — М.; Медицина, 1986. — 384 с.
- Трошин В.Д., Кузнецова Л.А., Гонзова И.П. Цереброкардиальные взаимоотношения при начальных формах сосудистых заболеваний мозга // Клин. мед. — 1979. — № 9. — С. 16—20.
- Ушаков Г.К., Петраков БД., Рыжиков Г.В. Изучение условий возникновения невротических реакций // Условия формирования и пути предупреждения неврозов и аномалий личности. — М., 1972. — С. 5—26.
- Фисун А.Я., Бельчиков Э.В., Пюрецкий А.И. Нейро циркуляторная дистония как предстадия ишемической болезни сердца // Ранняя диагностика и профилактика сердечно сосудистых заболеваний. — Новосибирск, 1983. — Ч. 2. — С. 312—313.
- Ханина С.Б., Ширинская Г.И. Функциональные кардиопатии. — М.: Медицина, 1971. — 184 с.
- Хролов В.А. Здоровье // БМЭ. — М., 1978. — Т. 8. — С. 355—357.
- Чазов Е.И. Эмоциональные стрессы и сердечнососудистые заболевания // Вестн. АМН СССР. — 1975. — № 8. — С. 3—8.
- Чазов Е.И. Руководство по кардиологии.—М.: Медицина, 1982. — T. 1. — 350 с.
- Швед Н.И. Нейроциркуляторная дистония — ранний период развития ишемической и гипертонической болезни сердца // Ранняя диагностика и профилактика сердечно сосудистых заболеваний. — Новосибирск, 1983. — Ч. 2. — С. 333—334.
- Шпак А.В. О некоторых психовегетативных и гуморальных механизмах патогенеза нейроциркуляторной дистонии и хронической ишемической болезни сердца // Клиника, диагностика и лечение нейрогенных соматических заболеваний. — Пермь, 1981. — С. 243—244.
- Шхвацабая И.К. Некоторые вопросы патогенеза гипертонической болезни // Кардиология. — 1972. — № 8. — С. 5.
- Abilskov J.A. The nervous system and cardiac arrhythmias // Circulation. — 1975. — № 52/3. — P. 116—119.
- Atterhög J.-H., Bliassen K., Hiemdall P. Sympathoadrenal and cardiovascular responses to mental stress isometric handgrip and cold pressor test in asympatomic young men with prymary T-wave abnormalities in the electrocardiogram // Br. Heart. J. — 1981. — № 46/3. — P. 311—319.
- Bernard Gl. Legons sur les phenomenes de la vie. — Paris, 1878. — 112 p.
- Биология человека: Пер. с англ. /Дж. Харрисон, Дж.Уайнер, Дж.Тоннер и др.— М.: Мир, 1979. — 610 с.
- Birkmayer W. Klinik und Therapie der vegetativen Dekompensation // Klinische Pathologie des vegetativen Nervensystems. — Jena, 1976. — Bd. 1. — S. 538—556.
- Borsche A. Störuncen der vegetativen Regulation im Kindesalter // Allgemein. Med. — 1976. — Bd. 52, № 13. — S. 675—680.
- Cannon W.B. Organisation for physiological homeostasis // Physiol. Rev. — 1929. — Vol. 9. — P. 399—431.
- Delius L., Fahrenberg I. Psychovegetative Syndrome. — Stuttgart: Georg Thieme Verlag, 1966. — 220 s.
- Eppinger H., Hess L. Die Vagotonie // Samml. klei. Abhandl. über Pathol, und Therapie. — Berlin, 1910. — S. 350—362.
- Falcner F. et al. Предупреждение в детском воз расте состояний, приводящих к заболеваниям у взрослых: Пер. с англ. /Под ред. Ф. Фолкнера. — М.: Медицина, 1982. — 175 с.
- (Gellhorn E., Loofbourrow G.) Гельгорн Э., Луфборроу Дж. Эмоции и эмоциональные расстройства: Пер. с англ. — М.: Мир, 1966. — 665 с.
- Heinisch Н.М. Störungen der vegetativen regulation im Kindesalter // Klinische Pathologie des vegetativen Nervensystems. — Jena, 1977. — Bd. 2. — S. 957—993.
- Hess W.K. Hypothalamus und Thalamus. — Berlin, 1968. — 308 s.
- (Ionescu V.) Ионеску В. Сердечно сосудистые расстройства на грани между нормой и патологией. — Бухарест: Изд во Акад. Соц. Респ. Румынии, 1973. — 203 с.
- Kamran S. Zum Begriff der vegetativen Dystonie. — Bonn, 1967. — 401 s.
- Kellner R. Neurosis in general practice // Brit. J. clin. Pract. — 1965. — Vol. 19, № 12. — P. 681.
- Moruzzi G., Magoun H.W. Brain stem reticular for mation and activation of the B G // J.E G clin. Neurophysiol. — 1949. — Vol. 1. — P. 455.
- Oppenheimer B.S., Levine S.A., Morrison R.A. Psy- choneurotic factor in irritable heart of soldier // JAMA. — 1919. — Vol. 70, № 2. — P. 18—20.
- (Peunesku-Podianu A. ) Пэунеску-Подяну A. Трудные больные: Пер. с рум. — Бухарест: Мед. изд во, 1974 — 200 с.
- Reil J.G. (1807). Цит. по Eppinger H., Hess L. (1910).
- Scheid W. Lehrbuch der Neurologie. — Stuttgart: Veorg-Thieme. Verlag, 1963. — 735 s.
- Schulte W. Evolution clinique de la puberte de la fille // Arch. franc, Pediat. — 1972. — Vol. 29, № 2. — P. 155—168.
- Spyckerelle X., Deschemps J.-P. Le "risque" Cardiovas culaire chez l'enfant et l’adolescent Cocur. — 1984. — Vol. 15—16. — P. 715—730.
- Thielle W. Das psycho-vegetative Syndrom, sein Wesen und seine Behandlung. — Med. Welt, 1966. — Bd. 1. — S. 9—13.
- (Wiliams P.) Уильямс П. Биохимическая индивидуальность. Основы генераторной концепции:Пер англ. — М.: Изд-во иностр. лит., 1960. — 295 с.
- Wichmann В. Das vegetative Syndrom und seine Behandlung // Dtsch. med. Wschr. — 1934. — Bd. 60. — S. 1500—1504.
- Wood P. Diseases of heart and circulation. — Lon don, 1957. — 380 p.
Supplementary files