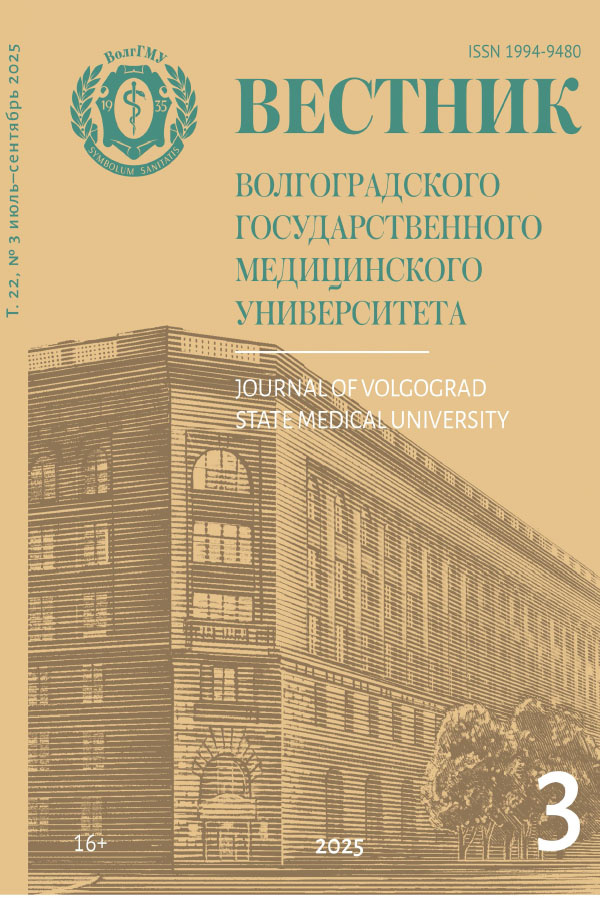Предикторы формирования длительного постковидного синдрома с основным симптомом одышки у больных с тяжелым течением новой коронавирусной инфекции
- Авторы: Масалкина О.В.1, Чернявина А.И.1, Козиолова Н.А.1, Полянская Е.А.1
-
Учреждения:
- Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера
- Выпуск: Том 22, № 3 (2025)
- Страницы: 3-13
- Раздел: Лекция
- URL: https://journals.eco-vector.com/1994-9480/article/view/692196
- DOI: https://doi.org/10.19163/1994-9480-2025-22-3-3-13
- ID: 692196
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Цель исследования: определить предикторы формирования длительного постковидного синдрома с основным симптомом одышки у больных с тяжелым течением новой коронавирусной инфекции (НКВИ).
Материалы и методы исследования. Проведено скрининговое одномоментное клиническое исследование с ретроспективной оценкой течения НКВИ. В течение 4 лет в поликлинику к пульмонологу по поводу одышки спустя 3 и более месяцев после перенесенной НКВИ обратилось 878 пациентов. Длительный постковидный синдром был верифицирован у 205 (23,35 %) больных с основным симптомом одышки без различий по полу, которые были включены в исследование в соответствии с критериями включения и невключения. Госпитализация во время НКВИ определялась как тяжелое течение инфекции. В зависимости от наличия или отсутствия госпитализации во время НКВИ включенные в исследование пациенты с одышкой и длительным постковидным синдромом были разделены на две группы. В первую группу были включены 103 больных с одышкой и длительным постковидным синдромом и тяжелым течением НКВИ, во вторую группу – 102 пациента, течение НКВИ у которых протекало в легкой форме и не требовало госпитализации.
Результаты. Средний возраст пациентов составил (57,15 ± 12,4) лет. Клинико-анамнестический анализ показал, что независимо от тяжести перенесенной НКВИ, группы больных с одышкой после дебюта НКВИ через 7,3 [3,2; 12,8] мес. были сопоставимы по полу, возрасту, факторам сердечно-сосудистого риска, сопутствующей патологии, структуре, частоте и дозам постоянно применяемых лекарственных препаратов, показателям, отражающим состояние сердца, фильтрационной функции почек, феррокинетики, маркерам неспецифического воспаления. Выраженность одышки по опроснику mMRC >2 у больных с тяжелым течением НКВИ в анамнезе взаимосвязана с увеличением отношения шансов (ОШ) формирования длительного постковидного синдрома в 3,704 раза, относительного риска (ОР) – в 1,630 раза; при снижении SaО2 ≤ 96 % после 6-минутного теста ходьбы ОШ увеличивалось в 5,828 раз, ОР – в 1,891 раза; при поражении легких более 45 % во время острого периода НКВИ ОШ увеличивалось в 2,772 раза, ОР – 1,981 раза; при во зникновении тревожности и депрессии более 6 баллов по шкале HADS ОШ увеличивалось в 12,142 раза, ОР – в 2,839 раза; при развитии когнитивных нарушений по шкале MMSE ≤ 27 баллов ОШ увеличивалось в 6,117 раз, ОР – в 4,528 раза; при увеличении N-терминального фрагмента мозгового натрийуретического пропептида более 139 пг/мл ОШ увеличивалось в 5,553 раза, ОР – в 3,962 раза; при концентрации каспазы 6 в крови более 28,8 пг/мл ОШ увеличивалось в 4,861 раза, ОР – в 3,962 раза.
Выводы. Течение длительного постковидного синдрома у больных, перенесших тяжелые формы НКВИ, характеризуется более выраженной одышкой, наличием множественных симптомов, ухудшающих качество жизни, статистически более значимым снижением толерантности к физической нагрузке. Наличие и выраженность тревожности, депрессии, когнитивных нарушений, повышенный уровень миокардиального стресса, оцененного по уровню NT-proBNP и паноптоза, оцененного по уровню каспазы 6 в диапазоне нормальных значений, являются предикторами развития длительного постковидного синдрома у больных с одышкой, перенесших тяжелое течение НКВИ в остром периоде.
Полный текст
Вирус SARS-CoV-2 стал частью нашей биосферы, он продолжает мутировать, что приводит к появлению новых штаммов, которые могут быть потенциально более вирулентными, устойчивыми к существующим вакцинам или вызывать тяжелые осложнения. Так, к концу ноября 2024 г. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о более чем 776 млн случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (НКВИ) и около 7 млн подтвержденных случаев смерти от COVID-19 [1].
Распространенность длительного постковидного синдрома сохраняется на высоком уровне и составляет от 40 до 60 % с увеличением длительности его персиcтенции [2, 3].
Всемирная организация здравоохранения определяет постковидный синдром или «long-Covid» как развитие новых симптомов через 3 мес. после первоначальной инфекции SARS-CoV-2, при этом эти симптомы сохраняются не менее 2 мес. без другого объяснения причин [4]. Синдром включает в себя широкий спектр симптомов, таких как усталость, одышка, когнитивные нарушения и другие проявления заболевания, которые могут сохраняться месяцы и годы после острой фазы заболевания.
В настоящее время остается много нерешенных проблем длительного постковидного синдрома, такие как: ранняя диагностика, взаимосвязь с тяжестью течения НКВИ, разработка схем лечения данной патологии, а также диспансерное наблюдение. По мнению многих экспертов, НКВИ, приобретая черты сезонной инфекции, сохраняет свой высокий потенциал развития длительного постковидного синдрома, значительно ухудшающего качество жизни [5].
Вклад тяжелого течения НКВИ в формирование длительного постковидного синдрома является предметом дискуссии в последнее время. Понимание этого процесса позволит оптимизировать лечение таких пациентов, а также разработать стратегии по профилактике и реабилитации.
ЦЕЛЬ РАБОТЫ
Определить предикторы формирования длительного постковидного синдрома с основным симптомом одышки у больных с тяжелым течением НКВИ.
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование было выполнено в соответствии со стандартами надлежащей клинической практики (Good Clinical Practice) и принципами Хельсинкской декларации. Протокол исследования был одобрен Этическим комитетом. До включения в исследование у всех участников было получено письменное информированное согласие.
Проведено скрининговое одномоментное клиническое исследование с ретроспективной оценкой течения НКВИ.
Длительный постковидный синдром верифицировался согласно критериям Национального института передового опыта в области здравоохранения Великобритании, которые определялись наличием признаков и симптомов, развивающихся во время или после инфекции, соответствующей COVID-19, продолжающихся более 12 недель при отсутствии других альтернативных диагнозов [6].
В течение 4 лет в поликлинику к пульмонологу по поводу одышки спустя 3 и более мес. после перенесенной НКВИ обратилось 878 пациентов. Длительный постковидный синдром был верифицирован у 205 (23,35 %) больных с основным симптомом одышки без различий по полу, которые были включены в исследование в соответствии с критериями включения и невключения.
Критерии включения: амбулаторные пациенты с ведущим симптомом одышки в возрасте 18 лет и старше с длительным постковидным синдромом.
Критериями невключения в исследование явились: перенесенная НКВИ давностью менее 3 мес., наличие других альтернативных диагнозов, сопровождающихся одышкой (острая респираторная вирусная инфекция или пневмония с отрицательным ПЦР-тестом на НКВИ; обострение хронической обструктивной болезни легких, прогрессирование течения бронхиальной астмы; тяжелый пневмофиброз в анамнезе и при обращении, эмфизема легких в анамнезе и при обращении; острый коронарный синдром при обращении; тромбоэмболия легочной артерии в анамнезе и при обращении, клапанные пороки), тяжелые заболевания печени в анамнезе, хроническая болезнь почек 4–5-й стадии, рассчитанная по скорости клубочковой фильтрации (СКФ), в том числе диализ, трансплантация; заболевания крови и аутоиммунные заболевания в анамнезе; дисфункция щитовидной железы в анамнезе и при обращении; сахарный диабет 1-го типа; онкологические заболевания в анамнезе и при обращении; тяжелая деменция и психические расстройства, препятствующие подписанию информированного согласия и контакту с пациентом.
Госпитализация во время НКВИ определялась как тяжелое течение инфекции.
В зависимости от наличия или отсутствия госпитализации во время НКВИ включенные в исследование пациенты с одышкой и длительным постковидным синдромом были разделены на две группы. В первую группу были включены 103 больных с одышкой и длительным постковидным синдромом и тяжелым течением НКВИ, во вторую группу – 102 пациента, течение НКВИ у которых протекало в легкой форме и не требовало госпитализации.
Всем пациентам проводилось общеклиническое обследование.
Для оценки одышки использовали шкалу mMRC: модифицированный опросник Британского медицинского исследовательского совета для оценки тяжести одышки.
Всем больным исследовали показатели феррокинетики: сывороточное железо, общую железосвязывающую способность крови, концентрацию ферритина, трансферрина в сыворотке крови, коэффициент насыщения трансферрина железом.
Для оценки структурно-функциональных показателей сердца всем больным проводилась эхокардиография (ЭхоКГ) на ультразвуковом сканере Vivid S5 (General Electric, США) в соответствии с рекомендациями Американского и Европейского общества ЭхоКГ.
Для оценки выраженности миокардиального стресса определяли концентрацию Nt-proBNP в крови методом ИФА ELISA на анализаторе Expert Plus Microplate reader ("Biochrom Ltd.", Великобритания) с использованием набора реагентов «Nt-proBNP-ИФА-БЕСТ» (Россия, Новосибирск).
Для оценки фильтрационной функции почек определяли концентрацию креатинина и цистатина С в крови, производился расчет СКФ по формуле CKD-EPIcre и CKD-EPIcys с помощью online калькулятора, а также соотношение альбумина/белка мочи к креатинину мочи в утренней порции. Концентрацию цистатина С в сыворотке крови определяли методом иммуноферментного анализа (ИФА) ELISA на анализаторе Expert Plus Microplate reader ("Biochrom Ltd.", Великобритания) с использованием набора реагентов «Цистатин С – ИФА-БЕСТ» («Вектор Бест», Россия, Новосибирск).
Для оценки выраженности неспецифического воспаления определяли в крови фактор некроза опухоли альфа и интерлейкин-6 методом ИФА с использованием набора реактивов компании АО «Вектор-Бест» (Россия) на анализаторе «Lazurite» (Dynex Technologies Inc., США).
Для оценки апоптоза определяли концентрацию каспазы-6 методом ИФА с использованием набора реактивов SEA 552Hu компании Cloud-Clone Corp. (США-Китай) на фотометре (ридере) Stat Fax 2100 (Awareness technology, США).
Для определения тревожности и депрессии использовалась Госпитальная шкала тревоги и депрессии (Hospital Anxiety and Depression Scale, HADS). Сумма баллов от 0 до 7 расценивалась как отсутствие симптомов тревоги и депрессии, 8–10 баллов – как субклинически выраженная тревога / депрессия, 11 баллов и выше – клинически выраженная тревога / депрессия.
Для выявления когнитивных нарушений считали краткую шкалу оценки психического статуса MMSE (Mini Mental State Examination). Интерпретация результатов шкалы MMSE была следующей: 28 баллов – легкие когнитивные нарушения; 25–27 баллов – умеренные когнитивные нарушения; 20–24 балла – легкая деменция; 10–19 баллов – умеренная деменция; <10 баллов – тяжелая деменция.
Для оценки качества жизни был использован тест CAT (COPD Assessment Test), применяющийся для оценки качества жизни пациентов с хронической обструктивной болезнью легких. Значения: 0–10 баллов – незначительное влияние; 11–20 баллов – умеренное; 21–30 баллов – сильное; 31–40 баллов – чрезвычайно сильное.
Статистическая обработка данных производилась с помощью пакета программ STATISTICA 10.0. При проведении статистической обработки данных критическое значение уровня статистической значимости при проверке нулевых гипотез принималось равным 0,05. Проверка нормальности распределения признаков в группах проводилась с использованием критериев Шапиро – Уилка и Колмогорова – Смирнова. Для количественных признаков, соответствующих закону нормального распределения, производился расчет средних арифметических значений и среднеквадратических отклонений (M ± SD), при распределении, не соответствующем закону нормального распределения, определялась медиана с нижним и верхним квартилем (Med [LQ; UQ]) или 95%-й доверительный интервал (ДИ). Для качественных признаков были рассчитаны абсолютная частота проявления признака, частота проявления признака в процентах (%). При сравнении количественных показателей при нормальном распределении значений применялся критерий Стьюдента, при сравнении показателей, не соответствующих закону нормального распределения, для статистического анализа использовали критерий Манна – Уитни, для качественных – критерий χ2. Для изучения взаимосвязи между количественными признаками, соответствующими закону нормального распределения, применяли корреляционный анализ Пирсона, при несоответствии закону нормального распределении и при ранжированных данных – корреляционный анализ Спирмена, между качественными признаками – использовали коэффициент взаимной сопряженности А.А. Чупрова. В соответствии с рекомендациями Rea и Parker определяли уровень значимости полученных взаимосвязей: при значении критерия <0,1 – очень слабая, 0,1 < 0,2 – слабая, 0,2 < 0,4 – средняя, при значении 0,4 < 0,6 – относительно сильная, при значении 0,6 < 0,8 – сильная, 0,8 < 1,0 – очень сильная. Для показателей кандидатов-предикторов развития длительного постковидного синдрома с основным симптомом одышки у больных с тяжелым течением НКВИ в анамнезе определяли точку отсечения с помощью метода построения ROC-кривой для всех значений с расчетом количественного показателя AUC (Area Under Curve) >0,5 при p < 0,05 и операционных характеристик чувствительности и специфичности. Для определения отношения шансов (ОШ), относительного риска (ОР) и 95%-го ДИ для ОШ и ОР были составлены таблицы сопряженности 2 × 2, рассчитан χ2 с вычислением достигнутого уровня значимости с поправкой Йетса на непрерывность.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Средний возраст пациентов составил (57,15 ± 12,4) года.
Клинико-анамнестический анализ показал, что независимо от тяжести перенесенной НКВИ, группы больных с одышкой после дебюта НКВИ через 7,3 [3, 2; 12, 8] мес. были сопоставимы по полу, возрасту, факторам сердечно-сосудистого риска, сопутствующей патологии, структуре, частоте и дозам постоянно применяемых лекарственных препаратов, показателям, отражающим состояние сердца, фильтрационной функции почек, феррокинетики, маркерам неспецифического воспаления.
В таблице представлены статистически значимо отличающиеся показатели по группам обследуемых.
Статистически значимо отличающиеся показатели по группам обследуемых (n = 205)
Показатель | Первая группа (тяжелое течение НКВИ, n = 103) | Вторая группа (нетяжелое течение НКВИ n = 102) | Р |
mMRC-опросник | 2,73 ± 0,86 | 1,90 ± 0,74 | 0,001 |
Тест 6MWT | 420,68 ± 66,99 | 483,2 ± 57,7 | 0,008 |
SaО2 %, после теста 6MWT | 94,44 ± 3,10 | 97,50 ± 0,97 | < 0,001 |
Количество больных с поражением легких по данным рентгенографии при развитии НКВИ, абс. / % | 71/68,9 | 20/19,5 | < 0,001 |
Средний объем поражения легких по данным рентгенографии в острый период НКВИ, % | < 0,001 | ||
HADS шкала, балл | 9,53 ± 2,05 | < 0,001 | |
HADS шкала, 0–7 баллов, абс./% | 32/31,1 | 94/92,2 | < 0,001 |
HADS шкала, 8210 баллов, абс./% | 61/59,2 | 5/4,9 | < 0,001 |
HADS шкала, 11 и более баллов, абс./% | 10/9,7 | 3/2,9 | 0,089 |
MMSE шкала, балл | 27,29 ± 1,62 | 29,01 ± 1,05 | < 0,001 |
MMSE шкала, 29–30 баллов, абс./% | 46/44,7 | 67/65,7 | 0,005 |
MMSE шкала, 28 баллов, абс./% | 25/24,3 | 28/27,5 | 0,719 |
MMSE шкала, 25–27 баллов, абс./% | 30/29,1 | 7/6,9 | < 0,001 |
MMSE шкала, 20–24 баллов, абс./% | 1/1,0 | 0/0 | 0,998 |
MMSE шкала, 10–19 баллов, абс./% | 1/1,0 | 0/0 | 0,998 |
NT-proBNP, пг/мл | 0,026 | ||
Каспаза 6, пг/мл | 0,028 | ||
САТ-опросник | 22,41 ± 4,75 | 15,10 ± 5,04 | < 0,001 |
Примечание. НКВИ – новая коронавирусная инфекция; mMRC – The Modified Medical Research Council Dyspnea Scale; 6MWT – Six-Minute Walk Test; SaО2 – сатурация артериальной крови кислородом; HADS – Hospital Anxiety and Depression Scale); MMSE – Mini-Mental State Examination; NT-proBNP – N-терминальный фрагмент мозгового натрийуретического пропептида.
Пациенты с одышкой и длительным постковидным синдромом, пережившие тяжелое течение НКВИ с госпитализацией, имели более выраженную одышку по mMRC-опроснику при включении в исследование, более низкие значение теста 6-минутной ходьбы и сатурации после теста, статистически больший объем поражения легких во время НКВИ, более высокие уровни тревоги и депрессии по шкале HADS, более выраженную степень когнитивных расстройств по шкале MMSE и более низкий уровень качества жизни. Концентрация Nt-proBNP и каспазы-6 были статистически выше в первой группе, чем во второй.
Корреляционный анализ Спирмена продемонстрировал прямую сильную взаимосвязь между выраженностью одышки, оцененной по mMRC-опроснику c длительноcтью постковидного синдрома у больных с тяжелым течением НКВИ в острый период (r = 0,425, p < 0,001).
При построении ROC-кривой для всех значений по mMRC-опроснику была получена точка отсечения 2 балла (AUC = 0,774, p < 0,001) (рис. 1). Чувствительность и специфичность данного параметра составили 67,7 и 80,0 % соответственно.
Рис. 1. ROC-кривая для опросника mMRC >2 баллов у больных с одышкой, перенесших тяжелое течение НКВИ, как предиктора развития длительного постковидного синдрома
У больных первой группы, переживших тяжелое течение НКВИ, выраженность одышки по опроснику mMRC >2 была определена у 79 (76,7 %) пациентов, у больных второй группы с легким течением НКВИ – у 48 (47,1 %) обследуемых (p < 0,001). При выполнении расчета ОШ и ОР получены следующие данные: выраженность одышки по опроснику mMRC >2 у больных с тяжелым течением НКВИ в анамнезе взаимосвязана с увеличением ОШ формирования длительного постковидного синдрома в 3,704 раза (95%-й ДИ = 1,951–7,069), ОР – в 1,630 раза (95%-й ДИ = 1,288–2,036).
Корреляционный анализ продемонстрировал обратную сильную взаимосвязь между уровнем SaО2 % после теста 6-минутной ходьбы у больных с одышкой на фоне постковидного синдромом с длительноcтью постковидного синдрома у больных с тяжелым течением НКВИ в острый период (r = -0,528, p < 0,001).
При построении ROC-кривой для всех значений SaО2 % после теста 6-минутной ходьбы была получена точка отсечения ≤96 % (AUC = 0,859, p < 0,001) (рис. 2). Чувствительность и специфичность данного параметра составили 73,5 и 90,0 % соответственно.
Рис. 2. ROC-кривая для SaО2 ≤ 96 % после 6-минутного теста ходьбы у больных с одышкой, перенесших тяжелое течение НКВИ, как предиктора развития длительного постковидного синдрома
В первой группе у 84 (81,6 %) больных было зарегистрировано снижение SaО2 ≤ 96 % после 6-минутного теста ходьбы, во второй группе – у 44 (43,1 %) пациентов (p < 0,001). Было рассчитано, что при снижении SaО2 ≤ 96 % после 6-минутного теста ходьбы у больных с одышкой, перенесших тяжелое течение НКВИ, ОШ развития длительного постковидного синдрома увеличивалось в 5,828 раз (95%-й ДИ = 2,960–11,574), ОР – в 1,891 раза (95%-й ДИ = 1,495–1,341).
Корреляционный анализ продемонстрировал у больных с одышкой на фоне длительного постковидного синдрома прямую высокой силы взаимосвязь между объемом поражения легких по данным рентгенографии в острый период НКВИ с длительноcтью постковидного синдрома у больных с тяжелым течением НКВИ (r = 0,731, p < 0,001).
При построении ROC-кривой для всех значений объема поражения легких в % в острый период НКВИ у больных с одышкой и длительным постковидным синдромом была получена точка отсечения >45 % (AUC = 0,878, p < 0,001) (рис. 3). Чувствительность и специфичность данного параметра составили 64,4 и 100,0 % соответственно.
Рис. 3. ROC-кривая для объема поражения легких >45 % в острый период НКВИ у больных с одышкой, перенесших тяжелое течение НКВИ, как предиктора развития длительного постковидного синдрома
В первой группе по данным ретроспективной оценки течения НКВИ 46 (44,7 %) больных перенесли пневмонию с поражением >45 % легких в острый период, во второй группе – 23 (22,5 %) пациента (p = 0,002). ОШ составило 2,772 (95%-й ДИ = 1,451–5,321), ОР – 1,981 (95%-й ДИ = 1,281–3,124) для развития длительного постковидного синдрома у больных с одышкой, перенесших тяжелое течение НКВИ при поражении легочной ткани более 45 %.
У 61 (59,2 %) и 10 (9,7 %) больных первой группы, у 5 (4,9 %) и 3 (2,9 %) пациентов второй группы выявлены субклинические признаки и клинически выраженные симптомы тревоги и депрессии по шкале HADS (p < 0,001 и p = 0,089 между группами соответственно).
Корреляционный анализ продемонстрировал у больных с одышкой на фоне длительного постковидного синдрома прямую высокой силы взаимосвязь между уровнем тревожности и депрессии по шкале HADS с длительноcтью постковидного синдрома у больных с тяжелым течением НКВИ (r = 0,690, p < 0,001).
При построении ROC-кривой для всех значений баллов по шкале HADS была получена точка отсечения >6 баллов (AUC = 0,972, p < 0,001) (рис. 4). Чувствительность и специфичность данного параметра составили 94,1 и 90,0 % соответственно.
Рис. 4. ROC-кривая для HADS >6 баллов у больных с одышкой, перенесших тяжелое течение НКВИ, как предиктора развития длительного постковидного синдрома
В первой группе HADS >6 баллов рассчитан у 86 (83,5 %) больных, во второй группе – у 30 (29,4 %) пациентов (p < 0,001). При возникновении тревожности и депрессии более 6 баллов по шкале HADS у больных с одышкой, перенесших тяжелое течение НКВИ в острый период, увеличивается ОШ формирования длительного постковидного в 12,142 раза (95%-й ДИ = 5,905–25,279), ОР – в 2,839 раза (95%-й ДИ = 2,133–3,704).
У 57 (55,3 %) больных первой группы и 35 (34,3 %) пациентов второй группы выявлены преимущественно легкие и умеренно выраженные когнитивные нарушения по шкале MMSE (p = 0,005).
Корреляционный анализ продемонстрировал у больных с одышкой и длительным постковидным синдромом обратную сильную взаимосвязь между выраженностью когнитивных нарушений, оцененных по шкале MMSE, с длительноcтью постковидного синдрома у больных с тяжелым течением НКВИ в острый период (r = –0,609, p < 0,001).
При построении ROC-кривой для всех значений баллов по шкале MMSE была получена точка отсечения ≤ 27 баллов (AUC = 0,915, p < 0,001) (рис. 5). Чувствительность и специфичность данного параметра составили 73,5 и 90,0 % соответственно.
Рис. 5. ROC-кривая для MMSE ≤ 27 баллов у больных с одышкой, перенесших тяжелое течение НКВИ, как предиктора развития длительного постковидного синдрома
В первой группе зарегистрировано 32 (31,1 %) больных с MMSE ≤ 27 баллов, во второй группе – 7 (6,9 %) пациентов (p < 0,001). При выполнении расчета ОШ и ОР получены следующие данные: при развитии когнитивных нарушений по шкале MMSE ≤ 27 баллов у больных с одышкой, перенесших тяжелое течение НКВИ в острый период, увеличивается ОШ развития длительного постковидного синдрома в 6,117 раза (95%-й ДИ = 2,405–16,205), ОР – в 4,528 раза (95%-й ДИ = 2,047–10,926).
Корреляционный анализ продемонстрировал у больных с одышкой и длительным постковидным синдромом прямую средней силы взаимосвязь между концентрацией NT-proBNP в крови с длительноcтью постковидного синдрома у больных с тяжелым течением НКВИ в острый период (r = 0,360, p = 0,026).
При построении ROC-кривой для всех значений NT-proBNP была получена точка отсечения >139 пг/мл (AUC = 0,671, p < 0,001) (рис. 6). Чувствительность и специфичность данного параметра составили 54,4 и 75,2 % соответственно.
Рис. 6. ROC-кривая для Nt-proBNP >139 пг/мл у больных с одышкой, перенесших тяжелое течение НКВИ, как предиктора развития длительного постковидного синдрома
В первой группе у 36 (35,0 %) больных было определено увеличение Nt-proBNP более 139 пг/мл, во второй группе – у 9 (8,8 %) пациентов (p < 0,001). У больных с одышкой, перенесших тяжелое течение НКВИ в остром периоде, при увеличении Nt-proBNP более 139 пг/мл ОШ развития длительного постковидного синдрома увеличивается в 5,553 раза (95%-й ДИ = 2,372–13,347), ОР – в 3,962 (95%-й ДИ = 1,973–8,515). Корреляционный анализ у больных с одышкой продемонстрировал прямую высокой силы взаимосвязь между концентрацией каспазы-6 в диапазоне референсных значений с длительноcтью постковидного синдрома у больных, перенесших тяжелое течение НКВИ в острый период (r = 0,628, p = 0,028).
При построении ROC-кривой для всех значений каспазы-6 была получена точка отсечения >28,8 пг/мл (AUC = 0,658, p = 0,024) (рис. 7). Чувствительность и специфичность данного параметра составили 62,5 и 74,3 % соответственно.
Рис. 7. ROC-кривая для каспазы 6 >28,8 пг/мл у больных с одышкой, перенесших тяжелое течение НКВИ, как предиктора развития длительного постковидного синдрома
В первой группе у 24 (23,3 %) больных определено значение каспазы-6 более 28,8 пг/мл, во второй группе – у 6 (5,9 %) пациентов (p = 0,002). По мере возрастания концентрации каспазы-6 в крови более 28,8 пг/мл у больных с одышкой, перенесших тяжелое течение НКВИ в острый период, увеличивается ОШ развития длительного постковидного синдрома в 4,861 раза (95%-й ДИ = 1,773–14,025), ОР – в 3,962 раза (95%-й ДИ = 1,633–10,557).
Корреляционный анализ продемонстрировал прямую сильную взаимосвязь между уровнем качества жизни, оцененным по опроснику САТ, с длительноcтью постковидного синдрома у больных, перенесших тяжелое течение НКВИ в острый период (r = 0,729, p < 0,001).
При построении ROC-кривой и оценке всех значений по САТ-опроснику была получена точка отсечения >21 балла (AUC = 0,864, p < 0,001) (рис. 8). Чувствительность и специфичность данного параметра составили 100,0 и 66,7 % соответственно.
Рис. 8. ROC-кривая для показателя САТ >21 балла у больных с одышкой, перенесших тяжелое течение НКВИ, как предиктора развития длительного постковидного синдрома
В первой группе у 61 (59,2 %) больного количество баллов по опроснику САТ превышало 21 балл, во второй группе – у 22 (21,6 %) пациентов (p < 0,001). Наличие не только одышки, но и других симптомов, ухудшающих качество жизни, оцененное по опроснику САТ и превышающее 21 балл, у больных, перенесших тяжелое течение НКВИ в острый период, увеличивает ОШ развития длительного постковидного синдрома в 5,282 раза (95%-й ДИ = 2,740–10,255), ОР – в 2,746 раза (95%-й ДИ = 1,830–4,216).
В нашем исследовании распространенность длительного постковидного синдрома, изученная по обращаемости к пульмонологу в поликлинику, составила 23,35 % среди 878 больных с одышкой, перенесших НКВИ. Постковидный период составил 7,3 [3, 2; 12, 8] мес. от начала НКВИ. В метаанализе Sk Abd Razak R. и соавт. была продемонстрирована более высокая распространенность длительного постковидного синдрома, которая составила 41,79 % и снижалась при увеличении времени наблюдения за больными: через ≥ 3 мес., ≥ 6 мес., ≥ 12 мес. и составляла 45,06 % (95%-й ДИ: 41,25–48,87 %), 41,30 % (95%-й ДИ: 34,37–48,24 %) и 41,32 % (95%-й ДИ: 39,27–43,37 %) соответственно [2]. Как и в нашем исследовании, распространенность длительного постковидного синдрома, стратифицированного по полу, не продемонстрировала гендерных различий и составила 47,23 % (95%-й ДИ: 44,03–50,42 %) у мужчин и 52,77 % (95%-й ДИ: 49,58–55,97 %) у женщин.
В метаанализе, представленным Fernández-de-Las-Peñas C. и соавт., показано, что длительный постковидный синдром присутствуют более чем у 60 % пациентов, инфицированных SARS-CoV-2, а усталость и одышка явились наиболее распространенными симптомами после COVID-19, особенно через 60 и ≥ 90 дней [3]. Эти значительные различия по распространенности длительного постковидного синдрома связаны с выбором его диагностических критериев, длительностью наблюдения за больными и преобладании определенной структуры симптомов.
Данные нашего исследования совпадают с результатами других работ, согласно которым у пациентов, госпитализированных в стационар в отделение интенсивной терапии с тяжелым течением НКВИ, формируется чаще длительный тяжелый постковидный синдром [7]. Так, в многоцентровом контролируемом исследовании Scolari F.L. и соавт. было найдено, что у больных, перенесших тяжелый острый респираторный дистресс синдром (ОРДС) в острый период НКВИ, различные проявления длительного постковидного синдрома регистрируются у 73,6 % даже через 22 мес. после перенесенной инфекции COVID 19 [8]. Нарушения функции легких встречались наиболее часто. По данным метаанализа 48 публикаций, в который было включено 11693 больных НКВИ, 85 % из которых перенесли ОРДС, было определено, что люди, пережившие ОРДС, могут испытывать снижение качества жизни, физические и психические нарушения еще в течение 5 лет после выписки из отделения интенсивной терапии [9].
Известно, что у больных, перенесших ОРДС во время НКВИ, формируется три фазы течения заболевания: экссудативная, пролиферативная, фибротическая, длительность которых может составлять более 5 лет [3]. В экссудативной фазе происходит высвобождение провоспалительных цитокинов, таких как интерлейкин-1β, факторы некроза опухоли и интерлейкин-6, приток нейтрофилов и нарушение эндотелиально-эпителиального барьера, что приводит к дыхательной недостаточности. Во время пролиферативной и фибротической фазы фибробласты и миофибробласты накапливаются в альвеолярном отсеке, что приводит к чрезмерному отложению компонентов матрицы, включая фибронектин, коллаген I и коллаген III. В нашем исследовании мы показали, что почти у 50 % в группе госпитализированных больных поражение легких в острый период НКВИ составило более 45 %. В исследовании Iversen K.K. и соавт. подтвердили, что даже легкая инфекция COVID-19 влияет на функцию легких, а время восстановления примерно 2 года после заражения [10]. Mehta P. и соавт. доказали, что легкие являются основной мишенью для НКВИ, если первые волны COVID-19 были высокопатогенными и поражение легких проявлялось в виде организующейся пневмонии, острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС), при этом степень фиброзирующего потенциала тяжелого ОРДС, вызванного SARS-CoV-2 заболевания были неясны, то в настоящее время доказано, что у пациентов может развиться интерстициальное поражение легких после COVID-19 независимо от наличия ОРДС во время острой фазы [11].
В нашем исследовании у 55,3 % больных с одышкой и длительным постковидным синдромом, перенесшим тяжелое течение НКВИ, выявлены когнитивные нарушения. Высокая частота когнитивных нарушений также обнаружена в исследовании Cabello Fernandez C. и соавт. даже у больных в среднем через (20,9 ± 8,6) мес. после заражения НКВИ [12], хотя у пациентов в анамнезе регистрировалось преимущественно легкое и умеренное течение НКВИ в острый период (87,8 %). Нейропсихологическая оценка показала когнитивные нарушения по крайней мере в одной области у 72 % пациентов, в основном в функциях внимания и исполнительских функциях. Более 80 % больных сообщили о проблемах со сном и наличие усталости, 97 % – о проблемах с концентрацией внимания и около 80 % о проблемах с памятью и поиском слов. В метаанализе, представленном Giussani G. и соавт., в котором принимали участие 1 542 300 пациентов с заболеванием COVID-19, неврологические расстройства были самыми распространенными во время острой фазы COVID-19, это были такие симптомы, как аносмия/гипосмия, усталость, головная боль, энцефалопатия, когнитивные нарушения и цереброваскулярные заболевания [13]. Через три месяца наблюдения совокупная распространенность усталости, когнитивных нарушений и нарушений сна составляла более 20 %. При шести- и девятимесячном наблюдении была тенденция к дальнейшему увеличению распространенности усталости, когнитивных нарушений, нарушений сна, аносмии/гипосмии и головной боли. При 12-месячном наблюдении распространенность когнитивных нарушений снизилась, но высокими оставались некоторые расстройства, такие как усталость и аносмия.
Формирование определенных патофизиологических механизмов когнитивных нарушений в постковидный период связано, прежде всего с последствиями гипоксии головного мозга в результате тяжелого течения НКВИ, прямым нейротропным действием вируса, сосудистыми нарушениями, иммунными сдвигами в организме больного. Следует отметить, что когнитивные расстройства в постковидный период могут быть следствием и декомпенсации уже существующих заболеваний, таких как хроническая ишемия мозга, артериальная гипертензия [14].
В нашем исследовании у 68,9 % больных с одышкой, перенесших тяжелое течение НКВИ, при длительном постковидном синдроме регистрируются симптомы тревоги и депрессии, что указывает на высокую частоту данного показателя. Эти данные подтверждаются результатами большого эпидемиологического исследования, которое показало, что пандемия НКВИ оказала глубокое влияние на глобальное бремя депрессивных и тревожных расстройств, которое резко возросло всего за два года [15]. По данным исследования Sorets T.R. и соавт. среди больных, направленных в неврологические и психиатрические клиники после НКВИ, независимо от тяжести инфекции в острый период, у 42 % выборки были найдены эмоциональные проблемы, связанные с депрессией, и в первую очередь, это было обусловлено физиологическими аспектами депрессии [16]. От 15 до 27 % пациентов имели проблемы, связанные с тревогой. Более 80 % выборки потребовалась психотерапия, а 12–15 % пытались покончить жизнь самоубийством или были госпитализированы по психиатрическим причинам. С нейропсихологической точки зрения, это может быть следствием дисфункции в центральной нервной системе, а именно ствола головного мозга, лимбической системы, префронтальной коры и обонятельного тракта, то есть поражения звеньев функциональных систем высших психических функций, в патогенезе которого немаловажная роль отводится повреждению эндотелия сосудов вследствие прямого цитопатического воздействия вируса, а также является следствием тромбоза сосудов мелкого и среднего калибра, приводящего к ишемии головного мозга [13].
В нашем исследовании мы выявили, что NT-proBNP более 139 пг/мл является предиктором развития длительного постковидного синдрома у больных с одышкой, перенесших тяжелое течение НКВИ. Мы предполагаем, что увеличение NT-proBNP при длительном постковидном синдроме является отражением миокардиального стресса правого желудочка, дисфункция которого взаимосвязана с фиброзом легких после НКВИ-пневмонии. Так, в исследовании Wang L. и соавт. было показано, что повышенный уровень NT-proBNP положительно коррелировал с уровнями тяжелой пневмонии, тяжестью повреждения легких по данным компьютерной томографии и, независимо от других показателей, был ассоциирован со смертностью от всех причин [17]. Длительный постковидный синдром является пансосудистым заболеванием, при этом микрососудистая эндотелиальная дисфункция играет центральную роль.
В ходе нашего исследования было показано, что по мере увеличения концентрации каспазы-6 в крови у пациентов с одышкой, перенесших тяжелое течение НКВИ, увеличивается риск развития длительного постковидного синдрома. Доказано, что активация каспазы-6 регулирует воспалительный процесс с помощью белков ZBP1-NLRP3, которые являются врожденным иммунным сенсором вирусной инфекции и запускают гибель воспалительных клеток в виде паноптоза, а ее увеличение связано с процессом уничтожения воспалительных клеток, что обеспечивает защиту пациента от инфекции. Роль каспаз в подавлении воспаления показана в экспериментальных исследованиях с COVID-19 [18].
Результаты нашего исследования нашли подтверждение в метаанализе, представленном Giussani G. и соавт., относительно значительного снижения качества жизни у пациентов с длительным постковидным синдромом [13]. В 63 контролируемых когортных исследованиях, охватывающих более 96 млн участников, обнаружили снижение общего качества жизни между у больных с подтвержденной инфекцией SARS-CoV-2 по сравнению с контрольной группой при наблюдении от 6 до 24 мес.
Ограничением данного исследования является отсутствие достаточного объема данных у больных до НКВИ, позволяющих более точно установить причины формирования длительного постковидного синдрома. Мы исключили из исследования пациентов с ухудшением или обострением течения коморбидных заболеваний, но формирование длительного постковидного синдрома у данной категории больных является еще более приоритетной задачей внутренней медицины.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Распространенность длительного постковидного синдрома через 7,3 [3, 2; 12, 8] месяца от начала НКВИ по обращаемости к пульмонологу в течение 4 лет среди 878 больных с одышкой составила 23,35 %. Течение длительного постковидного синдрома у больных, перенесших тяжелые формы НКВИ, характеризуется более выраженной одышкой, наличием множественных симптомов, ухудшающих качество жизни, статистически более значимым снижением толерантности к физической нагрузке. Наличие и выраженность тревожности, депрессии, когнитивных нарушений, повышенный уровень миокардиального стресса, оцененного по уровню NT-proBNP и паноптоза, оцененного по уровню каспазы-6 в диапазоне нормальных значений, являются предикторами развития длительного постковидного синдрома у больных с одышкой, перенесших тяжелое течение НКВИ в остром периоде.
Об авторах
Ольга Владимировна Масалкина
Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера
Автор, ответственный за переписку.
Email: omasalkina@mail.ru
ORCID iD: 0009-0006-3364-0591
кандидат медицинских наук, доцент кафедры внутренних болезней и кардиологии
Россия, ПермьАнна Ивановна Чернявина
Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера
Email: anna_chernyavina@list.ru
ORCID iD: 0000-0002-0051-6694
доктор медицинских наук, доцент кафедры внутренних болезней и кардиологии
Россия, ПермьНаталья Андреевна Козиолова
Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера
Email: nakoziolova@mail.ru
ORCID iD: 0000-0001-7003-5186
доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой внутренних болезней и кардиологии
Россия, ПермьЕлена Александровна Полянская
Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера
Email: eapolyanskaya@gmail.com
ORCID iD: 0000-0002-3694-3647
доктор медицинских наук, доцент кафедры внутренних болезней и кардиологии
Россия, ПермьСписок литературы
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Эпидемиологическая сводка COVID-19 – 6 ноября 2024 г. URL: https://www.covid19.who.int/November2024.
- Sk Abd Razak R., Ismail A., Abdul Aziz A.F., Suddin L.S., Azzeri A., Sha'ari N.I. Post-COVID syndrome prevalence: systematic review and meta-analysis. BMC Public Health. 2024;24(1):1785. doi: 10.1186/s12889-024-19264-5.
- Fernandez-de-Las-Peñas C., Notarte K.I., Macasaet R., Velasco J.V., Catahay J.A., Ver A.Th. et al. Persistence of post-COVID symptoms in the general population two years after SARS-CoV-2 infection: A systematic review and meta-analysis. Journal of Infection. 2024;88(2):77–88. doi: 10.1016/j.jinf.2023.12.004.
- WHO, Post COVID-19 condition (Long COVID). Published (2022) December 7. URL: https://www.who.int/europe/news-room/fact-sheets/item/post-covid-19-condition (accessed: 23.01.2024).
- Oronsky B., Larson C., Hammond T.C., Oronsky A., Kesari S., Lybeck M. et al. A Review of Persistent Post-COVID Syndrome (PPCS). Clinical reviews in allergy & immunology. 2023;64(1):66–74. doi: 10.1007/s12016-021-08848-3.
- NICE. COVID-19 rapid guideline: managing the long-term effects of COVID-19. Published March 11, 2022. URL: https://www.nice.org.uk/guidance/ng188/resources/covid19-rapid-guideline-managing-the-longterm-effects-of-covid19-pdf-51035515742 (accessed: 19.01.2024).
- Darawshy F., Padawer D., Qadan A., Salaymeh Ya., Berkman N. Inflammatory, fibrotic and endothelial biomarker profiles in COVID-19 patients during and following hospitalization. Scientific reports. 2025;15(1):24850. doi: 10.1038/s41598-025-09245-y.
- Scolari F.L., Rover M.M., Trott G., Dias da Silva M.M., de Souza D., Miozzo A.P. et al. Pos-COVID Brazil 3 Group Investigators. Long-Term Cardiopulmonary Function After COVID-19-Associated Acute Respiratory Distress Syndrome: A Multicenter Case-Control Study. Critical care explorations. 2025;7(7):e1286. doi: 10.1097/CCE.0000000000001286.
- Fazzini B., Battaglini D., Carenzo L., Pelosi P., Cecconi M., Puthucheary Z. Physical and psychological impairment in survivors of acute respiratory distress syndrome: a systematic review and meta-analysis. British journal of anaesthesia. 2022;129(5):801–814. doi: 10.1016/j.bja.2022.08.013.
- Iversen K.K., Ronit A., Ahlström M.G., Nordestgaard B.G., Afzal S., Benfield T. Lung Function Trajectories in Mild COVID-19 With 2-year Follow-up. The Journal of infectious diseases. 2024;229(6):1750–1758. doi: 10.1093/infdis/jiae037.
- Mehta P., Rosas I.O., Singer M. Understanding post-COVID-19 interstitial lung disease (ILD): a new fibroinflammatory disease entity. Intensive care medicine. 2022;48(12):1803–1806. doi: 10.1007/s00134-022-06877-w.
- Cabello Fernandez C., Didone V., Slama H., Dupuis G., Fery P., Delrue G. et al. Profiles of Individuals With Long COVID Reporting Persistent Cognitive Complaints. Archives of clinical neuropsychology: the official journal of the National Academy of Neuropsychologists. 2025:acaf064. doi: 10.1093/arclin/acaf064.
- Giussani G., Westenberg E., Garcia-Azorin D., Bianchi E., Yusof Khan A.H.K., Allegri R.F. et al. Global COVID-19 Neuro Research Coalition. Prevalence and Trajectories of Post-COVID-19 Neurological Manifestations: A Systematic Review and Meta-Analysis. Neuroepidemiology. 2024;58(2):120–133. doi: 10.1159/000536352.
- Kirchberger I., Peilstöcker D., Warm T.D., Linseisen J., Hyhlik-Dürr A., Meisinger C. et al. Subjective and Objective Cognitive Impairments in Non-Hospitalized Persons 9 Months after SARS-CoV-2 Infection. Viruses. 2023;15(1):256. doi: 10.3390/v15010256.
- Fan H., Yang Y., Li J., Huang Z., Zhou B. Change in global burden of depressive and anxiety disorders due to pandemic: Insight from GBD 2021. Journal of affective disorders. 2025;390:119817. doi: 10.1016/j.jad.2025.119817.
- Sorets T.R., Finley J.A., LaFrance W.C. Jr., Patten R.V., Mordecai K., Jimenez M. et al. Beyond mood screening: a pilot study of emotional, cognitive, and somatic concerns in patients with Long COVID. Frontiers in psychology. 2025;16:1517299. doi: 10.3389/fpsyg.2025.1517299.
- Wang L., Chen F., Bai L., Bai L., Huang Z., Peng Y. Association between NT-proBNP Level and the Severity of COVID-19 Pneumonia. Cardiology research and practice. 2021;2021:5537275. doi: 10.1155/2021/5537275.
- Zheng M., Karki R., Vogel P., Kanneganti T.D. Caspase-6 Is a Key Regulator of Innate Immunity, Inflammasome Activation, and Host Defense. Cell. 2020;181(3):674-687.e13. doi: 10.1016/j.cell.2020.03.040.
Дополнительные файлы