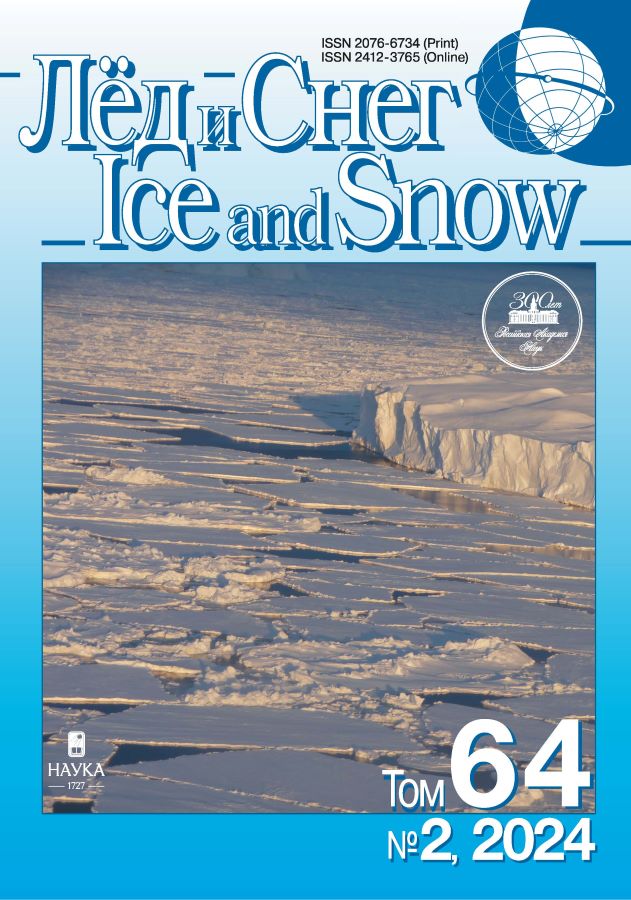Ионный состав снежного покрова на территории Сибири и Дальнего Востока
- Авторы: Салтыков А.В.1, Балыкин С.Н.1, Балыкин Д.Н.1, Горбачев И.В.2
-
Учреждения:
- Институт водных и экологических проблем СО РАН
- Филиал АО «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» – «НИИ ПМ им. академика В. И. Кузнецова»
- Выпуск: Том 64, № 2 (2024)
- Страницы: 262-272
- Раздел: Снежный покров и снежные лавины
- URL: https://journals.eco-vector.com/2076-6734/article/view/659279
- DOI: https://doi.org/10.31857/S2076673424020092
- ID: 659279
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Представлены результаты многолетних (с 2007 по 2021 г.) исследований ионного состава снежного покрова в труднодоступных равнинных и горных ландшафтах Сибири (Кетско-Тымская и Центрально-Якутская низменности, Северо-Западный и Северо-Восточный Алтай, Западный Саян, Алданское нагорье) и Дальнего Востока России (Становой хребет, Турана-Буреинский горный массив, Сунтар-Хаята и Сихотэ-Алинь).
Ключевые слова
Полный текст
Об авторах
А. В. Салтыков
Институт водных и экологических проблем СО РАН
Автор, ответственный за переписку.
Email: saltykovav@yandex.ru
Россия, Барнаул
С. Н. Балыкин
Институт водных и экологических проблем СО РАН
Email: saltykovav@yandex.ru
Россия, Барнаул
Д. Н. Балыкин
Институт водных и экологических проблем СО РАН
Email: saltykovav@yandex.ru
Россия, Барнаул
И. В. Горбачев
Филиал АО «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» – «НИИ ПМ им. академика В. И. Кузнецова»
Email: saltykovav@yandex.ru
Россия, Москва
Список литературы
- Алекин О. А. Основы гидрохимии. Ленинград: Гидрометеоиздат, 1953. 297 с.
- Алексеев В. Р. Снежный покров как индикатор кумулятивного загрязнения земель // Лёд и Снег. 2013. Т. 53. № 1. С. 127–140.
- Архипов С. А., Вдовин В. В., Мизеров Б. В., Николаев В. А. Западно-Сибирская равнина. М.: Наука, 1970. 279 с.
- Асфандиярова Л. Р., Панченко А. А., Юнусова Г. В., Ямлиханова Е. А. Экологический анализ содержания загрязняющих веществ в воздушном бассейне промышленного города (на примере оксидов азота в г. Стерлитамак Республики Башкортостан) // Вест. Тюменского гос. ун-та. 2013. № 2. С. 182– 188.
- Василевич М. И., Безносиков В. А., Кондратенок Б. М. Химический состав снежного покрова на территории таежной зоны Республики Коми // Водные ресурсы. 2011. Т. 38. № 4. С. 494–506.
- Василенко В. Н., Назаров И. М., Фридман Ш. Д. Мониторинг загрязнения снежного покрова. Л.: Гидрометеоиздат, 1985. 181 с.
- Войтов И. В., Самусенко А. М., Высоченко А. В., Капилевич Ж. А. Научно-методические основы организации и ведения Национальной системы мониторинга окружающей среды Республики Беларусь (основные положения технического проекта НСМОС). Минск: БелНИЦ «Экология», 2000. 228 с.
- Воронова О. С., Зима А. Л., Кладов В. Л., Черепанова Е. В. Аномальные пожары на территории Сибири летом 2019 г. // Исследование Земли из космоса. 2020. № 1. С. 70–82.
- Глазовский Н. Ф., Злобина А. И., Учвалов В. П. Химический состав снежного покрова некоторых районов Верхнеокского бассейна // Региональный экологический мониторинг. М.: Наука, 1983. С. 67–86.
- Горюнова Н. В., Шевченко В. П., Новигатский А. Н. Геохимия снежного покрова в Арктике // Криогенные ресурсы полярных регионов. Нарьян-Мар, 2007. Т. 1. С. 204–206.
- Гусева Т. В., Молчанова Я. П., Заика Е. А., Виниченко В. Н., Аверочкин Е. М. Гидрохимические показатели состояния окружающей среды: справочные материалы. М: Междунар. социально-экологический союз, 2000. 148 с.
- Еремин В. Н., Решетников М. В., Гребенюк Л. В., Соколов Е. С. Особенности структуры геохимического поля снегового покрова на территории города Саратова // Изв. Саратовского ун-та. Сер.: Науки о Земле. 2015. Т. 15. Вып. 2. С. 36–40.
- Иванова Г. А., Иванов В. А. Динамика лесных пожаров на территории лесных районов Средней Сибири // Интерэкспо ГЕО-Сибирь. 2023. Т. 4. № 2. С. 43–48.
- Игнатенко О. В., Рябов А. В. Содержание и распределение сульфат-ионов в снежном покрове на территории г. Братска и Братского района // Тр. Братского гос. ун-та. Сер.: Естественные и инженерные науки. 2021. Т. 1. С. 238–243.
- Исаков А. А., Аникин П. П., Елохов А. С., Курбатов Г. А. О характеристиках дымов лесных и торфяных пожаров в Центральной России летом 2010 г. // Оптика атмосферы и океана. 2011. Т. 24. № 6. С. 478–482.
- Карамышева Д. В. Определение загрязнения почв сельскохозяйственного назначения по физико-химическим характеристикам снежного покрова // Междунар. студенческий науч. вестник. 2017. № 2. С. 109–114.
- Кононова Н. К. Влияние циркуляции атмосферы на формирование снежного покрова на северо-востоке Сибири // Лёд и Снег. 2012. Т. 52. № 1. С. 38–53.
- Коршунова Н. Н., Давлетшин С. Г., Аржанова Н. М. Изменчивость характеристик снежного покрова на территории России // Фундаментальная и прикладная климатология. 2021. Т. 7. № 1. С. 80–100.
- Куценогий К. П., Валендик Э. Н., Буфетов Н. С., Барышев В. Б. Эмиссии лесного пожара в Центральной Сибири // Интерэкспо ГЕО-Сибирь. 2012. Т. 2. № 3. С. 87–91.
- Латышева И. В., Вологжина С. Ж., Лощенко К. А. Циркуляционные факторы возникновения лесных пожаров на территории Сибири и Дальнего Востока летом 2019 и 2021 гг. // Изв. Иркутского гос. ун-та. 2021. Т. 38. С. 54–70.
- Лосев К. С., Горшков В. Г., Кондратьев К. Я., Котляков В. М., Залиханов М. И., Данилов-Данильян В.И., Гаврилов И. Т., Голубев Г. Н., Ревякин В. С., Гракович В. Ф. Проблемы экологии России. М.: ВИНИТИ, 1993. 348 с.
- Макаров В. Н. Геохимический мониторинг атмосферных осадков в Центральной Якутии. Якутск: Ин-т мерзлотоведения СО РАН, 2007. 88 с.
- Максютова Е. В. Характеристика снежного покрова лесостепи Предбайкалья // Лёд и Снег. 2012. Т. 52. № 1. С. 54–61.
- Максютова Е. В. Многолетние колебания толщины снежного покрова и максимальных снегозапасов на территории Предбайкалья // Лёд и Снег. 2013. Т. 53. № 2. С. 40–47.
- Методические рекомендации по оценке степени загрязнения атмосферного воздуха населенных пунктов металлами по их содержанию в снежном покрове и почве. М.: ИМГРЭ, 1990. 15 с.
- Микушин В. В., Каплинский А. Е., Суторихин И. А., Пузанов А. В. Оценка аэрозольного загрязнения атмосферы заселенных пунктов Алтайского края и Республики Алтай по данным мониторинга снежного покрова // Экология урбанизированных территорий. 2006. № 2. С. 87–93.
- Морарь Н. Н. Роль компонентов атмосферы в формировании ядер конденсации // Метеорология и гидрология. 2003. № 9. С. 50–52.
- Морарь Н. Н., Чертищева О. А. Причины немонотонного тренда pH талых вод при отстаивании // Метеорология и гидрология. 2007. № 5. С. 81–87.
- Московченко Д. В., Арефьев С. П., Московченко М. Д., Юртаев А. А. Пространственно-временной анализ природных пожаров в лесотундре Западной Сибири // Сибирский экологич. журнал. 2020. № 2. С. 243–255.
- Пономарев Е. И. Классификация пожаров в Сибири по данным Terra/MODIS на основе показателя их радиационной мощности // Исследование Земли из космоса. 2014. № 3. С. 56–64.
- Потапова С. А., Макаров В. Н. Оценка миграции хлор-иона из снега в грунты и озера в Центральной Якутии // Научный альманах. 2017. № 3–3 (29). С. 456–459.
- Пузанов А. В., Бабошкина С. В., Рождественская Т. А., Балыкин С. Н., Балыкин Д. Н., Салтыков А. В., Трошкова И. А., Двуреченская С. Я. Влияние биогеохимической обстановки водосборного бассейна озера Телецкое (Северо-Восточный Алтай) на содержание главных ионов и Fe в водах его притоков // Изв. Томского политехнич. ун-та. Инжиниринг георесурсов. 2022. Т. 333. № 2. С. 111–122.
- Савичев О. Г., Иванов А. О. Атмосферные выпадения в бассейне Средней Оби и их влияние на гидрохимический сток рек // Изв. РАН. Сер. геогр. 2010. № 1. С. 63–70.
- Ступникова Н. А., Салихова Т. В. Экологическое состояние снежного покрова в г. Петропавловске-Камчатском // Природные ресурсы, их современное состояние, охрана, промысловое и техническое использование. 2016. С. 54–58.
- Сухинин А. И. Мониторинг катастрофических пожаров в лесах Сибири // Решетневские чтения. 2010. Т. 1. С. 202–203.
- Танасиенко А. А., Чумбаев А. С. Особенности стока талых вод в Предсалаирье в чрезвычайно многоснежный гидрологический год // Сибирский экологич. журнал. 2008. Т. 15, № 6. С. 907–919.
- Тентюков М. П. Особенности формирования загрязнения снежного покрова: морозное конденсирование техногенных эмиссий (на примере районов нефтедобычи в Большеземельской тундре) // Криосфера Земли. 2007. Т. 11. № 4. С. 31–41.
- Трофимов С. С. Экология почв и почвенные ресурсы Кемеровской области. Новосибирск: Наука, 1975. 299 с.
- Трофимова И. Е., Балыбина А. С. Мониторинг температуры почвы и толщины снежного покрова на территории Иркутской области // Лёд и Снег. 2012. Т. 52. № 1. С. 62–68.
- Фуряев В. В., Киреев Д. М., Фуряев И. В. Лесные пожары в ландшафтах Центральной Сибири // Леса России: политика, промышленность, наука, образование. 2018. Т. 2. С. 48–49.
- Чудаева В. А., Чудаев О. В., Юрченко С. Г. Особенности химического состава атмосферных осадков на юге Дальнего Востока // Водные ресурсы. 2008. Т. 35. № 1. С. 60–71.
- Bridges E. M. World geomorphology. 6. Asia. Cambridge. 1990. P. 123–165.
- Kaasik M., Rõõm R., Røyset O., Vadset M., Sõukand Ü., Tõugu K., Kaasik H. Elemental and base anions deposition in the snow cover of north-eastern Estonia // Water, Air, and Soil Pollution. 2000. № 121. P. 349–366.
Дополнительные файлы