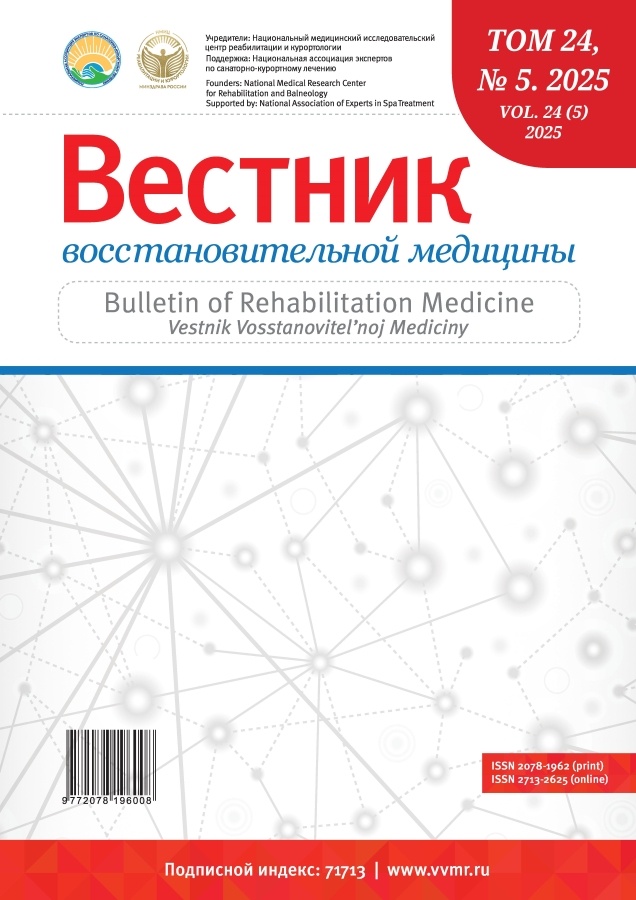Иммунологические аспекты физиотерапии по данным клинических исследований: обзор
- Авторы: Вологжанин Д.А.1,2, Голота А.С.2, Игнатенко А.И.2, Камилова Т.А.2, Ковлен Д.В.3, Усикова Е.В.2, Щербак С.Г.1,2
-
Учреждения:
- Санкт-Петербургский государственный университет
- Городская больница № 40 Курортного административного района
- Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова
- Выпуск: Том 24, № 5 (2025)
- Страницы: 73-83
- Раздел: Статьи
- Статья опубликована: 20.10.2025
- URL: https://journals.eco-vector.com/2078-1962/article/view/646318
- DOI: https://doi.org/10.38025/2078-1962-2025-24-5-73-83
- ID: 646318
Цитировать
Полный текст
Аннотация
ВВЕДЕНИЕ. Физиотерапевтические вмешательства применяются обычно на этапе реабилитации или как дополнение к основной (фармакологической или хирургической) терапии пациентов с хроническими заболеваниями или острыми состояниями. Интерес к иммунологическим аспектам физиотерапии быстро возрастает.
ЦЕЛЬ. Обобщить данные по иммунологическим аспектам физиотерапии, представленные в зарубежных публикациях последних пяти лет.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Поиск проводился в базах PubMed и Google Scholar с использованием ключевых слов: physiotherapy, immunology, innate immunity, acquired immunity, cellular immunity, humoral immunity, clinical trials. Из 207 найденных статей после применения критериев исключения отобрано 66 исследований.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБЗОРА. Хронические заболевания, а также последствия травматических поражений характеризуются хроническим воспалением и иммунным дисбалансом. Несмотря на впечатляющие клинические успехи реабилитации, оно не всегда эффективно у некоторых пациентов, что подчеркивает необходимость понимания и преодоления механизмов терапевтической рефрактерности. Подобно другим терапевтическим средствам, физиотерапия сталкивается с трудностями прогнозирования ответа пациентов на вмешательство. Предполагается, что благотворное влияние физиотерапии связано с ее противовоспалительными, цитопротекторными и антиоксидантными свойствами и синергическим воздействием на иммунные функции. В нашей обзорной статье кратко рассмотрены клинические исследования с примерами, в которых показано влияние физиотерапевтических воздействий на популяционную структуру иммунной системы и секрецию цитокинов. Материал обзора структурирован по основным методам физиотерапии, как традиционным (массаж, лечение теплом, холодом, водой, ультразвуком, лазером, магнитным полем, гипербарическая оксигенация, пелоидотерапия), так и более новым (термическая и механическая абляция высокоинтенсивным ультразвуком).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Представленные в обзоре материалы позволяют по-новому взглянуть на возможности физиотерапевтического влияния на врожденный и приобретенный иммунитет, их клеточный и гуморальный компоненты. Исследования в этом направлении еще только начинаются. Для разработки рекомендаций по безопасному применению иммуномодулирующей физиотерапии в контексте конкретных патологий необходимы дальнейшие масштабные клинические исследования. Кроме того, для точной интерпретации и использования данных физиотерапевты должны получить дополнительные знания в области иммунологии, в настоящее время выходящие за рамки их компетенции.
Полный текст
ВВЕДЕНИЕ
Традиционно реабилитационная терапия направлена на восстановление функций пациента и достижение долгосрочного улучшения качества жизни. Люди с хроническими заболеваниями испытывают потребность в длительной поддержке, которую можно обеспечить с помощью различных методов физиотерапии. Помимо необходимости персонализированных подходов к управлению хроническими состояниями, важно также расширять использование реабилитации как поддерживающей терапии. В отличие от классической реабилитации, поддерживающая терапия ориентирована на стабилизацию состояния, замедление прогрессирования болезни или предупреждение осложнений, даже если значительное улучшение не ожидается [1].
Хроническое воспаление как основной патогенетический фактор лежит в основе множества заболеваний, что делает актуальным поиск методов его коррекции. Несмотря на широкое использование физиотерапевтических методик в реабилитации, их иммунологические механизмы остаются недостаточно изученными.
В последние годы появляются исследования, демонстрирующие противовоспалительное и иммуномодулирующее действие различных физиотерапевтических процедур. В данном обзоре представлен анализ клинических данных, подтверждающих эту гипотезу. Рассматриваются различные методы физиотерапии, такие как массаж, ультразвуковая терапия, тепловая терапия, криотерапия, лазерная терапия, магнитотерапия и другие, с акцентом на их влияние на иммунную систему.
Ключевой вывод обзора заключается в том, что многие физиотерапевтические воздействия действительно оказывают значимое влияние на иммунные реакции организма, модулируя активность клеток и секрецию цитокинов. Это открывает новые возможности для использования физиотерапии не только как симптоматического, но и как патогенетического метода лечения хронических заболеваний.
Понимание механизмов действия физиотерапевтических воздействий на клеточно-молекулярном уровне позволит:
- оптимизировать параметры применения различных методик;
- разработать индивидуальные протоколы лечения с учетом особенностей конкретного заболевания;
- расширить спектр показаний для применения физиотерапии;
- улучшить эффективность комбинированного лечения, включающего физиотерапевтические методы.
Таким образом, дальнейшие исследования в этой области имеют высокую практическую значимость для развития современной реабилитационной медицины и повышения качества жизни пациентов с хроническими заболеваниями.
ЦЕЛЬ
Обобщить данные по иммунологическим аспектам физиотерапии, представленные в зарубежных публикациях последних пяти лет.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Поиск проводился в базах PubMed и Google Scholar с использованием ключевых слов: physiotherapy, immunology, innate immunity, acquired immunity, cellular immunity, humoral immunity, clinical trials. Из 207 найденных статей после применения критериев исключения отобрано 66 исследований.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБЗОРА
Влияние физиотерапии на иммунную систему
Массаж
Тревога, стресс и состояние психического здоровья оказывают значительное влияние на иммунную систему. Во время острого стресса организм стремится сохранить гомеостаз иммунной системы, увеличивая количество активированных биомаркеров. Однако хронический стресс обычно приводит к подавлению иммунитета [2]. Известна роль гормона стресса кортизола в поддержании гомеостаза путем предотвращения чрезмерной реактивности иммунной системы и последующего воспаления [3]. Иммуносупрессия достигается путем увеличения популяции регуляторных Т-лимфоцитов Treg, которые играют важную роль в балансе иммунной системы и являются биомаркером иммуносупрессии.
Иммуносупрессия, вызванная дисбалансом популяции регуляторных Т-лимфоцитов Treg, является одним из механизмов, способствующих развитию рака молочной железы у женщин, находящихся в группе риска [4]. В условиях хронического стресса в клетках Treg активируется сигнальная ось TGF-β1/Smad2/3/Foxp3. Противовоспалительный цитокин TGF-β1 индуцирует продукцию в клетках Treg транскрипционного фактора Foxp3, который активирует дифференцировку наивных Т-клеток в клетки Treg Foxp3+. Увеличение числа регуляторных Т-клеток Foxp3+ вместе с увеличением ими продукции иммуносупрессивных цитокинов IL-10 и TGF-β подавляет способность Т-лимфоцитов CD8+ уничтожать клетки-мишени, включая злокачественные, что приводит к снижению эффективности противоопухолевого иммунитета. Кроме того, TGF-β и IL-10 гиперэкспрессируются и самой раковой опухолью, подавляя продукцию провоспалительных цитокинов IFN-γ, IL-2, IL-6, IL-17 и функцию антигенпрезентирующих клеток, способствуя ускользанию опухолевых клеток от иммунитета [5]. Профилактика хронического стресса способствует поддержанию баланса клеток Treg Foxp3+ и позволяет снизить супрессорное влияние на функцию эффекторных иммунных клеток.
Известно, что массаж эффективно снижает уровень стресса и тревожности и способен предотвратить хронический стресс за счет улучшения сна и снятия усталости. Массажная терапия снижает уровень кортизола, что положительно влияет на иммунологический гомеостаз, стабилизируя количество и активность клеток Treg Foxp3+ и повышая способность CD8+ Т-клеток и NK-клеток устранять или предотвращать развитие рака [6, 7]. Таким образом, массаж — одно из простых решений, которые можно предложить для профилактики иммуносупрессии и развития рака молочной железы [8].
Ультразвуковая терапия
Ультразвуковая терапия основана на воздействии на организм ультразвуковых колебаний различной частоты и наиболее эффективна в сочетании с лекарственным лечением.
Одной из проблем иммунотерапии рака является проблема доставки лекарственного препарата, связанная с особенностями микросреды солидных опухолей. Фокусированный ультразвук (ФУЗ) с микропузырьками или без них облегчает доставку лекарственных препаратов к клеткам опухоли, способствуя тем самым эффективности терапии. ФУЗ — это неинвазивный терапевтический метод под визуальным контролем, который позволяет устранить болевой синдром и отеки, нормализовать крово- и лимфообращение и повысить эффективность иммунотерапии. В зависимости от параметров адъювантный ФУЗ может модулировать иммунные реакции в опухоли или способствовать цитотоксическому действию. Например, ФУЗ может временно понизить гематоэнцефалический барьер, доставляя терапевтические агенты непосредственно в опухоль [9].
Использование ФУЗ предполагает неинвазивное неионизирующее лечение, которое может заменить или дополнить традиционные методы лечения рака, что подтверждается клиническими исследованиями, оценивающими эффективность ультразвука для открытия гематоэнцефалического барьера в сочетании с химиотерапией или иммунотерапией для лечения рака. ФУЗ использует звуковые волны, которые можно сфокусировать глубоко (~10 см) в теле. Механические и термические методы ФУЗ увеличивают презентацию опухолевого антигена и активируют эффекторные Т-клетки [5].
Термическая абляция высокоинтенсивным ФУЗ (Т-ВИФУЗ) одобрена Управлением по контролю за продуктами питания и лекарствами Соединенных Штатов Америки (FDA) для лечения злокачественных новообразований поджелудочной железы, костей, печени, предстательной и молочной желез и почек. Энергия ультразвукового луча поглощается тканью-мишенью, нагревая ее до 60–85 °C и приводя к коагуляционному термическому некрозу. Ткани, окружающие фокальное пятно, подвергаются воздействию более низких температур и обычно претерпевают апоптоз. T-ВИФУЗ высвобождает множество иммуноактивирующих молекул, но не способна спровоцировать заметную иммунную стимуляцию в опухоли. Сочетание терапии ингибиторами иммунных контрольных точек с Т-ВИФУЗ способствует системному и долгосрочному противоопухолевому иммунитету в опухолях, склонных к рецидивам или дистальному метастазированию. Внутренние характеристики ткани, такие как соотношение остаточных мезенхимальных клеток к опухолевым клеткам, определяют успех ВИФУЗ-опосредованных противоопухолевых иммунных ответов [10].
Механическая абляция ВИФУЗ (М-ВИФУЗ). Во время процедуры ультразвук фокусируется на небольшом участке ткани, создавая пузырьки газа, что приводит к микроструям, течению и сдвиговому напряжению, которые механически измельчают ткань. M-ВИФУЗ может фракционировать ткань на субклеточные фрагменты с термическим повреждением или без него. Она точнее, чем T-ВИФУЗ, и не повреждает окружающие нормальные ткани, поскольку отсутствует термодиффузия. Абляционное лечение ФУЗ-кавитацией в комбинации с ингибиторами иммунных контрольных точек индуцирует мощный иммунный ответ в микросреде опухоли, усиливает секрецию цитокинов IFN-γ, IL-1β, IL-2, IL-6, IL-10, IL-13, IL-12, IL-18 и фактора некроза опухоли TNF-α, инфильтрацию антигенпрезентирующими клетками, цитотоксическими лимфоцитами, нейтрофилами и макрофагами как опухоли, так и лимфоузлов [11, 12] и увеличивает долгосрочную выживаемость до 62,5 %, а также абскопальный эффект [10, 13].
Импульсный ФУЗ (И-ФУЗ) использует неабляционные короткие импульсы для индукции акустической кавитации, в результате чего происходят разрушение внеклеточного матрикса без повреждения сосудов, индукция апоптоза раковых клеток, увеличивается плотность инфильтрации лимфоцитами опухолевой ткани, ингибируется рост и агрессивный потенциал опухоли [14]. В отличие от ВИФУЗ, И-ФУЗ стимулирует воспалительные реакции с ограниченным повреждением клеток, вызывает всплеск провоспалительных цитокинов TNFα, IL-1α, IL-1β, IFN-γ в 1-й день воздействия и возвращение к исходному уровню на 3-й день [15].
Таким образом, метод ФУЗ при лечении различных заболеваний, включая онкологические процессы, характеризуется неинвазивным воздействием, точным пространственным нацеливанием и возможностью визуализации в реальном времени. Это позволяет эффективно преодолевать иммунологические барьеры, индуцировать противоопухолевые иммунные реакции и усиливать эффект комбинированной терапии, в частности, в сочетании с иммунотерапией [16]. Однако степень влияния ФУЗ на иммунную систему может различаться в зависимости от типа заболевания, параметров воздействия и индивидуальных особенностей пациента.
Тепловая физиотерапия
Тепловая физиотерапия (теплотерапия) основана на реакции организма на тепловое воздействие. Методика применяется для снятия болевого синдрома, уменьшения воспаления и активизации метаболических процессов в тканях. В качестве средств термического воздействия используются различные материалы и методы, такие как парафиновые обертывания, грязевые аппликации, песочные компрессы, инфракрасное излучение и др.
Одним из видов тепловой физиотерапии является магнитная гипертермическая терапия, которая представляет собой неинвазивный метод глубокого прогревания опухолевых тканей с использованием магнитных наночастиц. Исследования показывают, что контролируемое прогревание до 43–44 °C может подавлять рост раковых клеток и активировать противоопухолевый иммунитет за счет увеличения числа натуральных киллеров (NK-клеток) [17].
Пассивная тепловая терапия заключается в воздействии высокой температуры окружающей среды в течение короткого периода. Наиболее изученным на сегодня видом являются финские сауны, которые характеризуются высокими температурами в диапазоне 80–100 °C и сухим воздухом с относительной влажностью 10–20 %. Действие пассивной тепловой терапии связано с ее противовоспалительными, цитопротекторными и антиоксидантными эффектами и синергическим воздействием на ряд систем организма, включая иммунную [18]. Показано, что регулярное посещение сауны имеет иммуностимулирующий эффект, подавляет системное воспаление и предотвращает риск инфекции. Предполагается, что гипертермия всего тела имитирует эффект лихорадки и индуцирует иммунный ответ [19]. Хронически повышенные уровни провоспалительного цитокина IL-6 обычно наблюдаются при хроническом воспалении. Однако, как миокин, IL-6 проявляет противовоспалительные свойства посредством активации мощного противовоспалительного цитокина IL-10. Посещение сауны повышает температуру тела и, подобно физическим упражнениям, приводит к резкому повышению уровней IL-6 и IL-10 в плазме крови [20]. Исследования, проведенные с участием здоровых добровольцев и пациентов с хронической сердечной недостаточностью, показали, что ежедневное погружение на 10 минут в горячий источник с температурой 40 °C в течение 2 недель снизило уровни основных воспалительных биомаркеров, включая С-реактивный белок, TNF-α и IL-6, и значительно уменьшило клинические симптомы [17].
Вариантом теплотерапии является спа-терапия — терапевтический подход, который использует природные ресурсы, такие как термальные минеральные воды и грязи (пелоидотерапия). Погружение и упражнения в термальной воде, богатой минералами, и грязелечение оказывают противовоспалительный эффект. У пациентов с хронической болью в спине на фоне спа-терапии отмечено значительное повышение уровня циркулирующего IL-10 и снижение уровня сывороточного IL-6. У пациентов с серонегативным спондилоартритом после спа-терапии также наблюдали уменьшение концентрации провоспалительных цитокинов в сыворотке и увеличение концентрации общего и циркулирующего TGF-β1 [21]. Предполагается, что именно иммуномодулирующие свойства спа-терапии играют ключевую роль в ее эффективности.
Таким образом, тепловая физиотерапия — это многофункциональный метод лечения, который может быть эффективно использован как самостоятельно, так и в сочетании с другими терапевтическими подходами для коррекции воспалительных процессов и восстановления функций организма.
Бальнеотерапия
Бальнеотерапия является одним из наиболее распространенных нефармакологических подходов к лечению ревматических заболеваний. Использование термальной воды способствует увеличению концентрации циркулирующего кортизола, что стимулирует хемотаксис моноцитов к поврежденным тканям и их переключение на противовоспалительный фенотип. Исследования механизмов действия бальнеотерапии в экспериментальных моделях показали ограничение активации сигнальных путей, участвующих в патогенезе остеоартрита, включая снижение продукции провоспалительных цитокинов IL-6 и IL-8 [22].
Грязелечение
Грязелечение (пелоидотерапия) представляет собой метод лечения, основанный на использовании грязевых аппликаций, богатых минералами и другими биологически активными веществами. Его биологические эффекты в основном обусловлены тепловой стимуляцией и физико-химическими свойствами минеральных вод и грязевых компонентов.
Метаанализ эффективности грязелечения при остеоартрите коленного сустава, характеризующемся слабым воспалением, показал, что термальные грязевые ванны оказывают свое действие за счет влияния на активность хондроцитов. Этот метод модулирует сложную сеть цитокинов и других медиаторов воспаления, а также процессов, связанных с разрушением хряща (хондролизом). Конкретно грязелечение приводит к снижению продукции провоспалительных цитокинов (TNF-α, IL-1β, IL-6, IL-8, TGF-β), простагландина E2, лейкотриена B4, матриксных металлопротеиназ, С-реактивного белка и оксидантных соединений, таких как активные формы кислорода и азота. Одновременно отмечается увеличение продукции синовиальной жидкости и противовоспалительного цитокина IL-10, что оказывает защитное действие на суставной хрящ [23].
Криотерапия
По мнению Capodaglio P. et al. [24], общая криотерапия (2–3 минуты при температуре от –110 °C до –140 °C) — это не просто симптоматическая физиотерапия, а скорее «адаптационная» терапия из-за повторяющегося шокоподобного холодового стимула по всей поверхности тела, который вызывает реакции в вегетативной, эндокринной, кровеносной, нервно-мышечной и иммунной системах и является перспективной вспомогательной терапией при различных состояниях, представляющих интерес для реабилитации [24].
Общая криотерапия — один из подходов к лечению рассеянного склероза (РС). Она хорошо переносится пациентами и может замедлить прогрессирование заболевания. Прогрессирование РС характеризуется критическим сочетанием сосудистых нарушений, нейровоспаления и оксидантного стресса, которые образуют сложное взаимодействие. При прогрессирующих типах РС стойкое воспаление, характеризующееся активацией микроглии и инфильтрацией аутореактивных лимфоцитов, секрецией провоспалительных цитокинов, хемокинов и свободных радикалов, вызывает разрушение миелиновых оболочек нервных волокон и необратимую дегенерацию тканей головного и спинного мозга. Активированная микроглия и иммунные клетки генерируют цитокины TNF-α, IL-6 и другие провоспалительные цитокины. Клинические исследования показали, что у пациентов с РС, проходивших три цикла по 10 экспозиций в криогенной камере, повышался общий антиоксидантный статус и уменьшались симптомы заболевания. Включение общей криотерапии в комплексную терапию и программы реабилитации может уменьшить воспаление и улучшить состояние пациентов с РС [25]. Курсовое воздействие общей криотерапии значительно снижает сывороточные уровни провоспалительных цитокинов TNF-α и IL-6 у пациентов с хроническими воспалительными заболеваниями [26, 27].
Локальная криотерапия применяется в качестве восстановительного метода лечения и направлена на снижение воспаления, а также устранение болевого синдрома и восстановление мышечной функции. Механизмы действия локальной криотерапии включают вазоконстрикцию (сужение кровеносных сосудов) и анальгезирующий эффект, которые возникают вследствие острого воздействия холода. Помимо этого, метод обладает выраженным противовоспалительным действием. Реакции организма на локальную криотерапию схожи с ответами на другие типы стрессоров, будь то психологические, физические или химические раздражители. При остром стрессе, вызванном холодом, отмечается временный лимфоцитоз — увеличение количества лимфоцитов в периферической крови. После прекращения воздействия холодового фактора уровень мононуклеарных клеток быстро снижается до значений ниже исходных, что может свидетельствовать о их миграции в орган-мишень или обратном возвращении в начальные компартменты. Сравнительный анализ показывает, что острое трехминутное воздействие локальной криотерапии вызывает более выраженное повышение уровня лимфоцитов по сравнению с обычным погружением в холодную воду, хотя этот эффект менее интенсивен, чем после энергичных физических нагрузок. Наиболее значимые изменения наблюдаются в содержании цитотоксических Т-клеток и NK-клеток, которые играют ключевую роль в иммунной защите организма [28].
В уничтожении злокачественных опухолей и обеспечении долгосрочной противоопухолевой иммунной защиты важную роль играют T-клетки CD8+ и IFNγ-продуцирующие Т-хелперы CD4+ Th1. В ответе на криотермическую терапию доминируют быстрые реакции, опосредованные IFNγ-продуцирующими Th1 CD4+ и сокращением численности клеток Treg [29]. Применение криотерапии с помощью криозондов (температура составляет от –20 °С до –40 °С) у пациентов с метастатическим колоректальным раком значительно увеличивает безрецидивную выживаемость [30]. У пациентов с раком легких разных стадий, в том числе с неоперабельными опухолями, проводили чрескожную или бронхоскопическую криоабляцию под визуальным контролем, щадящую здоровые участки паренхимы легких. Один цикл замораживания-оттаивания продолжается 3–4 минуты. Из некротических тканей в центре зоны абляции выделяются провоспалительные цитокины (IL-12, IFN-γ и TNF-α), а клетки на периферии зоны абляции, где температура недостаточна для того, чтобы вызвать некроз, могут подвергаться апоптозу, что приводит к высвобождению иммуносупрессивных цитокинов (IL-10, TGF-β). Антигенпрезентирующие клетки захватывают клеточный дебрис с опухолевыми антигенами и мигрируют в региональные лимфатические узлы, где взаимодействуют с Т- и В-лимфоцитами, чтобы инициировать клеточный и/или гуморальный иммунный ответ с образованием опухолеспецифичных антител, являющихся маркером противоопухолевого иммунного ответа [31]. Сочетание криоабляции с ниволумабом (противоопухолевым моноклональным антителом) в лечении пациентов с раком легких поздних стадий связано с увеличением числа иммунных эффекторных клеток (Т-клеток CD4+ и CD8+ и NK-клеток) и повышением сывороточных уровней воспалительных цитокинов (IL-2, TNF-β, IFN-γ) по сравнению с лечением одним ниволумабом [32].
Гидротерапия
Краткосрочные и долговременные эффекты от водной физиотерапии на иммунную систему были изучены у пациентов с болезнью Паркинсона и здоровых людей. У пациентов с болезнью Паркинсона исходно повышены уровни провоспалительных цитокинов IL-1β и MCP-1 (monocyte chemoattractant protein 1) и снижены уровни IL-1RA (антагониста рецептора IL-1β с противовоспалительной функцией). Уже через 48 часов после сеанса гидротерапии отмечено снижение уровней IL-1β и MCP-1, а через 1 месяц — повышение уровня IL-1RA. Исследование продемонстрировало, что цитокины IL-1β, MCP-1 и IL-1RA являются перспективными биомаркерами при болезни Паркинсона, а гидротерапия оказывает иммуномодулирующий эффект [33].
Водную терапию часто включают в протоколы лечения или реабилитации пациентов с травмой спинного мозга с общей целью улучшения подвижности. Известно, что это состояние связано с наличием хронического системного слабовыраженного воспаления, а баланс между провоспалительными и противовоспалительными факторами играет решающую роль в прогрессировании и исходе поражения. Частичное или полное погружение пациентов в воду активирует краткосрочные и долгосрочные механизмы адаптации с терапевтическим эффектом и, следовательно, сочетает преимущества гидротерапии и стандартной реабилитации. Гидростатическое давление воды вызывает широкий спектр физиологических, эмоциональных и когнитивных реакций, в том числе влияя и на состояние иммунной системы. Agulló-Ortuño М.Т. et al. исследовали влияние 12-недельного курса гидротерапии в комбинации с физическими упражнениями на состояние пациентов с травмой спинного мозга. Исследование показало связь цитокинового профиля пациентов (IL-1α, IL-12p70, IL-8, IL-10, IP-10, MCP-1, IL-4, TNF-α) с их функциональным восстановлением. Полученные результаты продемонстрировали возможность использования гидротерапии для контроля системного воспаления [34].
В систематическом обзоре с метаанализом Bravo С. et al. [35], посвященном изучению эффективности гидротерапии при фибромиалгии, показано, что гидротерапия столь же эффективно улучшает качество сна и облегчает боль, как бальнеотерапия и бальнеотерапия в сочетании с физическими упражнениями. Уменьшение боли объясняется сочетанием факторов, а именно физических упражнений и выталкивающей силы теплой воды, которые активируют механорецепторы и терморецепторы. Погружение в теплую воду усиливает кровоток и, следовательно, сатурацию крови, устраняя катаболиты и снижая уровень IL-8 и норадреналина, ответственных за активацию ноцицепторов [36]. Эта сенсорная и моторная гиперстимуляция блокирует ноцицепторы и уменьшает боль пациента. Авторы подчеркивают, что теплая вода способствует снижению уровней адреналина, норадреналина и кортизола и высвобождению серотонина, вызывая мгновенное улучшение клинических симптомов. Пациенты, получавшие гидротерапию, как правило, демонстрировали более быстрый и продолжительный прогресс по сравнению с программами упражнений на суше. Гидротерапия стимулирует различные эндогенные системы и физиологические процессы, включая иммунную, вегетативную и эндокринную системы и их взаимодействие [35].
Лазерная терапия
Низкоинтенсивная лазерная терапия (НИЛТ) — неинвазивная адъювантная терапия, в основе действия которой лежит фотобиомодулирующий эффект. Лазерные фотоны поглощаются клетками и воздействуют на клеточные органеллы, а интенсивности энергии лазерного луча достаточно, чтобы вызвать ряд клеточных и молекулярных процессов [37].
Показано, что НИЛТ имеет большой потенциал в качестве терапевтического подхода при заболеваниях суставов, в том числе при ревматоидном артрите. Противовоспалительный эффект метода обусловлен снижением экспрессии воспалительных цитокинов и индукцией экспрессии противовоспалительного цитокина IL-10 [38], уменьшением инфильтрации иммунными клетками поврежденных тканей [39] и индукцией поляризации макрофагов из провоспалительного фенотипа М1 в противовоспалительный фенотип М2 [40]. Помимо противовоспалительного эффекта, НИЛТ улучшает структуру тканей пораженных суставов, увеличивает количество хондроцитов и гибкость суставов и уменьшает утреннюю скованность у пациентов с ревматоидным артритом [37]. Следует отметить, что противовоспалительное действие НИЛТ носит дозозависимый характер, поэтому необходимы дополнительные исследования для более корректного применения метода в различных клинических ситуациях. Что касается воспалительных заболеваний суставов, в настоящее время НИЛТ рассматривается в качестве дополнительной терапии [41].
При болезни Альцгеймера транскраниальная, а также дистанционная фотобиомодуляция оказывает разнообразные биологические эффекты, такие как усиление митохондриальной функции, уменьшение активности нейровоспаления, усиление церебральной перфузии и лимфатического дренажа, регулирование микробиома кишечника, модуляция иммунной системы и усиление выработки миокинов [42]. Она смягчает окислительный стресс, ингибирует фрагментацию митохондрий, воспалительные и апоптотические сигнальные пути и активирует секрецию нейротрофических факторов, модулирует поляризацию глиальных клеток, чтобы ограничить провоспалительные сигналы [43]. Эти противовоспалительные и нейропротекторные фенотипы сопровождаются снижением уровня провоспалительных цитокинов TNF-α и IL-1β и повышением уровня противовоспалительных цитокинов IL-4, IL-10, IL-13 [44].
Низкоинтенсивное лазерное облучение лимфатических узлов в рамках дистанционной фотобиомодуляции приводит к повышению экспрессии IFN-γ и IL-10 в Т-клетках CD4+. Инфильтрация этих клеток в мозг животных — моделей болезни Альцгеймера увеличила экспрессию иммунных медиаторов IFN-γ/IL-10 в мозговой ткани вследствие активации сигнального пути JAK2/STAT4/STAT5 в T-клетках CD4+, что способствует подавлению нейровоспаления и нейрогенезу гиппокампа [45].
В последние десятилетия микробиота человека привлекла особое внимание исследователей, и было продемонстрировано, что ось «кишечник – микробиом – мозг» регулирует множество нейрофизиологических реакций посредством взаимодействия между нервной, иммунной и эндокринной системами. У пациентов с болезнью Альцгеймера выявлены изменения микробиоты по сравнению с нормой, которые могут привести к воспалительному процессу в кишечнике, нарушению эпителиального барьера и транслокации провоспалительных продуктов [46–48]. Бактерии или их продукты могут перемещаться из желудочно-кишечного тракта в центральную нервную систему, усиливать агрегацию амилоида, активировать микроглию, усиливая воспалительную реакцию в центральной нервной системе, что в свою очередь приводит к нейротоксичности и нарушению клиренса амилоида [49]. В крови пациентов с амилоидозом выявлены более высокие уровни экспрессии провоспалительных цитокинов IL-6, CXCL2, NLRP3 и IL-1β, а также снижение противовоспалительного цитокина IL-10 по сравнению с пациентами без амилоидоза и контрольной группой здоровых людей. Провоспалительные цитокины IL-1β, NLRP3 и CXCL2 положительно коррелируют с распространенностью бактерий рода Shigella, известных своими провоспалительными свойствами, и отрицательно — с видом Eubacterium rectale, известным своими противовоспалительными свойствами [50].
Модификация микробиома кишечника с помощью фотобиомодуляции представляет собой перспективный терапевтический подход к лечению болезни Альцгеймера и других неврологических заболеваний. Восстановительное воздействие транскраниальной и абдоминальной фотобиомодуляции на ось «кишечник – микробиом – мозг» может оказать значительное влияние на иммунитет посредством снижения секреции провоспалительных цитокинов и изменения фенотипа макрофагов. Циркулирующие иммунные клетки, стимулируемые фотобиомодуляцией, передают сигналы из дистальных тканей, таких как кишечник, в области, нуждающиеся в защите, такие как мозг. Эти механизмы обеспечивают синергизм многоцелевых подходов к лечению этого многофакторного заболевания. Благодаря своей доступности и безопасности фотобиомодуляция может быть интегрирована в лечение болезни Альцгеймера [51].
Магнитотерапия
Повторяющаяся транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС) — неинвазивный метод стимуляции мозга, применяемый в реабилитации пациентов с повреждениями головного мозга [52], а также при неврологических и психиатрических заболеваниях [53].
Высокочастотная (≥ 3 Гц) ТМС (ВЧ-ТМС) используется в реабилитации пациентов, перенесших инсульт, для восстановления функций, включая уменьшение нарушений двигательных и когнитивных функций, дисфагии, депрессии и центральной постинсультной боли. В основе реабилитации пациентов, перенесших инсульт, с помощью ВЧ-ТМС лежат механизмы регуляции иммунных клеток и секреции нейротрансмиттеров и цитокинов. ВЧ-ТМС способствует реабилитации после инсульта, уменьшая нейровоспаление, подавляя нейрональный апоптоз и повышая экспрессию цитокинов, связанных с ангиогенезом (TGFβ и VEGF). Кроме того, ВЧ-ТМС вызывает переключение микроглиальных фенотипов с M1 на M2, о чем свидетельствует усиление экспрессии белков, связанных с активацией фенотипа M2 (противовоспалительных цитокинов IL-10 и IL-4 и рецептора CD206). Воздействие ВЧ-ТМС на пораженный участок коры головного мозга пациентов, перенесших инсульт, значительно снижает экспрессию провоспалительных цитокинов (IL-1β, IL-6, TGF-β, TNF-α) в крови, что указывает на противовоспалительный эффект, который тесно коррелирует с функциональным восстановлением пациентов [52].
В современной психиатрии клиническая депрессия является основным показанием для ВЧ-ТМС, имеющим наиболее надежную доказательную базу. ВЧ-ТМС (≥ 5 Гц) является неинвазивной формой нейромодулирующей терапии у пациентов с клинической депрессией — заболеванием, связанным с повышенным периферическим и мозговым воспалением [54]. Это также вариант лечения у пациентов с рефрактерной клинической депрессией (треть случаев), который может повысить эффективность антидепрессантов [55]. Отмечено, что слабые ответы пациентов на антидепрессантную терапию связаны с повышенными уровнями IL-6 и IL-8, TNF-α, С-реактивного белка и MIP-1 (macrophage inflammatory protein 1). Установлена значимая связь между более высокими уровнями воспалительных цитокинов в плазме, включая IL-6, и количеством неудачных попыток лечения. Худший ответ на повторяющуюся ТМС (пТМС) также связан с высокими базовыми уровнями IL-6 и С-реактивного белка [56].
Воспалительные цитокины, такие как IL-1β, повреждают олигодендроциты и могут приводить к когнитивной дисфункции, вызванной гистологическими изменениями, такими как поражение белого вещества, обнаруженное у пациентов с депрессией. Под действием 4-недельного курса лечения пТМС у пациентов с рефрактерной депрессией наблюдалось повышение сывороточных уровней нейротрофического фактора мозга BDNF и снижение уровней IL-1β и TNF-α [57]. Снижение сывороточного уровня IL-1β и TNF-α после 6-недельного курса лечения пТМС коррелировало с улучшением когнитивной дисфункции у пожилых пациентов с клинической депрессией [56].
Расстройства аутистического спектра (РАС) ассоциируются с широким спектром сопутствующих состояний, таких как эпилепсия, тревожность, меланхолия, синдром Туретта и желудочно-кишечные расстройства. Появились данные, указывающие на связь РАС с нарушением регуляции оси «кишечник – мозг». Аномалии желудочно-кишечного тракта связаны с вызывающим или разрушительным поведением, сенсорной реактивностью, ригидностью, обсессивно-компульсивным поведением и другими осложнениями РАС, включая проблемы со сном, аномалии настроения и социальные дефициты [58]. Этиология этих проблем с желудочно-кишечным трактом может быть связана с изменениями в составе и функции микробиоты кишечника. Исследования показали, что пТМС влияет на состав и функциональность микробиоты кишечника [59]. Дисбактериоз при РАС может способствовать нарушению иммунной регуляции и аномальному метаболизму нейротрансмиттеров. Предполагается, что аномалии иммунной системы при аутизме также в определенной степени могут быть связаны с дисбиозом. Как пТМС, так и модуляция микробиоты кишечника влияют на ось «кишечник – мозг»: оба фактора способны увеличивать нейропластичность, модулируя нейронную активность посредством регуляции метаболизма нейротрансмиттеров [60].
Поскольку воспаление является одним из ключевых механизмов в патогенезе РАС, противовоспалительная терапия может облегчить симптомы, связанные с этим расстройством. Уровни IL-1β, IL-6 и IL-8 в плазме у пациентов с РАС значительно выше, чем у типично развивающихся контрольных лиц. пТМС и модуляция микробиоты кишечника участвуют в регуляции воспаления [61]. Курсовое лечение (12 недель) пТМС приводит к нормализации уровней провоспалительных цитокинов TNF-α, IFN-γ, IL-2, IL-4, IL-6 и IL-8, измененных у пациентов с депрессией. Модуляция микробиоты кишечника также может регулировать воспаление посредством регуляции секреции противовоспалительных факторов иммунными клетками [53]. Комбинируя эти вмешательства, можно достичь синергического противовоспалительного эффекта, который облегчит симптомы психического расстройства посредством воздействия на нейротрансмиттеры и иммунную систему [62, 63].
Баротерапия (гипербарическая оксигенотерапия)
Гипербарическая кислородотерапия (ГБКТ) при умеренном давлении влияет на многочисленные клеточные процессы, включая ангиогенез и воспаление. Эти эффекты используются для лечения и реабилитации различных патологий с длительной тканевой гипоксией, которая может привести к поражению тканей, дисфункции органов и хроническому функциональному нарушению. В некоторых случаях ГБКТ является основным методом лечения, в то время как в других случаях она служит дополнением к хирургическим или фармакологическим вмешательствам. Первичный физиологический эффект ГБКТ заключается в создании гипероксии, которая обеспечивает большее содержание кислорода в плазме крови. Введения кислорода с концентрацией, близкой к 100 %, при давлении 1,45 атм достаточно для обеспечения адекватного снабжения кислородом всех клеток и тканей организма. При этом ГБКТ увеличивает парциальное давление кислорода в артериях и спинномозговой жидкости и кровоток в капиллярах периферических тканей и способствует ускоренному заживлению поражений. Кроме того, наблюдается противовоспалительное действие ГБКТ, о чем свидетельствует снижение экспрессии провоспалительных цитокинов IL-6, IL-1β и TNF-α у пациентов после ишемического инсульта, черепно-мозговой травмы и COVID-19, а также при заживлении диабетических язв [64–66].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представленные в обзоре материалы позволяют по-новому взглянуть на возможности физиотерапевтического воздействия как на врожденный и приобретенный иммунитет, так и на их клеточный и гуморальный компоненты. В то же время очевидно, что в этом направлении исследования еще только начинаются. Необходимы не только новые исследования, сфокусированные как на конкретных заболеваниях, так и на отдельных патогенетических и саногенетических процессах, но и внедрение большей молекулярно-биологической осведомленности реабилитологов и физиотерапевтов.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Вклад авторов. Все авторы подтверждают соответствие своего авторства согласно международным критериям ICMJE (все авторы внесли существенный вклад в разработку концепции, проведение исследования и подготовку статьи, прочли и одобрили финальную версию перед публикацией). Наибольший вклад распределен следующими образом: Щербак С.Г., Голота А.С., Усикова Е.В., Игнатенко А.-М.И. — написание черновика рукописи; Вологжанин Д.А., Ковлен Д.В. — написание черновика рукописи, проверка и редактирование рукописи; Камилова Т.А. — анализ данных, обеспечение материалов для исследования, написание черновика рукописи, проверка и редактирование рукописи.
Источники финансирования. Данное исследование не было поддержано никакими внешними источниками финансирования.
Конфликт интересов. Ковлен Д.В. — член редакционной коллегии журнала «Вестник восстановительной медицины». Остальные авторы заявляют отсутствие конфликта интересов.
Доступ к данным. Данные, подтверждающие выводы этого исследования, можно получить по обоснованному запросу у корреспондирующего автора.
ADDITIONAL INFORMATION
Author Contributions. All authors confirm their authorship according to the international ICMJE criteria (all authors contributed significantly to the conception, study design and preparation of the article, read and approved the final version before publication). Special contributions: Shcherbak S.G., Golota A.S., Usikova E.V., lgnatenko А.-М.I. — writing — original draft; Vologzhanin D.А., Kovlen D.V. — writing — original draft, writing review and editing; Kamilova Т.А. — formal analysis, resources, writing — original draft, writing — review & editing.
Funding. This study was not supported by any external funding sources.
Disclosure. Kovlen D.V. — Member of the Editorial Board of Bulletin of Rehabilitation Medicine Journal. Other authors declare no apparent or potential conflicts of interest related to the publication of this article.
Data Access Statement. The data that support the findings of this study are available on reasonable request from the corresponding author.
Об авторах
Дмитрий Александрович Вологжанин
Санкт-Петербургский государственный университет; Городская больница № 40 Курортного административного района
Email: golotaa@yahoo.com
ORCID iD: 0000-0002-1176-794X
доктор медицинских наук, профессор, руководитель научно-практического и образовательного центра аллергологии Медицинского института; профессор, заместитель главного врача по маркетингу
Россия, Санкт-Петербург; Санкт-ПетербургАлександр Сергеевич Голота
Городская больница № 40 Курортного административного района
Автор, ответственный за переписку.
Email: golotaa@yahoo.com
ORCID iD: 0000-0002-5632-3963
кандидат медицинских наук, доцент, методист, начальник клинико-исследовательского сектора организационно-методического отдела по медицинской реабилитации
Россия, Санкт-ПетербургАнна-Мария Игоревна Игнатенко
Городская больница № 40 Курортного административного района
Email: golotaa@yahoo.com
ORCID iD: 0009-0002-5366-0363
аллерголог-иммунолог
Россия, Санкт-ПетербургТатьяна Аскаровна Камилова
Городская больница № 40 Курортного административного района
Email: golotaa@yahoo.com
ORCID iD: 0000-0001-6360-132X
SPIN-код: 2922-4404
кандидат биологических наук, специалист клинико-исследовательского сектора организационно-методического отдела по медицинской реабилитации
Россия, Санкт-ПетербургДенис Викторович Ковлен
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова
Email: golotaa@yahoo.com
ORCID iD: 0000-0001-6773-9713
кандидат медицинских наук, начальник кафедры физической реабилитационной медицины, главный специалист по реабилитации, физиотерапии и восстановительному лечению
Россия, Санкт-ПетербургЕлена Владимировна Усикова
Городская больница № 40 Курортного административного района
Email: golotaa@yahoo.com
заместитель главного врача
Россия, Санкт-ПетербургСергей Григорьевич Щербак
Санкт-Петербургский государственный университет; Городская больница № 40 Курортного административного района
Email: golotaa@yahoo.com
ORCID iD: 0000-0001-5036-1259
доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой последипломного образования медицинского факультета Медицинского института; главный врач
Россия, Санкт-Петербург; Санкт-ПетербургСписок литературы
- Rich T.L., Silva M.A., O’Donnell F., et al. Exploring maintenance rehabilitation in adults with chronic conditions: a scoping review of the literature. Disabil Rehabil. 2024: 47(13): 3245–3255. https://doi.org/10.1080/09638288.2024.2417771
- Ishikawa Y., Furuyashiki T. The impact of stress on immune systems and its relevance to mental illness. Neurosci Res. 2022; 175:16–24. https://doi.org/10.1016/j.neures.2021.09.005
- Vänskä M., Kangaslampi S., Lindblom J., et al. How is mental health associated with adolescent alpha-amylase and cortisol reactivity and coordination? Int J Behav Dev. 2023; 48(1): 37–48. https://doi.org/10.1177/01650254231208965
- Van Tuijl L.A., Basten M., Pan K.Y., et al. Depression, anxiety, and the risk of cancer: An individual participant data meta-analysis. Cancer. 2023; 129(20): 3287–3299. https://doi.org/10.1002/cncr.34853
- Shaygani F., Marzaleh M.A., Jahangiri S. Fundamentals and applications of focused ultrasound-assisted cancer immune checkpoint inhibition for solid tumors. Pharmaceutics. 2024; 16(3): 411. https://doi.org/10.3390/pharmaceutics16030411
- Ma X., Wang Q., Sun C., et al. Targeting TCF19 sensitizes MSI endometrial cancer to anti-PD-1 therapy by alleviating CD8+ T-cell exhaustion via TRIM14-IFN-β axis. Cell Rep. 2023; 42(8): 112944. https://doi.org/10.1016/j.celrep.2023.112944
- Liu D., Zhang Y., Yu T., et al. Regulatory mechanism of the six-method massage antipyretic process on lipopolysaccharide-induced fever in juvenile rabbits: A targeted metabolomics approach. Heliyon. 2023; 10(1): e23313. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e23313
- Siregar Z., Usman A.N,. Ahmad M., et al. Massage on the prevention of breast cancer through stress reduction and enhancing immune system. Breast Dis. 2024; 43(1): 119–126. https://doi.org/10.3233/BD-249009
- Jung O., Thomas A., Burks S.R., et al. Neuroinflammation associated with ultrasound-mediated permeabilization of the blood-brain barrier. Trends Neurosci. 2022; 45(6): 459–470. https://doi.org/10.1016/j.tins.2022.03.003
- Fite B.Z, Wang J., Kare A.J., et al. Immune modulation resulting from mr-guided high intensity focused ultrasound in a model of murine breast cancer. Sci. Rep. 2021; 11(1): 927. https://doi.org/10.1038/s41598-020-80135-1
- Рepple A.L., Guy J.L., McGinnis R., et al. Spatiotemporal local and abscopal cell death and immune responses to histotripsy focused ultrasound tumor ablation. Front. Immunol. 2023; 14: 1012799. https://doi.org/10.3389/fimmu.2023.1012799
- Wu N., Cao Y., Liu Y., et al. Low-intensity focused ultrasound targeted microbubble destruction reduces tumor blood supply and sensitizes anti-PD-L1 immunotherapy. Front. Bioeng. Biotechnol. 2023; 11: 1173381. https://doi.org/10.3389/fbioe.2023.1173381
- Abe S., Nagata H., Crosby E.J, et al. Combination of ultrasound-based mechanical disruption of tumor with immune checkpoint blockade modifies tumor microenvironment and augments systemic antitumor immunity. J. Immunother. Cancer. 2022; 10(1): e003717. https://doi.org/10.1136/jitc-2021–003717
- Hayashi F., Shigemura K., Maeda K., et al. Combined Treatment with Ultrasound and Immune Checkpoint Inhibitors for Prostate Cancer. J. Clin. Med. 2022; 11(9): 2448. https://doi.org/10.3390/jcm11092448
- Cohen G., Chandran P., Lorsung R.M., et al. Pulsed-Focused Ultrasound Slows B16 Melanoma and 4T1 Breast Tumor Growth through Differential Tumor Microenvironmental Changes. Cancers. 2021; 13(7): 1546. https://doi.org/10.3390/cancers13071546
- Liu B., Du F., Feng Z., et al. Ultrasound-augmented cancer immunotherapy. J Mater Chem B. 2024; 12(15): 3636–3658. https://doi.org/10.1039/d3tb02705h
- Pan J., Xu Y., Wu Q., et al. Mild magnetic hyperthermia-activated innate immunity for liver cancer therapy. J Am Chem Soc. 2021; 143(21): 8116–8128. https://doi.org/10.1021/jacs.1c02537
- Laukkanen J.A., Kunutsor S.K. The multifaceted benefits of passive heat therapies for extending the healthspan: A comprehensive review with a focus on Finnish sauna. Temperature (Austin). 2024; 11(1): 27–51. https://doi.org/10.1080/23328940.2023.2300623
- Kunutsor S.K., Lavie C.J., Laukkanen J. Finnish sauna and COVID-19. Infez Med. 2021; 29(1): 160–162.
- Patrick R.P., Johnson T.L. Sauna use as a lifestyle practice to extend healthspan. Exp Gerontol. 2021; 154: 111509. https://doi.org/10.1016/j.exger.2021.111509
- Maccarone M.C., Scanu A., Coraci D., et al. The potential role of spa therapy in managing frailty in rheumatic patients: a scoping review. Healthcare (Basel). 2023; 11(13): 11. https://doi.org/10.3390/healthcare11131899
- Scanu A., Tognolo L., Maccarone M.C., Masiero S. Immunological events, emerging pharmaceutical treatments and therapeutic potential of balneotherapy on osteoarthritis. Front Pharmacol. 2021; 12: 681871. https://doi.org/10.3389/fphar.2021.681871
- Mennuni G., Fontana M., Perricone C., et al. A meta-analysis of the effectiveness of mud-bath therapy on knee osteoarthritis. Clin Ter. 2021; 172(4): 372–387. https://doi.org/10.7417/CT.2021.2343
- Capodaglio P., Cremascoli R., Piterà P., Fontana J.M. Whole-body cryostimulation: a rehabilitation booster. J. Rehabil. Med. Clin. Commun. 2022; 5: 2810. https://doi.org/10.2340/jrmcc.v5.2810
- Dziedzic A., Maciak K., Miller E.D., et al. Targeting vascular impairment, neuroinflammation, and oxidative stress dynamics with whole-body cryotherapy in multiple sclerosis treatment. Int J Mol Sci. 2024; 25(7): 3858. https://doi.org/10.3390/ijms25073858
- Klemm P., Hoffmann J., Asendorf T., et al. Whole-body cryotherapy for the treatment of rheumatoid arthritis: a monocentric, single-blinded, randomised controlled trial. Clin Exp Rheumatol. 2022; 40(11): 2133–2140. https://doi.org/10.55563/clinexprheumatol/lrff6k
- Alito A., Verme F., Mercati G.P., et al. Whole body cryostimulation: a new adjuvant treatment in central sensitization syndromes? An expert opinion. Healthcare (Basel). 2024; 12(5): 546. https://doi.org/10.3390/healthcare12050546
- Rose C.L., McGuire H., Graham K., et al. Partial body cryotherapy exposure drives acute redistribution of circulating lymphocytes: preliminary findings. Eur J Appl Physiol. 2023; 123(2): 407–415. https://doi.org/10.1007/s00421-022-05058-3
- Li W., Lou Y., Wang G., et al. A novel multi-mode thermal therapy for colorectal cancer liver metastasis. Biomedicines. Biomedicines. 2022; 10(2): 280. https://doi.org/10.3390/biomedicines10020280
- Wang J., Lou Y., Wang S., et al. IFNγ at the early stage induced after cryo-thermal therapy maintains CD4+ Th1-prone differentiation, leading to long-term antitumor immunity. Front Immunol. 2024; 15: 1345046. https://doi.org/10.3389/fimmu.2024.1345046
- Velez A.F., Alvarez C.I., Navarro F. Cryoablation and immunity in non-small cell lung cancer: a new era of cryo-immunotherapy. Front Immunol. 2023; 14: 1203539. https://doi.org/10.3389/fimmu.2023.1203539
- Feng J., Guiyu D., Xiongwen W. The clinical efficacy of argon-helium knife cryoablation combined with nivolumab in the treatment of advanced non-small cell lung cancer. Cryobiology. 2021; 102: 92–96. https://doi.org/10.1016/j.cryobiol.2021.07.007
- Pochmann D., Peccin P.K., da Silva I.R.V., et al. Cytokine modulation in response to acute and chronic aquatic therapy intervention in Parkinson disease individuals. Neurosci Lett. 2018; 674: 30–35. https://doi.org/10.1016/j.neulet.2018.03.021
- Agulló-Ortuño M.T., Romay-Barrero H., Lambeck J., et al. Systemic inflammatory changes in spinal cord injured patients after adding aquatic therapy to standard physiotherapy treatment. Int J Mol Sci. 2024; 25(14): 7961. https://doi.org/10.3390/ijms25147961
- Bravo C., Rubí-Carnacea F., Colomo I., et al. Aquatic therapy improves self-reported sleep quality in fibromyalgia patients: a systematic review and meta-analysis. Sleep Breath. 2024; 28(2): 565–583. https://doi.org/10.1007/s11325-023-02933-x
- Zamunér A.R., Andrade C.P., Arca E.A., Avila M.A. Impact of water therapy on pain management in patients with fibromyalgia: current perspectives. J Pain Res. 2019; 12: 1971–2007. https://doi.org/10.2147/JPR.S161494
- Hossein-Khannazer N., Kazem Arki M., Keramatinia A., Rezaei-Tavirani M. Low-level laser therapy for rheumatoid arthritis: a review of experimental approaches. J Lasers Med Sci. 2022; 13: e62. https://doi.org/10.34172/jlms.2022.62
- Lee J.H., Chiang M.H., Chen P.H., et al. Anti-inflammatory effects of low-level laser therapy on human periodontal ligament cells: in vitro study. Lasers Med Sci. 2018; 33(3): 469–477. https://doi.org/10.1007/s10103-017-2376-6
- Hennessy M., Hamblin M.R. Photobiomodulation and the brain: a new paradigm. J Opt. 2017; 19(1): 013003. https://doi.org/10.1088/2040-8986/19/1/013003
- Dompe C., Moncrieff L., Matys J., et al. Photobiomodulation-underlying mechanism and clinical applications. J Clin Med. 2020; 9(6): 1724. https://doi.org/10.3390/jcm9061724
- Fangel R., Vendrusculo-Fangel L.M., de Albuquerque C.P., et al. Low level laser therapy for reducing pain in rheumatoid arthritis and osteoarthritis: a systematic review. Fisioter Mov. 2019; 32(6): e003229. https://doi.org/10.1590/1980-5918.032.ao29
- Huang Z., Hamblin M.R., Zhang Q. Photobiomodulation in experimental models of Alzheimer’s disease: state-of-the-art and translational perspectives. Alzheimers Res Ther. 2024; 16(1): 114. https://doi.org/10.1186/s13195-024-01484-x
- Stepanov Y.V., Golovynska I., Zhang R., et al. Near-infrared light reduces beta-amyloid-stimulated microglial toxicity and enhances survival of neurons: mechanisms of light therapy for Alzheimer’s disease. Alzheimers Res Ther. 2022; 14(1): 84. https://doi.org/10.1186/s13195-022-01022-7
- Yang L., Wu C., Parker E., et al. Non-invasive photobiomodulation treatment in an Alzheimer disease-like transgenic rat model. Theranostics. 2022; 12(5): 2205–2231. https://doi.org/10.7150/thno.70756
- Wu X., Shen Q., Chang H., et al. Promoted CD4(+) T cell-derived IFN-gamma/IL-10 by photobiomodulation therapy modulates neurogenesis to ameliorate cognitive deficits in APP/PS1 and 3xTg-AD mice. J Neuroinflammation. 2022; 19(1): 253. https://doi.org/10.1186/s12974-022-02617-5
- Faulin T.D.E.S., Estadella D. Alzheimer’s disease and its relationship with the microbiota-gut-brain axis. Arq Gastroenterol. 2023; 60(1): 144–154. https://doi.org/10.1590/S0004-2803.202301000-17
- Heston M.B., Hanslik K.L., Zarbock K.R., et al. Gut inflammation associated with age and Alzheimer’s disease pathology. Sci Rep. 2023; 13(1): 18924. https://doi.org/10.1038/s41598-023-45929-z
- Lee R.L., Funk K.E. Imaging blood-brain barrier disruption in neuroinflammation and Alzheimer’s disease. Frontiers Aging Neuroscience. 2023; 15: 1144036. https://doi.org/10.3389/fnagi.2023.1144036
- Sharma A., Martins I.J. The role of microbiota in the pathogenesis of Alzheimer’s disease. Acta Sci Nutritional Health. 2023; 7(7): 108–118. https://doi.org/10.31080/ASNH.2023.07.1272
- Cattaneo A., Cattane N., Galluzzi S., et al. Association of brain amyloidosis with pro-inflammatory gut bacterial taxa and peripheral inflammation markers in cognitively impaired elderly. Neurobiology of Aging. 2017; 49: 60–68. https://doi.org/10.1016/j.neurobiolaging.2016.08.019
- Blivet G., Roman F.J., Lelouvier B., et al. Photobiomodulation therapy: a novel therapeutic approach to Alzheimer’s disease made possible by the evidence of a brain-gut interconnection. J Integr Neurosci. 2024; 23(5): 92. https://doi.org/10.31083/j.jin2305092
- Sheng R., Chen C., Chen H., Yu P. Repetitive transcranial magnetic stimulation for stroke rehabilitation: insights into the molecular and cellular mechanisms of neuroinflammation. Front Immunol. 2023; 14: 1197422. https://doi.org/10.3389/fimmu.2023.1197422
- Wang Q., Zeng L., Hong W., et al. Inflammatory cytokines changed in patients with depression before and after repetitive transcranial magnetic stimulation treatment. Front Psychiatry. 2022; 13: 925007. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2022.925007
- Rajkumar R.P. Immune-inflammatory markers of response to repetitive transcranial magnetic stimulation in depression: A scoping review. Asian J Psychiatr. 2024; 91: 103852. https://doi.org/10.1016/j.ajp.2023.103852
- Cao P., Li Y., An B., et al. Efficacy and safety of repetitive transcranial magnetic stimulation combined with antidepressants in children and adolescents with depression: A systematic review and meta-analysis. J Affect Disord. 2023; 336: 25–34. https://doi.org/10.1016/j.jad.2023.05.051
- Tateishi H., Mizoguchi Y., Monji A. Is the therapeutic mechanism of repetitive transcranial magnetic stimulation in cognitive dysfunctions of depression related to the neuroinflammatory processes in depression? Front Psychiatry. 2022; 13: 834425. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2022.834425
- Zhao X., Li Y., Tian Q., et al. Repetitive transcranial magnetic stimulation increases serum brain-derived neurotrophic factor and decreases interleukin-1β and tumor necrosis factor-α in elderly patients with refractory depression. J Int Med Res. 2019; 47(5): 1848–1855. https://doi.org/10.1177/0300060518817417
- Feng P., Zhang Y., Zhao Y., et al. Combined repetitive transcranial magnetic stimulation and gut microbiota modulation through the gut-brain axis for prevention and treatment of autism spectrum disorder. Front Immunol. 2024; 15: 1341404. https://doi.org/10.3389/fimmu.2024.1341404
- Korenblik V., Brouwer M.E., Korosi A., et al. Are neuromodulation interventions associated with changes in the gut microbiota? a systematic review. Neuropharmacol. 2023; 223: 109318. https://doi.org/10.1016/j.neuropharm.2022.109318
- Pateraki G., Anargyros K., Aloizou A.M., et al. Therapeutic application of rTMS in neurodegenerative and movement disorders: A review. J Electromyography Kinesiol. 2022; 62: 102622. https://doi.org/10.1016/j.jelekin.2021.102622
- Bai Y.W., Yang Q.H., Chen P.J., Wang X.Q. Repetitive transcranial magnetic stimulation regulates neuroinflammation in neuropathic pain. Front Immunol. 2023; 14: 1172293. https://doi.org/10.3389/fimmu.2023.1172293
- Dicks L.M.T. Gut bacteria and neurotransmitters. Microorganisms. 2022; 10(9): 1838. https://doi.org/10.3390/microorganisms10091838
- Mitra S., Dash R., Nishan A.A., et al. Brain modulation by the gut microbiota: From disease to therapy. J Advanced Res. 2023; 53: 153–173. https://doi.org/10.1016/j.jare.2022.12.001
- Capó X., Monserrat-Mesquida M., Quetglas-Llabrés M., et al. Hyperbaric oxygen therapy reduces oxidative stress and inflammation, and increases growth factors favouring the healing process of diabetic wounds. Int. J. Mol. Sci. 2023; 24(8): 7040. https://doi.org/10.3390/ijms24087040
- Cannellotto M., Yasells García A., Landa M.S. Hyperoxia: effective mechanism of hyperbaric treatment at mild-pressure. Int J Mol Sci. 2024; 25(2): 777. https://doi.org/10.3390/ijms25020777
- Wu X., You J., Chen X., et al. An overview of hyperbaric oxygen preconditioning against ischemic stroke. Metab Brain Dis. 2023; 38(3): 855–872. https://doi.org/10.1007/s11011-023-01165-y
Дополнительные файлы