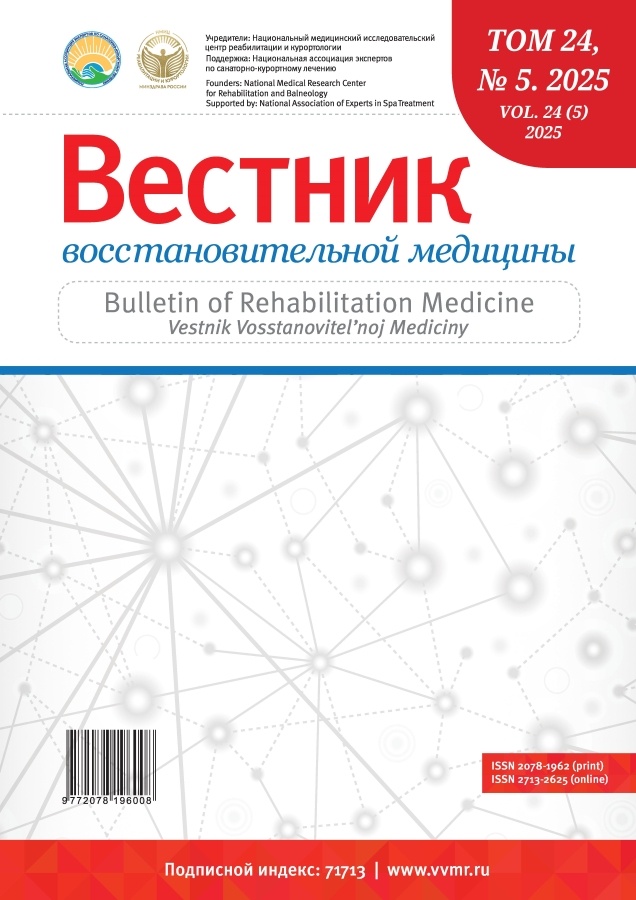Приверженность лечению при распространенных хронических неинфекционных заболеваниях: современные вызовы для врачей и системы здравоохранения. Обзор литературы
- Авторы: Апханова Т.В.1, Марченкова Л.А.1, Кончугова Т.В.1
-
Учреждения:
- Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии
- Выпуск: Том 24, № 5 (2025)
- Страницы: 142-157
- Раздел: Статьи
- Статья опубликована: 20.10.2025
- URL: https://journals.eco-vector.com/2078-1962/article/view/690091
- DOI: https://doi.org/10.38025/2078-1962-2025-24-5-142-157
- ID: 690091
Цитировать
Полный текст
Аннотация
ВВЕДЕНИЕ. Приверженность лечению, то есть четкое выполнение пациентом режима лечения, назначенного врачом, является важной проблемой современного здравоохранения во всем мире.
ЦЕЛЬ. Анализ современных зарубежных и российских исследований о значении приверженности медикаментозной терапии пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Проанализировано 90 источников из международных и отечественных баз данных, опубликованных на 2025 г.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Приведены актуальные сведения о терминологии, масштабах проблемы, экономических потерях от низкой приверженности лечению, характерной для пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями. Определены факторы приверженности, которые ассоциированы с самим препаратом (цена, частота приема, количество назначенных лекарственных средств), с личностными качествами и медицинскими характеристиками пациента (забывчивость, возраст, пол, диагноз и сопутствующая патология, наличие осложнений в анамнезе, образование, качество жизни), с недостаточной информированностью о заболевании и/или о лекарственных средствах, побочных эффектах.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Приверженность больного медикаментозной терапии определяется большим количеством гетерогенных факторов, выявление которых является важным шагом к выбору оптимального метода воздействия на мотивацию, поведение и выбор пациента. Также часто представляется проблематичным выстраивание партнерских взаимоотношений врача и больного из-за особенностей клинической картины, психологических особенностей определенных групп больных или низкого качества организации медицинской помощи.
Полный текст
ВВЕДЕНИЕ
Лучшее лечение, назначенное лучшими врачами, достигнет терапевтической цели только в том случае, если пациент будет мотивирован и привержен лечению.
JAMA, 2003
В развитых странах Запада около 40 % населения страдает по крайней мере одним из хронических неинфекционных заболеваний, которые характеризуются медленным и прогрессирующим течением и занимают в настоящее время первое место среди причин смертности в мире [1]. Наиболее распространенные хронические неинфекционные заболевания включают артериальную гипертензию, сердечную недостаточность, сахарный диабет, хроническую обструктивную болезнь легких, депрессию, а также возраст-ассоциированные заболевания (остеопороз, саркопению, когнитивные дефициты). Несмотря на то что в настоящее время разработаны эффективные методы лечения хронических неинфекционных заболеваний, около 50 % пациентов, страдающих данными заболеваниями, в силу разных причин не принимают лекарственную и немедикаментозную терапию, а также не придерживаются мероприятий по коррекции образа жизни в соответствии с рекомендациями врача [2]. В Российской Федерации крупные эпидемиологические исследования демонстрируют разброс по достижению целевого уровня артериального давления (АД) среди пациентов, получающих антигипертензивную терапию (АГТ) (от 21,5 % до 49,7 %).
Как правило, часть пациентов принимает препараты периодически, часть пациентов прекращает лечение навсегда, а некоторые пациенты самостоятельно снижают дозы препаратов без какого-либо клинического обоснования. Во всех случаях имеет место снижение приверженности лечению (adherence to medication). Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определяет приверженность долгосрочному лечению как степень, в которой пациент следует врачебным рекомендациям относительно времени, дозы и частоты приема лекарственного препарата [3]. Приверженность лечению, то есть выполнение пациентом режима лечения, назначенного врачом, является важной проблемой и нерешенным вопросом системы здравоохранения во всем мире.
Несоблюдение режима приема лекарств приводит к снижению клинической пользы, предотвратимой заболеваемости и смертности [4]. Также эта проблема может усугубиться в ближайшие несколько лет в связи с увеличением продолжительности жизни населения, регистрируемым во многих странах мира [5].
Также было подсчитано, что 269 млрд долларов можно было бы сэкономить, улучшив приверженность лечению пациентов во всем мире [6].
ЦЕЛЬ
Анализ современных зарубежных и российских исследований о значении приверженности медикаментозной терапии пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ) и сахарным диабетом.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проанализировано 90 источников из международных и отечественных баз данных, опубликованных на 2025 г.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Приверженность лечению: современная терминология
В научной литературе термин «комплаенс» (от англ. compliance — согласие) — мера, характеризующая правильность выполнения больным всех врачебных рекомендаций и назначений в рамках профилактики, лечения заболевания и реабилитации, от которых в конечном счете зависит эффективность лечения пациента.
Данный термин был впервые введен в 1978 г. Sackett D.L. и Haynes R.B. [7] в отношении режима приема антигипертензивных препаратов. В настоящее время ВОЗ определяет комплаенс как степень соответствия поведения пациента в отношении применения лекарства, выполнения рекомендаций по питанию или изменению образа жизни назначениям и указаниям врача [8].
В последние годы в научных публикациях чаще используется термин «приверженность лечению» (от англ. adherence to medication). ВОЗ определяет приверженность лечению как степень, в которой поведение человека — прием лекарств, соблюдение диеты и/или изменение образа жизни — соответствует согласованным рекомендациям поставщика медицинских услуг [8]. В связи с этим также принято следующее альтернативное определение, касающееся исключительно приема лекарств: процесс, в ходе которого пациенты принимают назначенные им лекарства, разделенный на три поддающихся количественной оценке этапа: начало, соблюдение и прекращение [9].
Также некоторые зарубежные авторы (в частности, из Великобритании) [10] применяют понятие «согласие с лечением» (concordance with medication). Однако перечисленные термины («комплаенс», «приверженность лечению», «согласие с лечением») неравнозначны. Так, понятие «комплаенс» оценивает правильность соблюдения больным медицинских рекомендаций без учета его собственного отношения к лечению, а именно это отношение является одним из ключевых факторов приверженности. Использование термина «согласие с лечением» основывается на принципе партнерства во взаимоотношениях врача и больного [11] и учитывает точку зрения пациента на проводимую терапию.
Некоторые авторы применяют термины «терапевтическое сотрудничество» и «терапевтический альянс», которые описывают не только правильность соблюдения больными назначений врача и их согласие придерживаться медицинских рекомендаций, но и качество взаимоотношения пациентов с системой медицинской помощи и поставщиками медицинских услуг [12].
В отечественных научных статьях ранее также часто использовался термин «комплаенс», а «согласие с лечением» и «приверженность лечению» применялись как тождественные ему для характеристики правильности соблюдения пациентом режима лекарственной терапии. В научных публикациях также встречаются понятия «комплаенс плюс» в отношении поведения пациента, который придерживается врачебных рекомендаций, и «нон-комплаенс», если пациент не выполняет или не в полном объеме выполняет назначения врача.
Так, Urquhart J., Vrijens B. в 2005 г. определили, что комплаенс — это процесс от начала лечения до его завершения, включающий в себя три фазы:
- согласие пациента с планом лечения;
- выполнение плана назначений;
- прекращение лечения (неважно, полностью выполнен план или нет), что способствует лучшей оценке качества комплаенса [13].
Таким образом, можно сделать вывод, что терминология изменяется вместе с изменением понимания механизмов приверженности. В последние годы все больше авторов указывают на важность согласия пациента с планом лечения, его вовлеченность, формирование терапевтического альянса.
Экономическое бремя низкой приверженности лечению при хронических неинфекционных заболеваниях
В работах последних лет установлено, что плохое соблюдение пациентом назначенной схемы лечения приводит к недостижению целевых клинических исходов, более стремительному прогрессированию заболевания, снижению качества жизни, повышению уровня смертности и увеличению расходов на здравоохранение [14].
Несмотря на растущее количество фактических данных, накопленных за более чем четыре десятилетия, плохая приверженность лечению по-прежнему характерна примерно для половины населения, получающего назначения врача, что приводит к серьезным осложнениям со здоровьем, преждевременной смерти и более широкому использованию медицинских услуг.
По разным оценкам, плохая приверженность режиму лечения является причиной почти 200 000 преждевременных смертей в Европе в год [15]. Также пациенты с хроническими заболеваниями, не придерживающиеся режима приема лекарств, имеют худшие показатели качества жизни. Уровень смертности среди пациентов с сахарным диабетом и ССЗ, которые не придерживаются диеты, почти в два раза выше, чем среди тех, кто придерживается назначенной лечебной диеты.
Повышение приверженности лечению может сэкономить примерно 125 млрд евро в Европе и 105 млрд долларов в США в год в виде предотвратимых госпитализаций, неотложной помощи и амбулаторных посещений.
Три наиболее распространенных хронических заболевания — сахарный диабет, артериальная гипертензия и дислипидемия — выделяются как заболевания с самыми высокими предотвратимыми затратами, для которых каждый дополнительный доллар США, потраченный на лекарства для пациентов, которые придерживаются диеты, может принести от 3 до 13 долларов США экономии только на предотвратимых посещениях отделения неотложной помощи и госпитализации в стационар.
Распространенность несоблюдения режима приема лекарств значительно варьирует в зависимости от состояния и группы пациентов. В большинстве исследований используются различные методы оценки, что затрудняет сравнение показателей приверженности в разных национальных системах здравоохранения [15]. В целом среди пациентов с сахарным диабетом, артериальной гипертензией и дислипидемией от 4 % до 31 % пациентов не получают препарат по впервые выписанному рецепту; из пациентов, получающих препараты по первому рецепту, только 50–70 % принимают лекарства регулярно (то есть не менее 80 % времени); менее половины этих пациентов продолжают принимать лекарства в течение 2 лет после начала терапии.
Таким образом, повышение приверженности терапии является важнейшей задачей системы здравоохранения, поскольку государство в рамках национальных проектов и инициатив ставит амбициозные цели в отношении увеличения продолжительности жизни и активного долголетия и вкладывает серьезные средства в лекарственное обеспечение граждан. Но все эти усилия не принесут ожидаемых результатов, если пациенты не будут принимать назначенную терапию.
Вовлечение и повышение личной мотивации пациента как один из способов повышения приверженности лечению
Существует три основные поведенческие и социально опосредованные причины низкого уровня приверженности лечению у пациентов с хроническими заболеваниями.
Во-первых, это недостаточная информированность всех заинтересованных сторон. Проблема плохой приверженности лечению редко включается в повестку дня национальной политики здравоохранения, и лишь немногие страны Организации экономического сотрудничества и развития (Organisation for economic co-operation and development) регулярно оценивают уровень приверженности лечению пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями. Медицинские работники (врачи, медсестры и фармацевты) недооценивают частоту возникновения низкой приверженности лечению у своих пациентов и редко используют методики ее измерения, а также поведенческие инструменты для улучшения приверженности лечению. Существует нехватка фактических данных об экономически эффективных вмешательствах, которые улучшают приверженность на системном уровне.
Во-вторых, это неправильные цели для терапевтических вмешательств и слабые стимулы. В дискуссиях о несоблюдении режима лечения, как правило, проблема возлагается исключительно на отдельного пациента, в то время как фактические данные свидетельствуют о том, что основными факторами являются характеристики системы здравоохранения, в частности, качество взаимодействия пациента и поставщика медицинских услуг, неудобные процедуры повторной выписки рецептов или высокая стоимость лекарств. Большинство вмешательств, направленных на борьбу с низкой приверженностью лечению, сосредоточены на пациентах, особенно на их забывчивости и неправильных представлениях о лекарствах, а не на уровне развития медицинского менеджмента.
В-третьих, это недостаточная вовлеченность пациента. Пациенты с хроническими заболеваниями, как правило, не принимают участия в решении о назначенном курсе лечения, поэтому пациенты все чаще склонны отвергать данную терапию или не имеют мотивации следовать назначенной терапии. С точки зрения пациента, хроническое заболевание создает не только проблемы со здоровьем, но и долгосрочные личные и социальные проблемы. Тем не менее используемый подход к оказанию медицинской помощи, ориентированный на болезнь, в отличие от личностно-ориентированного, оставляет мало или совсем не оставляет места для рассмотрения личных аспектов состояния пациента.
Все вышеуказанные аспекты важно учитывать при подготовке врачей и специалистов здравоохранения как в системе вузовского образования, так и в программах дополнительного профессионального образования.
В настоящее время приверженность терапии рассматривается как поведение, на которое можно и нужно влиять, поскольку следствием низкой приверженности лечению является низкая эффективность лечения и все ассоциированные с этим последствия.
Однако важно понимать, что любое поведение является отражением мировоззрения пациентов, смыслов и убеждений, без воздействия на которые изменение поведения невозможно.
Таким образом, повышение приверженности лечению представляет собой комплексную и многоуровневую задачу, требующую вовлечения всех участников процесса лечения заболеваний: пациентов, членов их семей, лиц, осуществляющих уход, психологов и психотерапевтов, пациентских организаций, работников здравоохранения, администраторов и организаторов здравоохранения, специалистов по фармакоэкономике, Министерства здравоохранения.
Актуальные вопросы приверженности лечению пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями
ССЗ характеризуются постепенным развитием и прогрессированием в течение всей жизни человека, но также могут оставаться бессимптомными в течение длительного времени [16]. Они вызваны множеством факторов, некоторые из которых не поддаются изменению (возраст, пол и генетика). С другой стороны, модифицируемые факторы риска (курение, отсутствие физической активности, неправильное питание, артериальная гипертензия, сахарный диабет 2-го типа, дислипидемия и ожирение) подлежат коррекции с применением профилактических немедикаментозных мероприятий и при изменении образа жизни, а также при назначении медикаментозной терапии, что может улучшить прогноз и течение заболевания [17].
Многочисленные исследования показали, что большинство повторных сердечно-сосудистых событий происходит у пациентов с низкой приверженностью лечению, перенесших острый коронарный синдром в течение первого года после коронарного события [18, 19].
Приверженность лечению обусловлена пятью взаимосвязанными факторами [20], связанными с пациентом (возрастом, занятостью или экономическим положением, культурой, уровнем образования, географическим положением) [21], заболеванием, режимом лечения, системой здравоохранения и медицинскими работниками [22].
Для объяснения поведения пациентов в отношении соблюдения режима лечения было предложено множество теорий [23]. Так, разработана информационно-мотивационно-поведенческая модель социального поведения пациентов с хроническими заболеваниями, в которой важную роль играет мотивация. Согласно этой модели, на соблюдение режима лечения напрямую влияют следующие три фактора:
- информация и знания о необходимости определенного поведения;
- мотивация к необходимым изменениям в поведении;
- поведенческие навыки, необходимые для достижения желаемого поведения.
Мотивация пациента имеет решающее значение при приеме большого количества лекарств и их включении в повседневную жизнь [24]. Кроме того, в литературе описывается несколько конкретных препятствий на пути к соблюдению режима лечения, связанных как с самой организацией (внешние факторы) [25], так и с самим пациентом (внутренние факторы) [26], которые могут привести к нежелательному поведению, связанному с приемом лекарств.
В европейских странах число смертей, связанных с несоблюдением режима приема назначенных лекарств, составляет 194 500 человек в год, а предполагаемые расходы — 125 млрд евро в год [27].
Масштабы проблемы, связанные с низкой приверженностью лечению среди этой группы пациентов, требуют глубокого изучения трудностей, с которыми сталкиваются сами пациенты. В настоящее время проводится достаточное количество исследований, изучающих мнения и представления пациентов с ССЗ о трудностях, связанных с приверженностью лечению. В недавно опубликованном исследовании испанских ученых (2024) проводилось изучение приверженности лечению пациентов с ССЗ с использованием фокус-групп и одного полуструктурированного анкетирования [28]. В европейских странах показатель приверженности вторичной профилактике составляет 56 % среди пациентов с ССЗ [29]. Основными пунктами данного исследования были аспекты, связанные с личностью, заболеваниями сердца, медикаментозным лечением и восприятием системы здравоохранения. Большинство участников исследования считали важным заботиться о себе, нести ответственность за свое здоровье, вести активный и здоровый образ жизни, а также знать о своем заболевании, чтобы корректировать свое поведение и соблюдать связанные с ним ограничения. Хотя в целом все пациенты признавали важность соблюдения здоровой диеты с низким содержанием жиров, некоторым из них было трудно строго придерживаться таких ограничительных диет. Участники-мужчины подчеркнули важность здорового образа жизни для успешного контроля над заболеванием, в то время как женщины, несмотря на признание важности здорового образа жизни, не были готовы отказаться от вредных привычек, таких как курение или несбалансированное питание, поскольку это приносило им радость.
Что касается отношения к медикаментозной терапии, то среди пациентов преобладало мнение, что лекарства необходимы для поддержания хорошего здоровья и связаны с заботой о себе. При этом личные убеждения, связанные с приемом лекарств и болезнями, имели большое значение, и пациенты, которые верили в важность правильного приема лекарств и соблюдения здорового образа жизни, как правило, хорошо соблюдали режим лечения.
Полипрагмазия была общей проблемой для всех участников этого исследования. Ранее в других исследованиях также было отмечено, что полипрагмазия и сложные схемы лечения представляют собой проблему для пациентов с ССЗ [30–32], особенно для тех, кто считает, что их заболевание протекает бессимптомно, и поэтому недооценивает его тяжесть. Таким образом, результаты проведенного исследования подчеркивают необходимость более тесного сотрудничества между семейными врачами и другими специалистами в области здравоохранения для решения проблем, связанных с полипрагмазией у пациентов с ССЗ.
Что касается представлений о болезни, участники в основном выражали мнение, что их заболевание не должно приводить к ограничению жизнедеятельности, и подчеркивали важность ведения нормальной, активной жизни без отказа от прежних занятий. В этой связи страх был постоянной темой во время первого этапа опроса. Участники описывали его огромное влияние на их жизнь, особенно сразу после постановки диагноза, которое ограничивало их в определенных ситуациях, хотя они постепенно преодолевали его по мере привыкания к жизни с болезнью.
Участники связывали понятие страха с приверженностью лечению, полагая, что чем больше страха, тем выше приверженность. Отношения с медицинскими работниками были охарактеризованы как оптимальные, но тем не менее координация работы системы здравоохранения считалась ограниченной [28].
Также наше внимание привлек опубликованный обзор американских исследователей (2021), посвященный приверженности лечению пациентов с ССЗ [33]. В данном обзоре также отмечается, что, несмотря на доказанное улучшение прогноза и выживаемости пациентов при своевременном назначении медикаментозной терапии, низкая приверженность лечению и преждевременное завершение терапии остаются одними из главных и зачастую недооцененных проблем в кардиологической практике.
Снижение приверженности лечению может быть обусловлено трудностями в инициации и непостоянством, то есть преждевременным прерыванием терапии или несоблюдением режима приема препарата.
Прямые методы оценки приверженности лечению в настоящее время считаются наиболее точными, однако требуют больше времени и финансовых затрат и заключаются в количественном лабораторном измерении уровня содержания активных метаболитов препаратов в крови.
Непрямые методы включают сбор данных самонаблюдения пациентов, учет количества принимаемых препаратов, продления рецепта и использования электронных систем контроля соблюдения режима приема. Непрямые методы более просты в использовании, но характеризуются высокой вероятностью систематической ошибки.
Однозначного «золотого стандарта» при выборе шкалы для измерения приверженности не существует. Тем не менее наиболее близкой к «золотому стандарту» является шкала оценки приверженности фармакотерапии Мориски — Грина (Morisky Medication Adherence Scale — MMAS) [34].
Разработанная более совершенная версия шкалы Мориски — Грина, состоящая из 8 вопросов, имеет более высокие показатели валидации: надежность α — 0,83, показатель отклика пациентов — 98 %, чувствительность — 0,93, специфичность — 0,53 [35]. Применение данной шкалы позволяет выделить три уровня приверженности фармакотерапии: низкий (< 6 баллов), средний (6–7 баллов) и высокий (8 баллов). Таким образом, использование шкалы MMAS-8 является предпочтительной методикой для оценки медикаментозной приверженности у пациентов с хроническими ССЗ.
В данном обзоре авторами были рассмотрены данные 61 клинического исследования по улучшению приверженности лечению у пациентов с ССЗ, из которых в качестве методов оценки приверженности медикаментозной терапии использовали частоту продлений рецепта на препарат (n = 24), самонаблюдение и учет клинических биомаркеров (n = 21) и контроль режима приема препарата с помощью электронных систем мониторинга (n = 10). Авторы изучили распространенность и факторы, способствующие низкой приверженности лечению, а также данные исследований Национального института здоровья и текущие клинические рекомендации AHA/ACC (Американская кардиологическая ассоциация/Американский колледж кардиологии) по повышению приверженности медикаментозной терапии у пациентов кардиологического профиля.
Авторы приводят данные о том, что финансовые убытки, связанные с низкой приверженностью и ассоциированным повышением смертности и госпитализаций до 125 000 и 10 % соответственно, превышают 100–500 млрд долларов [36]. Наиболее низкий уровень приверженности лечению и вместе с этим наиболее высокий риск развития тяжелых осложнений наблюдался среди пациентов с ССЗ, перенесших острое сердечно-сосудистое событие. В когортном исследовании, проведенном в Онтарио, спустя неделю после госпитализации по поводу острого коронарного синдрома 27 % пациентов не продлили рецепт на получение назначенных препаратов, что было связано с увеличением смертности в течение 1 года после госпитализации [37]. Спустя месяц после госпитализации 34 % больных прекратили прием аспирина, β-блокаторов или статинов [38]. Спустя 1–2 года доля пациентов, преждевременно прервавших терапию, достигала 55–60 % [37, 39]. Установлено, что повышение приверженности лечению у пациентов, перенесших острый инфаркт миокарда (ОИМ, ИМ), связано со снижением риска сердечно-сосудистых осложнений, реваскуляризации и смерти в течение 1 года после эпизода ОИМ [40]. Низкая приверженность двойной антитромботической терапии после перенесенного ИМ, наоборот, служит предиктором повышения риска тромбоза стента и смерти [41].
Понимание факторов, влияющих на приверженность лечению, является важным звеном в разработке стратегий по улучшению показателей приверженности кардиологических пациентов медикаментозной терапии. ВОЗ разделяет эти факторы на пять категорий: факторы, связанные с поведением пациента; социально-экономические факторы; качество оказания медицинской помощи, организация системы здравоохранения; влияние терапии; факторы, связанные с коморбидной патологией [3].
Поведение пациента основано на его убеждениях и знаниях о заболевании. В частности, пациенты могут считать, что назначенная терапия не влияет на течение болезни, малоэффективна или может вызывать побочные реакции [42]. Уровень приверженности лечению также коррелирует с когнитивными показателями больных и социально-демографическими характеристиками (в том числе уровнем образования) [43]. Эти факторы часто не учитываются при клинической оценке, однако играют важную роль в снижении приверженности лечению.
Низкий социально-экономический статус (СЭС) является важным предиктором низкой приверженности лечению. Среди пациентов, перенесших ОИМ, низкий СЭС связан с более низкой приверженностью медикаментозной терапии [44]. Каждый восьмой пациент объясняет прекращение терапии высокой стоимостью препаратов [45]. Низкий СЭС также связан с более низкой доступностью качественной медицинской помощи или отсутствием возможности получать рецептурные препараты [46]. Таким образом, низкая приверженность лечению может быть отчасти опосредована низким СЭС пациента, а социально-экономические факторы могут рассматриваться в качестве независимого предиктора клинического исхода и прогноза больных [47].
Уровень развития и доступность системы здравоохранения являются одними из ведущих факторов, определяющих приверженность пациента назначенному лечению. Отсутствие эффективной коммуникации между амбулаторными и стационарными учреждениями, а также между производителями лекарственных препаратов, фармацевтами и медицинскими специалистами способствует снижению доступности лекарственных препаратов для пациента или информированности больного о необходимости и важности прохождения полного курса терапии. Так, в США большая часть взрослых пациентов получает медицинское консультирование в рамках частного медицинского страхования, которое не предусматривает покрытие стоимости или бесплатный доступ к препаратам [48].
Осложнения, побочные эффекты, плохая переносимость лечения, необходимость регулярного контроля клинических маркеров ответа на терапию и/или частый и сложный для пациента режим приема препаратов служат дополнительными факторами, препятствующими формированию приверженности лечению [49]. Так, пациенты с коморбидной патологией часто сталкиваются с полипрагмазией — одновременным назначением большого количества лекарственных средств в одном рецепте, часто ведущим к развитию нежелательных реакций, в том числе в результате лекарственных взаимодействий.
Полипрагмазия и сложные схемы приема лекарственных средств, в том числе подразумевающие изменения режима дозирования или способа применения препаратов, являются ведущими факторами низкой приверженности лечению. Для снижения влияния этих факторов врачи все чаще отдают предпочтение комбинированным полипрепаратам, содержащим фиксированные комбинации нескольких действующих веществ в одной таблетке («политаблетка»). Результаты ретроспективного исследования Verma A.A. et al. показали, что применение комбинированных антигипертензивных препаратов способствует повышению приверженности лечению и снижению риска неблагоприятных сердечно-сосудистых событий по сравнению с использованием нескольких препаратов отдельно [50, 51].
Вместе с расширением спектра рекомендуемых кардиологических препаратов использование фиксированных комбинаций позволяет значительно улучшить показатели приверженности терапии, клинические маркеры ССЗ и долгосрочный прогноз больных.
Подходы к повышению приверженности лечению, основанные на дополнительном информировании пациентов о заболевании (санитарное просвещение), направлены на улучшение понимания больными специфики болезни и необходимости назначенной терапии. По данным рандомизированного клинического исследования [52] с участием 852 больных, перенесших ОИМ (с подъемом сегмента ST), информирование пациентов посредством почтовой рассылки в течение 1 года после перенесенного сердечно-сосудистого события показало низкую эффективность в улучшении приверженности участников исследования к препаратам вторичной профилактики (58,4 % против 58,9 % в экспериментальной и контрольной группах соответственно; отношение шансов (ОШ) — 1,03; 95% доверительный интервал (95% ДИ) — от 0,77 до 1,36).
Аналогичные в отношении приверженности лечению результаты были получены в исследовании ISLAND у пациентов (n = 2632), перенесших ОИМ, проходящих кардиологическую реабилитацию [53]. Информационная рассылка и консультирование по телефону способствовали увеличению доли пациентов, завершивших программу индивидуальной кардиологической реабилитации, однако данное воздействие оказалось неэффективным в повышении приверженности мероприятиям по вторичной профилактике.
Напротив, регулярное обеспечение пациентов специализированной медицинской информацией в интерактивной форме является более эффективным в повышении приверженности лечению по сравнению с единичными мероприятиями. Так, проведение образовательных мероприятий в очном формате, то есть при посещении врача, способствует улучшению показателей приверженности лечению у пациентов, проходящих кардиологическую реабилитацию [54]. Регулярная информационная поддержка по телефону и консультация кардиолога улучшали приверженность терапии у пациентов с ОКС и приводили к снижению риска неблагоприятных сердечно-сосудистых событий (19 % против 29 %; p < 0,001) в течение 36 месяцев наблюдения [55].
Таким образом, регулярная очная консультация не является обязательным условием для улучшения приверженности: повышение приверженности терапии (текстовые сообщения (78,9 %) против звонков (81,4 %) и против стандартного лечения (69,5 %); p = 0,011) и снижение 180-дневной общей смертности или вероятности повторной госпитализации (50,4 % против 41,3 % и против 36,5 %; p < 0,05) у пациентов (n = 767), госпитализированных в связи с острой сердечной недостаточностью, наблюдались при использовании интерактивного формата консультирования (текстовых сообщений и телефонных звонков) [56].
Информационная СМС-рассылка и интерактивное консультирование посредством текстовых сообщений также повышают приверженность АГТ (n = 1372) по сравнению со стандартным лечением. Консультирование по телефону (4 звонка в течение 9 месяцев) повышало приверженность пациентов, которым был установлен коронарный стент с лекарственным покрытием (n = 300), двойной антитромботической терапии на протяжении 12 месяцев наблюдения (87,2 % против 43,1 % в контрольной группе; p < 0,001) [57].
Таким образом, повышение информированности пациента о специфике заболевания и терапии не всегда приводит к улучшению приверженности, что может быть во многом опосредовано используемой тактикой информирования больного. Применение мобильного телефона в этом случае представляется наиболее простым и эффективным методом консультирования пациента и обеспечения его необходимой информацией.
Причины низкой приверженности лечению характеризуются высокой степенью гетерогенности и зависят от множества взаимосвязанных, взаимовлияющих факторов [43]. Создание стандартизированной классификации этих факторов лежит в основе разработки эффективных методологических подходов к повышению приверженности лечению. Каждый подход, описанный в обзоре, нацелен на элиминацию трех и более из описанных групп факторов для повышения приверженности лечению.
Таким образом, применяются 6 категорий стратегий, используемых для коррекции приверженности лечению: образование пациента, электронные устройства для напоминания о приеме препарата, когнитивно-поведенческая терапия и мотивационное консультирование, снижение экономической нагрузки на пациента посредством компенсации стоимости препаратов или материального стимулирования, использование фиксированных комбинаций. Кроме этого, существуют исследования, в которых применяется минимум три подхода без доминирующей стратегии (комплексные методы) для коррекции низкой приверженности лечению.
На фоне высокой информированности, мотивации пациента и регулярного консультирования препятствием к улучшению приверженности кардиологических больных могут выступать трудности в следовании режиму терапии. Для снижения риска пропусков приема препаратов используются инструментальные и электронные системы для напоминания.
Наряду с традиционными контейнерами для таблеток широко применяются часы с будильником, таблетницы с таймером, мобильные приложения и «умные» контейнеры для таблеток. В исследовании с участием 53 480 пациентов с низкой приверженностью лечению использование обычного контейнера для таблеток или контейнера с переключателем (на клеящейся ленте; pill bottle strip) или цифровым таймером в течение 12 месяцев не приводило к статистически значимому улучшению приверженности терапии по сравнению со стандартным лечением (стандартный контейнер, ОШ = 1,03, 95% ДИ: от 0,95 до 1,13; контейнер с цифровым таймером, ОШ = 1,00, 95% ДИ: от 0,92 до 1,09; контейнер с клеящейся лентой-переключателем, ОШ = 0,94, 95% ДИ: от 0,85 до 1,04) [58].
Предпочтительным методом напоминания пациенту о приеме препаратов являются мобильные инструменты: звонки-напоминания, текстовые сообщения и мобильные приложения. Так, автоматические телефонные звонки и сообщения повышают приверженность терапии статинами (n = 5216) по показателю доли пациентов, продливших рецепт на препарат (42,3 % против 26,0 % в контрольной группе; абсолютная разница — 16,3 %; p < 0,001; относительный риск (ОР) — 1,63, 95% ДИ: от 1,50 до 1,76) [59]. Как показывают результаты метаанализов, напоминание о необходимости приема препарата посредством текстовых смс-сообщений повышает приверженность лечению как у пациентов с хроническими заболеваниями в целом, так и у больных ССЗ в частности [60, 61]. Мобильные приложения для напоминаний о приеме препаратов также показывают высокую эффективность в улучшении приверженности пациентов к выполнению назначений врача. У пациентов с неконтролируемой АГ (n = 411) использование мобильного приложения Medisafe, обеспечивающего регулярное напоминание, отчет о соблюдении режима терапии и общение с другими пользователями, способствовало улучшению приверженности АГТ по показателям шкалы количественной оценки приверженности Мориски — Грина (межгрупповая разница — 0,4; 95% ДИ: от 0,1 до 0,7; p = 0,01).
Несоблюдение режима и пропуск приема препаратов — ведущие факторы низкой приверженности лечению. Современные электронные устройства, в частности электронные контейнеры для таблеток, являются доступным и недорогим способом напоминания пациенту о времени приема лекарства и в совокупности с мобильными средствами напоминания — телефонными звонками, текстовым сообщениями и мобильными приложениями — позволяют улучшить приверженность больных, однако в большинстве случаев не влияют на клинический исход. Эти методы подходят пациентам, испытывающим трудности с соблюдением режима терапии и в то же время активно использующим современные технологии.
Недостаточное или неправильное соблюдение режима медикаментозной терапии также может быть вызвано низкой мотивацией пациента к лечению. Для снижения влияния этого фактора рекомендуется проведение мотивационного консультирования и когнитивной терапии и социальная поддержка больных.
Мотивационное консультирование направлено на повышение мотивации пациента к соблюдению режима терапии [62] и позволяет достичь улучшения приверженности лечению (объединенное ОШ для приверженности лечению — 1,13, 95% ДИ: от 1,01 до 1,28) [63].
Таким образом, выбор поведенческих методов в качестве основного инструмента для повышения приверженности лечению обоснован только у больных, для которых низкий уровень мотивации является основным препятствием к соблюдению режима терапии.
Высокая стоимость препаратов является одной из главных причин низкой приверженности медикаментозной терапии [44]. Снижение влияния экономического фактора на приверженность лечению пациентов достигается за счет снижения стоимости терапии и финансовой поддержки больных.
Покрытие полной стоимости терапии у пациентов, перенесших ОИМ (n = 5855), повышает приверженность лечению на 5,6 % по сравнению с покрытием стоимости отдельных компонентов терапии.
Таким образом, снижение расходов на препараты позволяет повысить приверженность пациентов медикаментозной терапии, но не является достаточным условием для улучшения прогноза и клинического исхода больных.
Важно отметить, что описанные исследования были проведены в США, что не позволяет экстраполировать результаты на страны с другой системой здравоохранения и медицинского страхования.
Подходы по кратковременному снижению материальной нагрузки на пациентов посредством уменьшения фактических затрат или повышения материальной мотивации больного способствуют незначительному улучшению показателей приверженности лечению. Кроме того, остается открытым вопрос о сохранении достигнутого уровня приверженности после прекращения финансового стимулирования больных.
Члены лечащей команды — врачи и провизоры — могут оказать значительное влияние на формирование приверженности пациентов медикаментозной терапии. Аналогично повышение взаимодействия больных, перенесших ИМ (n = 806), с медицинскими работниками, оказывающими первичную медико-санитарную помощь посредством телефонных звонков и очных визитов, способствовало повышению приверженности терапии препаратами вторичной профилактики (97 % против 92 % в контрольной группе, ОШ = 2,62; p = 0,006) в течение одного года лечения [64].
Повышение вовлеченности специалистов из разных сфер здравоохранения — провизоров, медико-санитарных работников и врачей-терапевтов — способствует незначительному улучшению показателей приверженности лечению, однако в большинстве случаев требует большого объема ресурсов как со стороны самих членов лечащей команды, так и со стороны системы здравоохранения.
В большинстве случаев на поведение пациента оказывают влияние сразу несколько взаимосвязанных факторов, что делает неэффективным применение только одного подхода к повышению приверженности медикаментозной терапии [43]. Комплексные подходы к изменению приверженности лечению основаны на одновременном использовании трех и более стратегий. Так, контроль соблюдения режима приема препаратов, повышение информированности пациента, совместное ведение пациента провизором и лечащим врачом и напоминание о необходимости продления рецепта посредством голосовых сообщений у пациентов, перенесших ОИМ (n = 253), приводило к повышению приверженности больных к четырем препаратам вторичной профилактики (89,3 % против 73,9 %; p = 0,003) и доли дней, в которые пациент полностью следовал назначенному режиму терапии (0,94 против 0,87; p < 0,001) по сравнению со стандартным лечением.
Таким образом, комбинация > 3 стратегий в большинстве случаев позволяет достигнуть улучшения показателей приверженности пациентов медикаментозной терапии, но практически не влияет на клинические маркеры ССЗ.
Приверженность лечению в кардиологической практике до сих пор продолжает оставаться объектом интенсивных исследований.
Вопросу приверженности лечению посвящены отдельные разделы рекомендаций ACC/AHA и ESC (Европейское общество кардиологов), согласно которым контроль приверженности лечению пациентов, перенесших ОИМ, необходимо осуществлять в течение всего периода госпитализации, периода, предшествующего выписке больного, и при последующих наблюдениях (класс I) [65].
Так, рекомендуется назначение фиксированных комбинаций вместо многократного приема отдельных гипотензивных компонентов пациентам, перенесшим ИМ с ST, пациентам с АГ для повышения приверженности лечению (класс I). Рекомендуется использование материального стимулирования, использование телефонных напоминаний, повышение информированности пациентов и сокращение кратности приема препаратов до 1 раза в сутки (класс I) по ведению пациентов с гиперхолестеринемией [66].
Таким образом, рекомендации ACC/AHA и ESC подчеркивают важность проблемы приверженности лечению у пациентов кардиологического профиля и предлагают внедрение различных стратегий по повышению приверженности у различных групп больных. Однако выполнение этих рекомендаций, несомненно, требует больших усилий как со стороны пациента, так и со стороны медицинских работников и других представителей системы здравоохранения.
Российские исследования приверженности лечению у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями
Внимания заслуживают результаты небольшого количества отечественных исследований, проведенных в последние годы, посвященных изучению приверженности лечению пациентов с ССЗ.
Так, в работе Бойцова С.А. и соавт. 2022 г. отмечается, что при высокой распространенности в популяции Российской Федерации и недостаточной эффективности лечения и контроля АГ в силу низкой приверженности пациентов лечению остается плохо управляемым фактором сердечно-сосудистого риска, который не только является причиной поражения органов-мишеней, но и потенцирует развитие ассоциированных клинических состояний [67].
Неприверженность отечественных пациентов обусловлена большим количеством факторов, часть из которых изучалась в post hoc анализах российских наблюдательных исследований СТИЛЬ и ТРИКОЛОР, продемонстрировавших, что фиксированные комбинации антигипертензивных препаратов позволяют внести существенный вклад в решение такой комплексной проблемы, как низкая приверженность лечению [68].
В Российской Федерации крупные эпидемиологические исследования демонстрируют разброс по достижению целевого уровня АД среди пациентов, получающих АГТ, от 21,5 % в Федеральной программе «Профилактика и лечение артериальной гипертонии в Российской Федерации» до 49,7 % в исследовании ЭССЕ РФ-2 (Эпидемиология сердечно-сосудистых заболеваний в различных регионах Российской Федерации) [67, 69], а по данным эпидемиологического исследования ЭПОХА-АГ 2017 г., только 34,7 % пациентов считались эффективно леченными [70].
Авторы указывают, что проблема достижения целевых значений АД при АГ обусловлена отсутствием у врачей мотивации достигнуть целевого уровня АД у каждого пациента и низкой приверженностью лечению самих пациентов к рекомендованному лечению и изменению образа жизни. Так, по отечественным данным, амбулаторные врачи, вовлеченные в лечение пациентов с АГ, все еще опасаются назначать комбинацию двух и более препаратов на старте терапии, даже у пациентов с АГ 2-й или 3-й степени [71].
С другой стороны, показано, что низкая приверженность к основным классам сердечно-сосудистых препаратов (β-блокаторам, ингибиторам ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, статинам) сопровождалась увеличением риска госпитализации по сердечно-сосудистым причинам на 10–40 % [72].
Также отмечается, что использование фиксированных комбинаций (ФК) антигипертензивных препаратов является одной из наиболее эффективных интервенций по улучшению приверженности терапии и способствует повышению эффективности и переносимости терапии, а также снижает лекарственную нагрузку на пациента [73].
В российском наблюдательном исследовании ТРИКОЛОР, изучавшем эффективность тройной ФК амлодипин/индапамид/периндоприл у амбулаторных пациентов с АГ в рутинной практике (3 месяца наблюдения), проводилась оценка влияния данной ФК на приверженность к АГТ [74]. В отдельно выполненном post hoc анализе полученных данных была проведена оценка указанных параметров в зависимости от возраста включенных пациентов (моложе и старше 65 лет), описаны основные клинические характеристики, ассоциированные с плохой приверженностью на старте терапии в зависимости от возраста пациента [75]. Из 1116 включенных пациентов 66,9 % (n = 747) были моложе 65 лет и 33,1 % (n = 369) — старше 65 лет. На визите включения и завершающем 4-м визите оценивали приверженность терапии тройной ФК на основании заполнения валидированного опросника, состоящего из 6 вопросов [76]. В обеих возрастных группах (через 3 месяца терапии тройной ФК) доля пациентов с хорошей и умеренной приверженностью АГТ значимо увеличилась с 54,8 % до 95,5 % и с 51,2 % до 94,0 % соответственно.
Полученные результаты показали положительное влияние использования тройной ФК амлодипина/индапамида/периндоприла на приверженность лечению как у более молодых (до 65 лет), так и у более пожилых (старше 65 лет) пациентов.
Гендерные различия приверженности лечению ФК периндоприла/бисопролола у пациентов с АГ и стабильной ишемической болезнью сердца в рутинной клинической практике были изучены в ходе российского наблюдательного исследования СТИЛЬ с проведением post hoc анализа [77]. Прием ФК периндоприла/бисопролола сопровождался значимым снижением АД спустя 3 месяца наблюдения в обеих стратах пациентов (53,54 % (n = 1007) женщин и 46,46 % (n = 874) мужчин). Так, доля пациентов мужского пола с высокой приверженностью терапии к 1-му и 3-му месяцу наблюдения составила 36,06 % и 55,38 % соответственно. В женской популяции пациентов соответствующие показатели высокой приверженности составили 38,01 % и 59,01 %. Полностью неприверженными терапии ФК к концу 3-го месяца наблюдения было только 3,09 % женщин и 2,72 % мужчин.
Данное исследование подтвердило утверждение необходимости применения комбинированной АГТ на старте лечения у всех пациентов высокого и очень высокого риска, рекомендуемое зарубежными и российскими экспертами независимо от пола.
В исследовании отечественных ученых COMPLIANCE 2023 г. изучалась приверженность лечению и факторы, связанные с ней, у 72 пациентов с хронической сердечной недостаточностью в рамках амбулаторного регистра ПРОФИЛЬ. Во время визита включения и через 1 год определялась общая приверженность медикаментозной терапии с помощью опросника Шкалы приверженности НОДФ (Национального общества доказательной фармакотерапии), а также изучалась приверженность препаратам с доказанным влиянием на прогноз заболевания у данной когорты пациентов. При включении в исследование 47 % пациентов оказались абсолютно приверженными назначенной ранее медикаментозной терапии, 43 % — частично приверженными и частично неприверженными, 10 % — абсолютно неприверженными. Среди основных факторов неприверженности медикаментозной терапии 38 % пациентов отмечали большое количество назначенных препаратов, 27 % — забывали принимать назначенные препараты; опасение побочных эффектов как причину неприверженности терапии отмечали 22 % пациентов. Через 1 год наблюдения отмечено изменение факторов неприверженности. Основное место заняла забывчивость (40 %), второй по частоте фактор — это большое количество препаратов (27 %), опасение побочных эффектов отметили только 13 % пациентов, что было существенно меньше, чем во время визита включения [78].
Анализ приверженности лечению, факторов, влияющих на нее, и качества жизни больных с ССЗ на амбулаторном этапе оказания медицинской помощи, проведенный сотрудниками Научно-исследовательского института кардиологии — филиала ФГБНУ «Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук» в 2020 г., включал 225 пациентов с различными стадиями хронической сердечной недостаточности [79]. Для анализа приверженности пациентов лечению использовалась шкала Мориски — Грина, а для оценки уровня качества жизни пациентов использовали опросник EuroQol EQ-5D-5L. Доля приверженных пациентов, обратившихся за амбулаторной медицинской помощью, составила 59 %. Основной причиной несоблюдения врачебных назначений была забывчивость — 25,27 %. По мнению пациентов, в 73,8 % случаев в повышении их комплаентности большую роль играет общение с врачом. Суммарный индекс качества жизни пациентов с ССЗ составил 0,712 ± 0,165. При оценке взаимосвязи качества жизни и приверженности лечению была выявлена положительная корреляция: чем более комплаентен пациент, тем выше его уровень качества жизни, и наоборот (r = 0,2, p = 0,013). Взаимосвязь между высокой приверженностью лечению и уровнем качества жизни подтверждалась в группе мужчин (p = 0,01), тогда как у женщин статистическая значимость различий не достигалась (p = 0,2). Авторами было установлено, что практически каждый второй пациент нарушает режим приема лекарственных препаратов, а улучшению приверженности лечению может способствовать более пристальное внимание со стороны лечащего врача с подробным разъяснением причин и клинической картины заболевания, методов лечения, а также способов самоконтроля симптомов заболевания. Степень приверженности лечению была взаимосвязана с уровнем качества жизни по шкале EQ-5D-5L преимущественно в мужской популяции.
Таким образом, в кардиологической практике низкая приверженность лечению является одной из ведущих причин высокой заболеваемости и смертности пациентов. Повышение приверженности медикаментозной терапии позволяет не только улучшить клинический исход больных, но и значительно снизить нагрузку на систему здравоохранения. Однако сегодня врачи предпочитают назначение дополнительных альтернативных препаратов вместо применения подходов по повышению приверженности используемому на данный момент лечению. Отчасти это опосредовано спецификой расстановки приоритетов в системе здравоохранения: направление ресурсов на разработку новых, в том числе комбинированных, препаратов, но не на повышение приверженности существующим методам терапии.
Приверженность терапии у пациентов сахарным диабетом 2-го типа
По данным ВОЗ, взрослые с сахарным диабетом 2-го типа имеют более чем двукратный риск сосудистых исходов, включая как ишемическую болезнь сердца, так и инсульт [80, 81], а ССЗ являются наиболее распространенной причиной смерти среди людей с сахарным диабетом [82].
Установлено, что базальный инсулин связан с клиническими преимуществами и потенциально меньшим страхом гипогликемии среди людей с сахарным диабетом 2-го типа и врачей [83]. Однако более ранние исследования показали, что каждый третий человек с сахарным диабетом 2-го типа не желает начинать лечение инсулином [84]. Кроме того, у некоторых людей возникают трудности с управлением лечением инсулином, что может привести к прекращению лечения [85]. Данные показали, что одной из причин плохого контроля гликемии является отсутствие приверженности (определяемой как соблюдение назначенного лекарства с точки зрения графика приема и дозировки лекарств) и настойчивости (определяемой как продолжение приема лекарства в течение предписанного периода) к противодиабетическим препаратам, то есть лечению базальным инсулином [86, 87].
В систематическом обзоре литературы представлены данные о приверженности/неприверженности базальному инсулину и о сохранении/неприверженности к терапии среди пациентов с сахарным диабетом 2-го типа из Западной Европы. В ходе исследования, включавшего 12 исследований, оценивались несоблюдение режима приема лекарств и несоблюдение режима лечения с использованием различных критериев оценки. Данные о несоблюдении режима лечения среди пациентов сахарным диабетом 2-го типа свидетельствуют о том, что со временем уровень несоблюдения режима лечения снижается, достигая 21 %, 34 % и 37 % через 6, 12 и 18 месяцев соответственно. В этом систематическом обзоре литературы было установлено, что 44 % пациентов с сахарным диабетом 2-го типа не соблюдают режим лечения в течение 12 месяцев. Эти цифры подчеркивают огромную неудовлетворенную потребность в уходе за пациентами с сахарным диабетом 2-го типа и указывают на то, что существует явная возможность улучшить приверженность и постоянство лечения, а также снизить риск осложнений сахарного диабета и использование ресурсов здравоохранения путем предоставления новых стратегий лечения диабета с более простой терапией, уменьшенной частотой приема доз, улучшенным профилем безопасности, а также стратегий обучения и коммуникации с пациентами [88].
Приверженность терапии у пациентов после мозгового инсульта
Приверженность лечению и соблюдение режима приема лекарств у пациентов, перенесших инсульт, обычно является проблематичным. В исследовании Cheiloudaki E., Alexopoulos E.C. в 2019 г. оценивались уровень соблюдения режима лечения, а также социально-демографические, клинические и субъективные факторы, связанные с долгосрочным соблюдением режима лечения пациентами, перенесшими инсульт. В исследование были включены 140 пациентов (66,4 % мужчин), перенесших ишемический инсульт не менее шести месяцев назад. Соблюдение режима лечения измерялось с помощью шкалы отчета о соблюдении режима приема лекарств, а качество жизни — с помощью опросника «Качество жизни, специфичное для инсульта». Кроме того, оценивались представления о заболевании с помощью опросника «Убеждения о лекарствах» и краткого опросника восприятия болезни. Отношения «врач – пациент» оценивались с помощью опросника «Модель саморегуляции здравого смысла», а поддержка семьи — с помощью шкалы FSS. Для выявления значимых факторов, влияющих на соблюдение режима лечения у этих пациентов, перенесших инсульт, использовался однофакторный и многофакторный анализ. Авторы установили, что у 68,6 % пациентов комплаентность была классифицирована как оптимальная, у 25,7 % — как частичная и у 5,7 % — как плохая. Последние две категории были расценены как неоптимальная комплаентность в многофакторном анализе. Высокая комплаентность была связана с психическим состоянием пациента (ОШ = 3,94; 95% ДИ: 1,84–4,46), восприятием необходимости приема лекарств (ОШ = 1,26; 95% ДИ: 1,01–1,56) и коммуникацией между врачом и пациентом (ОШ = 1,76; 95% ДИ: 1,15–2,70). Мужчины продемонстрировали более низкую комплаентность, чем женщины, а также повышенную обеспокоенность по поводу приема лекарств (ОШ = 0,83; 95% ДИ: 0,69–0,99). Как ни парадоксально, качество жизни, связанное с работой/продуктивностью, было обратно пропорционально связано с приверженностью лечению (ОШ = 0,44; 95% ДИ: 0,23–0,82). Таким образом, в данном исследовании было показано, что ощущение необходимости приема лекарств и взаимодействие врача и пациента являются управляемыми факторами, связанными с приверженностью лечению пациентов, перенесших инсульт, а при проведении программы реабилитации и возвращения к трудовой деятельности эти факторы должны учитываться во время оказания поддержки таким пациентам [89].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В кардиологической практике низкая приверженность лечению является одной из ведущих причин высокой заболеваемости и смертности пациентов. Повышение приверженности медикаментозной терапии позволяет не только улучшить клинический исход больных, но и значительно снизить нагрузку на систему здравоохранения. Однако сегодня врачи предпочитают назначение дополнительных альтернативных препаратов вместо применения подходов по повышению приверженности используемому на данный момент лечению. Отчасти это опосредовано спецификой расстановки приоритетов в системе здравоохранения: направление ресурсов на разработку новых, в том числе комбинированных препаратов, но не на повышение приверженности существующим методам терапии.
Исследования, рассмотренные в обзоре, демонстрируют высокую степень гетерогенности данных по оценке эффективности подходов к улучшению приверженности лечению. В большинстве случаев используемые методы позволяют достигнуть умеренного или незначительного повышения показателей приверженности лечению без значимых улучшений клинических маркеров, прогноза и исхода больных. Кроме того, гетерогенность результатов исследований может быть опосредована несоответствием определения реального барьера к поддержанию высокой приверженности лечению со стороны пациента и используемых методов воздействия на приверженность. Таким образом, методы по улучшению приверженности лечению должны быть направлены на конкретные факторы и барьеры, препятствующие соблюдению пациентом режима терапии.
В ряде работ подтверждается эффективность подходов по улучшению приверженности, однако величина эффекта варьирует в зависимости от специфики метода и типа препятствующего фактора. Например, наиболее высокая эффективность в улучшении показателей приверженности лечению и клинического исхода пациентов продемонстрирована в отношении фиксированных комбинированных препаратов, однако этот подход ограничен когортой пациентов, которым необходим прием сразу нескольких лекарственных средств.
Напоминание о приеме препаратов посредством использования мобильных устройств, в том числе через смс-рассылки, также способствует повышению приверженности лечению и в некоторых случаях улучшению прогноза и клинического исхода пациентов. Однако, несмотря на простоту использования, эти подходы оказываются эффективными, только если пациент неосознанно пропускает прием препарата, то есть забывает о нем. Аналогично методы, направленные на повышение информированности пациента о специфике заболевания, в частности посредством регулярных контактов с врачом в очном или дистанционном (телефонные звонки) формате, способствуют увеличению приверженности лечению и могут улучшать клинический исход больных, но зачастую оказываются экономически невыгодными, требуют большого количества времени со стороны медицинских специалистов и являются наиболее эффективными только для пациентов с низким уровнем информированности о заболевании или специфике терапии.
Снижение затрат больного на лечение с помощью полной компенсации стоимости препаратов или материального стимулирования незначительно улучшает приверженность лечению и не влияет на динамику маркеров ответа на терапию, в то же время являясь наиболее дорогим и экономическим невыгодным для системы здравоохранения в целом и страховых компаний в частности методом воздействия.
Наконец, мотивационное консультирование и когнитивно-поведенческая терапия, а также повышение вовлеченности медицинских специалистов, в том числе провизоров и санитарно-медицинских работников, для улучшения маршрутизации пациентов являются одними из наиболее дорогостоящих методов и не всегда приводят к клинически значимым улучшениям уровня приверженности лечению и прогноза больных.
Неоднородность в показателях эффективности описанных методов может быть результатом некорректного или неточного определения ведущих факторов низкой приверженности в каждом конкретном случае. Так, регулярные напоминания о необходимости приема препарата пациентам с низким СЭС или, наоборот, компенсация расходов на препараты в группе больных, обладающих низкой мотивацией к поддержанию терапии или недостаточным пониманием специфики заболевания и необходимости лечения, вероятнее всего, не приведут к улучшению приверженности лечению и окажутся экономически невыгодными как для пациента, так и для системы здравоохранения.
Таким образом, приверженность больного медикаментозной терапии определяется большим количеством гетерогенных факторов, выявление которых является важным шагом к выбору оптимального метода воздействия на мотивацию, поведение и выбор пациента.
Также в современных реалиях клинической практики часто представляется проблематичным выстраивание партнерских взаимоотношений врача и больного из-за особенностей клинической картины или опасности некоторых заболеваний (психические расстройства, инфекции, заболевания, угрожающие жизни, и др.), психологических особенностей определенных групп больных (склонность навязывать врачу «особое» мнение о лечении) или низкого качества организации медицинской помощи (в частности, ограниченное время амбулаторного приема пациента врачом) [90].
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Вклад авторов. Все авторы подтверждают свое авторство в соответствии с международными критериями ICMJE (все авторы внесли значительный вклад в концепцию, дизайн исследования и подготовку статьи, прочитали и одобрили окончательный вариант до публикации). Наибольший вклад распределен следующим образом: Апханова Т.В., Кончугова Т.В. — научное обоснование, методология, написание черновика рукописи, руководство проектом, редактирование рукописи; Марченкова Л.А. — курация данных, обеспечение материалов для исследования.
Источники финансирования. Данное исследование не было поддержано никакими внешними источниками финансирования.
Конфликт интересов. Апханова Т.В. — научный редактор журнала «Вестник восстановительной медицины», Марченкова Л.А. — председатель редакционного совета журнала «Вестник восстановительной медицины», Кончугова Т.В. — заместитель главного редактора журнала «Вестник восстановительной медицины».
Доступ к данным. Данные, подтверждающие выводы этого исследования, можно получить по обоснованному запросу у корреспондирующего автора.
ADDITIONAL INFORMATION
Author Contributions. All authors confirm their authorship in accordance with the international criteria of the ICMJE (all authors have made significant contributions to the concept, design of the study and preparation of the article, read and approved the final version before publication). Special contributions: Apkhanova T.V., Konchugova T.V. — conceptualization, methodology, writing — original draft, project administration, writing — review & editing; Marchenkova L.A. — data curation, resources.
Funding. This study was not supported by any external funding sources.
Disclosure. Apkhanova T.V. — Scientific Editor of Bulletin of Rehabilitation Medicine Journal, Marchenkova L.A. — Chair of the Editorial Council of Bulletin of Rehabilitation Medicine Journal, Konchugova T.V. — Deputy Editor-in-Chief of Bulletin of Rehabilitation Medicine Journal.
Data Access Statement. The data that support the findings of this study are available on reasonable request from the corresponding author.
Об авторах
Татьяна Валерьевна Апханова
Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии
Email: apkhanovatv@nmicrk.ru
ORCID iD: 0000-0003-3852-2050
доктор медицинских наук, главный научный сотрудник отдела физиотерапии и рефлексотерапии
Россия, МоскваЛариса Александровна Марченкова
Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии
Автор, ответственный за переписку.
Email: apkhanovatv@nmicrk.ru
ORCID iD: 0000-0003-1886-124X
доктор медицинских наук, доцент, руководитель научно-исследовательского управления, главный научный сотрудник отдела соматической реабилитации, репродуктивного здоровья и активного долголетия, профессор кафедры восстановительной медицины, физической терапии и медицинской реабилитации
Россия, МоскваТатьяна Венедиктовна Кончугова
Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии
Email: apkhanovatv@nmicrk.ru
ORCID iD: 0000-0003-0991-8988
доктор медицинских наук, профессор, главный научный сотрудник отдела физиотерапии и рефлексотерапии
Россия, МоскваСписок литературы
- Di Martino M. Una compressa la mattina e mezza la sera: l’aderenza ai trattamenti farmacologici. Recenti Prog Med. 2017; 108(4):165–167. https://doi.org/10.1701/2681.27450
- Brown M.T., Bussell J.K. Medication adherence: WHO cares? Mayo Clin Proc 2011; 86: 304–14. https://doi.org/10.4065/mcp.2010.0575
- World Health Organization. Sabaté E. Adherence to long-term therapies: evidence for action. 2003; 110 p. Available at: https://iris.who.int/handle/10665/42682 (Accessed: 01.08.2025).
- DiMatteo M.R., Giordani P.J., Lepper H.S., Croghan T.W. Patient adherence and medical treatment outcomes: a meta-analysis. Med Care. 2002; 40(9): 794–811. https://doi.org/10.1097/00005650-200209000-00009
- Jackson C., Eliasson  L., Barber N., Weinman J. Applying COM-B to medication adherence. Eur Health Psychol. 2014; 16(1): 7–17.
- IMS Institute for Healthcare Informatics. Advancing the responsible use ofmedicines: Applying levers for change. October 2012. Available at: https://pharmanalyses.fr/wp-content/uploads/2012/10/Advancing-Responsible-Use-of-Meds-Report-01-10-12.pdf (Accessed: 01.08.2025).
- Sackett D.L., Haynes R.B., Gibson E.S., et. al. Patient compliance with antihypertensive regimens. Patient Couns Health Educ. 1978; 1(1): 18–21. https://doi.org/10.1016/s0738-3991(78)80033-0
- World Health Organization / Geneva. Adherence to long-term treatments. Evidence for action. WHO; 2004. Available at: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42682/9241545992.pdf (Accessed: 01.08.2025).
- Vrijens B., De Geest S., Hughes D.A., et al. A new taxonomy for describing and defining adherence to medications. Br J Clin Pharmacol. 2012; 73(5): 691–705. https://doi.org/10.1111/j.1365-2125.2012.04167.x
- For the National Coordinating Centre for NHS Service Delivery and Organisation R & D (NCCSDO). Concordance, adherence and compliance in medicine taking. Report. December 2005. 2005; 309 p. Available at: https://www.ahpo.net/assets/NCCSDO%20Compliance%202005.pdf (Accessed: 01.08.2025).
- Ястребов В.С. Проблемы патернализма и партнерства в психиатрии. Психиатрия. 2012; 4(56): 7–13. [Yastrebov V.S. Problems of Paternalism and Partnership in Psychiatry. Psikhiatriya = Psychiatry (Moscow). 2012; 4(56): 7–13 (In Russ.).]
- Данилов Д.С. Терапевтическое сотрудничество (комплаенс): содержание понятия, механизмы формирования и методы оптимизации. Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. 2014; 6(2): 4–12. https://doi.org/10.14412/2074-2711-2014-2-4-12 [Danilov D. Therapeutic collaboration (compliance): Content of the definition, mechanisms of formation, and methods of optimization. Nevrologiya, neiropsikhiatriya, psikhosomatika = Neurology, Neuropsychiatry, Psychosomatics. 2014; 6(2): 4–12. https://doi.org/10.14412/2074-2711-2014-2-4-12 (In Russ.).]
- Urquhart J., Vrijens B. New findings about patient adherence to prescribed drug dosing regimens: an introduction to pharmionics. Eur J Hospital Pharm Sci. 2005; 11(5): 103–106.
- Cho J.Y., Wilson F.A., Chaikledkaew U., et al. Projected cost savings with optimal medication adherence in patients with cardiovascular disease requiring lipid-lowering therapy: a multinational economic evaluation study. Journal of the American Heart Association. 2024; 13(22): e037792. https://doi.org/10.1161/JAHA.124.037792
- Khan R., Socha-Dietrich K. Investing in medication adherence improves health outcomes and health system efficiency: Adherence to medicines for diabetes, hypertension, and hyperlipidaemia. OECD Health Working Papers. 2018; 105. https://doi.org/10.1787/8178962c-en
- Gaziano J.M. Global Burden of Cardiovascular Disease. In: Braunnwald E., Zipes D.P., Libby P., editors. Heart Disease: A Textbook of cardiovascular medicine. 6th ed. Philadelphia: W.B. Saunders Company. 2001; pp. 1–17.
- European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation; Reiner Z., Catapano A.L., De Backer G., et al.; ESC Committee for Practice Guidelines (CPG) 2008–2010 and 2010–2012 Committees. ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: the Task Force for the management of dyslipidaemias of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Atherosclerosis Society (EAS). Eur Heart J. 2011; 32(14): 1769–1818. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehr158
- Briffa T.G., Hobbs M.S., Tonkin A., et al. Population trends of recurrent coronary heart disease event rates remain high. Circ Cardiovasc Qual Outcomes. 2011; 4(1): 107–113. https://doi.org/10.1161/circoutcomes.110.957944
- Chowdhury R., Khan H., Heydon E., et al. Adherence to cardiovascular therapy: a meta-analysis of prevalence and clinical consequences. Eur Heart J. 2013; 34(38): 2940–2948. https://doi.org/10.1093/eurheartj/eht295
- Dilla T., Valladares A., Lizán L., Sacristán J.A. Adherencia y persistencia terapéutica: causas, consecuencias y estrategias de mejora [Treatment adherence and persistence: causes, consequences and improvement strategies]. Aten Primaria. 2009; 41(6): 342–348. https://doi.org/10.1016/j.aprim.2008.09.031 (In Spanish).
- Solera G., Solera J., Tárraga L., et al. Evaluación de la efectividad del farmacéutico en la mejora de la adherencia terapéutica de pacientes con diabetes mellitus tipo 2: revisión sistemática y meta-análisis. Med Gen Fam. 2018; 7(2): 60–65. http://doi.org/10.24038/mgyf.2018.029
- Gagnon M.D., Waltermaurer E., Martin A., et al. Patient Beliefs Have a Greater Impact Than Barriers on Medication Adherence in a Community Health Center. J Am Board Fam Med. 2017; 30(3): 331–336. https://doi.org/10.3122/jabfm.2017.03.160129
- Yang C., Hui Z., Zeng D., et al. Examining and adapting the information-motivation-behavioural skills model of medication adherence among community-dwelling older patients with multimorbidity: protocol for a cross-sectional study. BMJOpen. 2020; 10: e033431. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2019-033431
- Duffy E.Y., Ashen D., Blumenthal R.S., et al. Communication approaches to enhance patient motivation and adherence in cardiovascular disease prevention. Clin Cardiol. 2021; 44(9): 1199–1207. https://doi.org/10.1002/clc.23555
- Miller V., Nambiar L., Saxena M., et al. Exploring the Barriers to and Facilitators of Using Evidence-Based Drugs in the Secondary Prevention of Cardiovascular Diseases: Findings From a Multistakeholder, Qualitative Analysis. Glob Heart. 2018; 13(1): 27–34.e17. https://doi.org/10.1016/j.gheart.2017.08.001
- Reason J. Human error: models and management. BMJ. 2000; 320(7237): 768–770. https://doi.org/10.1136/bmj.320.7237.768
- European Commission/Medi-Voice. MEDI-VOICE Report Summary. Project ID: 17893. European Union/European Commission. 2011. [Ref list]. Available at: https://cordis.europa.eu/project/id/17893/reporting (Accessed: 01.08.2025).
- Carbonell-Soliva Á., Nouni-García R., López-Pineda A., et al. Opinions and perceptions of patients with cardiovascular disease on adherence: a qualitative study of focus groups. BMC Prim Care. 2024; 25(1): 59. https://doi.org/10.1186/s12875-024-02286-8
- Piepoli M.F., Hoes A.W., Agewall S., et al. ESC Scientific Document Group. 2016 European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice: The Sixth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice (constituted by representatives of 10 societies and by invited experts) Developed with the special contribution of the European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation (EACPR). Eur Heart J. 2016; 37(29): 2315–2381. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehw106
- Kvarnström K., Airaksinen M., Liira H. Barriers and facilitators to medication adherence: a qualitative study with general practitioners. BMJ Open. 2018; 8(1): e015332. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2016-015332
- Desai N.R., Farbaniec M., Karalis D.G. Nonadherence to lipid-lowering therapy and strategies to improve adherence in patients with atherosclerotic cardiovascular disease. Clin Cardiol. 2023; 46(1): 13–21. https://doi.org/10.1002/clc.23935
- Carratalá-Munuera C., Cortés-Castell E., Márquez-Contreras E., et al. Barriers and solutions to improve therapeutic adherence from the Perspective of Primary Care and hospital-based Physicians. Patient Prefer Adherence. 2022; 16: 697–707. https://doi.org/10.2147/PPA.S319084
- Simon S.T., Kini V., Levy A.E., Ho P.M. Medication adherence in cardiovascular medicine. BMJ. 2021; 374: n1493. https://doi.org/10.1136/bmj.n1493
- Čulig J., Leppée M. From Morisky to Hill-Bone; self-reports scales for measuring adherence to medication. Collegium antropologicum. 2014; 38: 55–62.
- Morisky D.E., Ang A., Krousel-Wood M., Ward H.J. Predictive validity of a medication adherence measure in an outpatient setting. J Clin Hypertens. 2008; 10: 348–354. https://doi.org/10.1111/j.1751-7176.2008.07572.x
- Cutler R.L., Fernandez-Llimos F., Frommer M., et al. Economic impact of medication non-adherence by disease groups: a systematic review. BMJ Open. 2018; 8: e016982. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2017-016982
- Jackevicius C.A., Li P., Tu J.V. Prevalence, predictors, and outcomes of primary nonadherence after acute myocardial infarction. Circulation. 2008; 117: 1028–1036. https://doi.org/10.1161/circulationaha.107.706820
- Ho P.M., Spertus J.A., Masoudi F.A., et al. Impact of medication therapy discontinuation on mortality after myocardial infarction. Arch Intern Med. 2006; 166: 1842–1847. https://doi.org/10.1001/archinte.166.17.1842
- Kramer J.M., Hammill B., Anstrom K.J., et al. National evaluation of adherence to beta-blocker therapy for 1 year after acute myocardial infarction in patients with commercial health insurance. Am Heart J. 2006; 152: 454.e1–454.e8. https://doi.org/10.1016/j.ahj.2006.02.030
- Bansilal S., Castellano J.M., Garrido E., et al. Assessing the impact of medication adherence on long-term cardiovascular outcomes. J Am Coll Cardiol. 2016; 68: 789–801. https://doi.org/10.1016/j.jacc.2016.06.005
- Boggon R., van Staa T.P., Timmis A., et al. Clopidogrel discontinuation after acute coronary syndromes: frequency, predictors and associations with death and myocardial infarction--a hospital registry-primary care linked cohort (MINAP-GPRD). Eur Heart J. 2011; 32: 2376–2386. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehr340
- Rosenbaum L. Beyond belief--how people feel about taking medications for heart disease. N Engl J Med. 2015; 372: 183–187. https://doi.org/10.1056/nejmms1409015
- Lauffenburger J.C, Isaac T., Bhattacharya R., et al. Prevalence and impact of having multiple barriers to medication adherence in nonadherent patients with poorly controlled cardiometabolic disease. Am J Cardiol. 2020; 125: 376–382. https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2019.10.043
- Gaalema D.E., Elliott R.J., Morford Z.H., et al. Effect of socioeconomic status on propensity to change risk behaviors following myocardial infarction: implications for healthy lifestyle medicine. Prog Cardiovasc Dis. 2017; 60: 159–168. https://doi.org/10.1016/j.pcad.2017.01.001
- Khera R., Valero-Elizondo J., Das S.R., et al. Cost-related medication nonadherence in adults with atherosclerotic cardiovascular disease in the United States, 2013 to 2017. Circulation. 2019; 140: 2067–2075. https://doi.org/10.1161/circulationaha.119.041974
- Luiza V.L., Chaves L.A., Silva R.M., et al. Pharmaceutical policies: effects of cap and co-payment on rational use of medicines. Cochrane Database Syst Rev. 2015; 5: CD007017. https://doi.org/10.1002/14651858.cd007017.pub2
- Doll J.A., Hellkamp A.S., Goyal A., et al. Treatment, outcomes, and adherence to medication regimens among dual Medicare-Medicaid-eligible adults with myocardial infarction. JAMA Cardiol. 2016; 1: 787–794. https://doi.org/10.1001/jamacardio.2016.2724
- Dhaliwal K.K., King-Shier K., Manns B.J., et al. Exploring the impact of financial barriers on secondary prevention of heart disease. BMC Cardiovasc Disord. 2017; 17: 61. doi: 10.1186/s12872-017-0495-4.
- Arora S., Shemisa K., Vaduganathan M., et al. Premature ticagrelor discontinuation in secondary prevention of atherosclerotic CVD: JACC review topic of the week. J Am Coll Cardiol. 2019; 73: 2454–2464. https://doi.org/10.1016/j.jacc.2019.03.470
- Verma A.A., Khuu W., Tadrous M., et al. Fixed-dose combination antihypertensive medications, adherence, and clinical outcomes: A population-based retrospective cohort study. PLoS Med. 2018; 15: e1002584. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1002584
- Muñoz D., Uzoije P., Reynolds C,. et al. Polypill for cardiovascular disease prevention in an underserved population. N Engl J Med. 2019; 381: 1114–1123. https://doi.org/10.1056/nejmoa1815359
- Schwalm J.D., Ivers N.M., Natarajan M.K., et al. Cluster randomized controlled trial of Delayed Educational Reminders for Long-term Medication Adherence in ST-Elevation Myocardial Infarction (DERLA-STEMI). Am Heart J. 2015; 170: 903–913. https://doi.org/10.1016/j.ahj.2015.08.014
- Ivers N.M., Schwalm J.D., Bouck Z., et al. Interventions supporting long term adherence and decreasing cardiovascular events after myocardial infarction (ISLAND): pragmatic randomised controlled trial. BMJ. 2020; 369: m1731. https://doi.org/10.1136/bmj.m1731
- Faridi K.F., Peterson E.D., McCoy L.A., et al. Timing of first postdischarge follow-up and medication adherence after acute myocardial infarction. JAMA Cardiol. 2016; 1: 147–155. https://doi.org/10.1001/jamacardio.2016.0001
- Du L., Dong P., Jia J., et al. Impacts of intensive follow-up on the long-term prognosis of percutaneous coronary intervention in acute coronary syndrome patients — a single center prospective randomized controlled study in a Chinese population. Eur J Prev Cardiol. 2016; 23: 1077–1085. https://doi.org/10.1177/2047487315607041
- Chen C., Li X., Sun L., et al. Post-discharge short message service improves short-term clinical outcome and self-care behaviour in chronic heart failure. ESC Heart Fail. 2019; 6: 164–173. https://doi.org/10.1002/ehf2.12380
- Rinfret S., Rodés-Cabau J., Bagur R., et al., EASY-IMPACT Investigators. Telephone contact to improve adherence to dual antiplatelet therapy after drug-eluting stent implantation. Heart. 2013; 99: 562–569. https://doi.org/10.1136/heartjnl-2012-303004
- Choudhry N.K., Krumme A.A., Ercole P.M., et al. Effect of reminder devices on medication adherence: the REMIND randomized clinical trial. JAMA Intern Med. 2017; 177: 624–631. https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2016.9627
- Derose S.F., Green K., Marrett E., et al. Automated outreach to increase primary adherence to cholesterol-lowering medications. JAMA Intern Med. 2013; 173: 38–43. https://doi.org/10.1001/2013.jamainternmed.717
- Adler A.J., Martin N., Mariani J., et al. Mobile phone text messaging to improve medication adherence in secondary prevention of cardiovascular disease. Cochrane Database Syst Rev. 2017; 4: CD011851. https://doi.org/10.1002/14651858.cd011851.pub2
- Thakkar J., Kurup R., Laba T.L., et al. Mobile telephone text messaging for medication adherence in chronic disease: a meta-analysis. JAMA Intern Med. 2016; 176: 340–349. https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2015.7667
- Rollnick S., Butler C.C., Kinnersley P., et al. Motivational interviewing. BMJ. 2010; 340: c1900. https://doi.org/10.1136/bmj.c1900
- Palacio A., Garay D., Langer B., et al. Motivational interviewing improves medication adherence: a systematic review and meta-analysis. J Gen Intern Med. 2016; 31: 929–940. https://doi.org/10.1007/s11606-016-3685-3
- Xavier D., Gupta R., Kamath D., et al. Community health worker-based intervention for adherence to drugs and lifestyle change after acute coronary syndrome: a multicentre, open, randomised controlled trial. Lancet Diabetes Endocrinol. 2016; 4: 244–253. https://doi.org/10.1016/s2213-8587(15)00480-5
- Yancy C.W., Jessup M., Bozkurt B., et al., American College of Cardiology Foundation, American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. 2013 ACCF/AHA guideline for the management of heart failure: a report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association task force on practice guidelines. J Am Coll Cardiol. 2013; 62: e147–e239. https://doi.org/10.1016/j.jacc.2013.05.019
- Grundy S.M, Stone N.J., Bailey A.L., et al. 2018 AHA/ACC/AACVPR/AAPA/ABC/ACPM/ADA/AGS/APhA/ASPC/NLA/PCNA Guideline on the management of blood cholesterol: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on clinical practice guidelines. Circulation. 2019; 139: e1082–e1143. https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000000625
- Кобалава Ж.Д., Конради А.О., Недогода С.В. и др. Артериальная гипертензия у взрослых. Клинические рекомендации 2020. Российский кардиологический журнал. 2020; 25(3): 3786. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2020-3-3786 [Kobalava Z.D., Konradi A.O., Nedogoda S.V., et al. Arterial hypertension in adults. Clinical guidelines 2020. Russian Journal of Cardiology. 2020; 25(3): 3786. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2020-3-3786 (In Russ.).]
- Бойцов С.А., Карпов Ю.А., Логунова Н.А., Бурцев Ю.П., Квасников Б.Б., Хомицкая Ю.В. Пути повышения приверженности к антигипертензивной терапии. Российский кардиологический журнал. 2022; 27(9): 5202. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2022-5202 [Boytsov S.A., Karpov Yu.A., Logunova N.A., et al. Ways to increase adherence to antihypertensive therapy. Russian Journal of Cardiology. 2022; 27(9): 5202. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2022-5202 (In Russ.).]
- Баланова Ю.А., Шальнова С.А., Имаева А.Э. и др. Распространенность артериальной гипертонии, охват лечением и его эффективность в Российской Федерации (данные наблюдательного исследования ЭССЕ-РФ-2). Рациональная Фармакотерапия в Кардиологии. 2019; 15(4): 450–466. https://doi.org/10.20996/1819-6446-2019-15-4-450-466 [Balanova Y.A., Shalnova S.A., Imaeva A.E., et al. on behalf of ESSE-RF-2 researchers. Prevalence, Awareness, Treatment and Control of Hypertension In Russian Federation (Data of Observational ESSE-RF-2 Study). Rational Pharmacotherapy in Cardiology. 2019; 15(4): 450–466. https://doi.org/10.20996/1819-6446-2019-15-4-450-466 (In Russ.).]
- Фомин И.В., Поляков Д.С., Бадин Ю.В. и др. Артериальная гипертония в Европейской части Российской Федерации с 1998 по 2007 год: чего мы добились на популяционном уровне? Сердце: журнал для практикующих врачей. 2016; 15(5): 369–378. [Fomin I.V., Polyakov D.S., Badin Yu.V., et аl. Arterial hypertension in European Russia from 1998 to 2007: What did we achieve at the population level? Russian Heart Journal. 2016; 15(5): 369–378 (In Russ.).]
- Драпкина О.М., Шепель Р.Н., Дроздова Л.Ю. и др. Качество диспансерного наблюдения взрослого населения с артериальной гипертонией 1–3 степени, за исключением резистентной артериальной гипертонии, врачами-терапевтами участковыми медицинских организаций субъектов Российской Федерации. Российский кардиологический журнал. 2021; 26(4): 4332. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2021-4332 [Drapkina O.M., Shepel R.N., Drozdova L.Yu., et al. Quality of follow-up monitoring of the adult population with grade 1-3 hypertension, with the exception of resistant hypertension, by primary care physicians in different Russian regions. Russian Journal of Cardiology. 2021; 26(4): 4332. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2021-4332 (In Russ.).]
- Corrao G., Parodi A., Nicotra F., et al. Better compliance to antihypertensive medica- tions reduces cardiovascular risk. J Hypertens. 2011; 29: 610–618. https://doi.org/10.1097/hjh.0b013e328342ca97
- Parati G., Kjeldsen S., Coca A., et al. Adherence to Single-Pill Versus Free-Equivalent Combination Therapy in Hypertension. Hypertension. 2021; 77: 692–705. https://doi.org/10.1161/hypertensionaha.120.15781
- Карпов Ю.А., Горбунов В.М., Логунова Н.А. Применение тройной фиксированной комбинации в лечении артериальной гипертензии — возможность эффективного контроля артериального давления при использовании комбинированной антигипертензивной терапии: основные результаты Российского наблюдательного исследования ТРИКОЛОР. Российский кардиологический журнал. 2020; 25(10): 4130. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2020-4130 [Karpov Yu.A., Gorbunov V.M., Logunova N.A. Triple fixed-dose combination in the treatment of hypertension: the results of the Russian observational study TRICOLOR. Russian Journal of Cardiology. 2020; 25(10): 4130. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2020-4130 (In Russ.).]
- Logunova N., Karpov Yu., Khomitskaya Yu., Kvasnikov B. Baseline characteristics, antihypertensive effectiveness, and treatment adherence in hypertensive patients depending on age: post-hoc analysis of the tricolor study. J Hypert. 2022; 40(Suppl 1): e98. https://doi.org/10.1097/01.hjh.0000836200.79405.6c
- Girerd X., Hanon O., Anagnostopoulos K., et al. Evaluation de l’observance du traitement antihypertenseur par un questionnaire: mise au point et utilisation dans un service spécialisé [Assessment of antihypertensive compliance using a self-administered questionnaire: development and use in a hypertension clinic]. Presse Med. 2001; 30(21): 1044–1048 (In French).
- Бойцов С.А., Карпов Ю.А., Бурцев Ю.П., Хомицкая Ю.В. От имени всех участников исследования СТИЛЬ. Эффективность фиксированной комбинации бисопролола и периндоприла в зависимости от используемых доз у пациентов с артериальной гипертонией и СТабИЛЬной ишемической болезнью сердца в реальной клинической практике (исследование СТИЛЬ). Атмосфера. Новости Кардиологии. 2021; 1: 30–38. https://doi.org/10.24412/2076-4189-2021-12344 [Boitsov S.A., Karpov Yu.A., Burtsev Yu.P., Khomitskaya Yu.V. On behalf of all participants of the STYLE study. The efficacy of fixed combination of bisoprolol and perindopril depending on the doses used in patients with arterial hypertension and stable coronary heart disease in real clinical practice (STYLE Study). Atmosphere. Cardiology News. 2021; 1: 30–38. https://doi.org/10.24412/2076-4189-2021-12344 (In Russ.).]
- Гусейнова Э.Т., Лукина Ю.В., Кутишенко Н.П. и др. Проблема и факторы приверженности лечению больных хронической сердечной недостаточностью по данным амбулаторного регистра. Профилактическая медицина. 2023; 26(11): 39–44. https://doi.org/10.17116/profmed20232611139 [Guseynova E.T., Lukina Yu.V., Kutishenko N.P., et al. Problem and factors of patients with chronic heart failure treatment compliance according to outpatient registry. Russian Journal of Preventive Medicine. 2023; 26(11): 39–44. https://doi.org/10.17116/profmed20232611139 (In Russ.).]
- Кужелева Е.А., Федюнина В.А., Гарганеева А.А. Приверженность лечению и качество жизни больных сердечно-сосудистыми заболеваниями на амбулаторном этапе оказания медицинской помощи. Евразийский кардиологический журнал. 2020; (2): 34–40. https://doi.org/10.38109/2225-1685-2020-2-34-40 [Kuzheleva E.A., Fedyunina V.A., Garganeeva A.A. Adherence to treatment and quality of life of patients with cardiovascular diseases at the outpatient treatment stage of medical care. Eurasian Heart Journal. 2020; (2): 34–40. https://doi.org/10.38109/2225-1685-2020-2-34-40 (In Russ.).]
- Mitsios J.P., Ekinci E.I., Mitsios G.P., et al. Relationship Between Glycated Hemoglobin and Stroke Risk: A Systematic Review and Meta-Analysis. J Am Heart Assoc. 2018; 7(11): e007858. https://doi.org/10.1161/jaha.117.007858
- World Health Organization. Diabetes. 2022. Nov. 14, 2024. Available at: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/diabetes (Accessed: 01.08.2025).
- Morrish N.J., Wang S.L., Stevens L.K., et al. Mortality and causes of death in the WHO Multinational Study of Vascular Disease in Diabetes. Diabetologia. 2001; 44. Suppl 2: S14–S 21. https://doi.org/10.1007/pl00002934
- White J.R. Jr. Advances in Insulin Therapy: A Review of New Insulin Glargine 300 Units/mL in the Management of Diabetes. Clin Diabetes. 2016; 34(2): 86–91. https://doi.org/10.2337/diaclin.34.2.86
- Polonsky W.H., Fisher L., Guzman S., et al. Psychological insulin resistance in patients with type 2 diabetes: the scope of the problem. Diabetes Care. 2005; 28(10): 2543–2545. https://doi.org/10.2337/diacare.28.10.2543
- Rathmann W., Czech M., Franek E., Kostev K. Treatment persistence in the use of basal insulins in Poland and Germany. Int J Clin Pharmacol Ther. 2017; 55(2): 119–125. https://doi.org/10.5414/cp202772
- Hamersky C.M., Fridman M., Gamble C.L., Iyer N.N. Injectable Antihyperglycemics: A Systematic Review and Critical Analysis of the Literature on Adherence, Persistence, and Health Outcomes. Diabetes Ther. 2019; 10(3): 865–890. https://doi.org/10.1007/s13300-019-0617-3
- McGovern A., Tippu Z., Hinton W., et al. Comparison of medication adherence and persistence in type 2 diabetes: A systematic review and meta-analysis. Diabetes Obes Metab. 2018; 20(4): 1040–1043. https://doi.org/10.1111/dom.13160
- Gimeno E.J., Bøgelund M., Larsen S., et al. Adherence and Persistence to Basal Insulin Among People with Type 2 Diabetes in Europe: A Systematic Literature Review and Meta-analysis. Diabetes Ther. 2024; 15: 1047–1067. https://doi.org/10.1007/s13300-024-01559-w
- Cheiloudaki E., Alexopoulos E.C. Adherence to treatment in stroke patients. Int J Environ Res Public Health. 2019; 16(2): 196. https://doi.org/10.3390/ijerph16020196
- Захарова Е.В. Теоретические концепции и методы исследования комплаенса и приверженности лечению. Теоретическая и экспериментальная психология. 2019; 12(3): 96–110 [Zakharova E.V. Theoretical concepts and research methods for compliance and treatment adherence. Theoretical and Experimental Psychology. 2019; 12(3): 96–110 (In Russ.).]
Дополнительные файлы