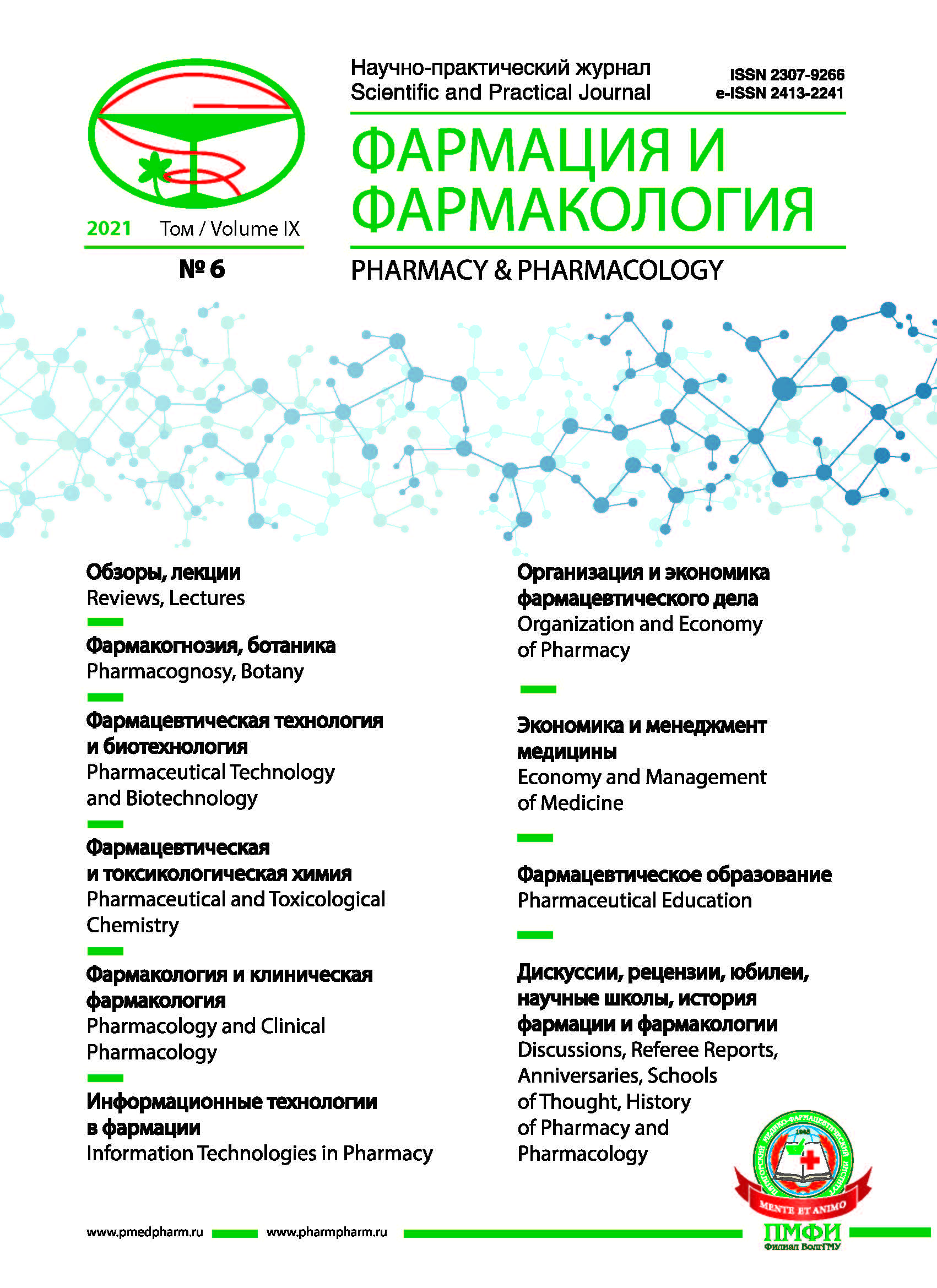Effect of glyprolines on the level of apoptotic and neurotrophic factors under conditions of “social” stress
- Authors: Yasenyavskaya A.L.1, Tsibizova A.A.1, Andreeva L.A.2, Myasoedov N.F.2, Bashkina O.A.1, Samotrueva M.A.1
-
Affiliations:
- Astrakhan State Medical University
- Institute of Molecular Genetics of National Research Centre "Kurchatov Institute"
- Issue: Vol 9, No 6 (2021)
- Pages: 485-494
- Section: Articles
- URL: https://journals.eco-vector.com/2307-9266/article/view/111716
- DOI: https://doi.org/10.19163/2307-9266-2021-9-6-485-494
- ID: 111716
Cite item
Abstract
The aim of the article was to study the effect of glyproline neuropeptide compounds Thr–Lys–Pro–Arg–Pro–Gly–Pro (Selank), Pro–Gly–Pro and Pro–Gly–Pro–Leu, on the level of apoptotic factors (caspase-3, caspase-8, the tumor necrosis factor) and neurotrophic factors (the nerve growth factor and the brain neurotrophic factor) in the blood serum of white rats under the experimental modeling of “social” stress.
Materials and methods. The experimental studies were carried out on 90 nonlinear white male rats aged 6 months. By the type of behavior, in the process of “social” stress modeling, all the rats were divided into “aggressors” and “victims”. In the study, the following experimental groups (n=10) were formed: control individuals; groups of the rats exposed to stress for 20 days; groups of the animals treated intraperitoneally at the dose of 100 μg/kg/day, starting from the 1st day of the stress factor exposure, with a course of 20 days of glyproline compounds Thr–Lys–Pro–Arg–Pro–Gly–Pro (Selank), Pro–Gly–Pro and Pro–Gly–Pro–Leu. The effect of the compounds on the level of apoptotic and neurotrophic factors was assessed by determining the level of caspase-3, caspase-8, the tumor necrosis factor, the nerve growth factor and the brain neurotrophic factor of white rat blood serum by enzyme immunoassay.
Results. According to the results of the study, it was found out that under the conditions of “social” stress, there was an increase in the apoptotic processes accompanied by an increase in the level of caspase-3, caspase-8, TNF-α in the blood serum of white rats, as well as a decrease in the concentration of neurotrophic factors – BDNF and NGF. The administration of giproline compounds against the background of stress, contributed to the restoration of the studied indicators level, which is most likely due to the presence of antiapoptotic and neuroprotective effects in giprolines due to the inhibition of the caspase-dependent cascade of apoptosis reactions, as well as the induction of the synthesis of neurotrophic factors with the antiapoptotic activity.
Conclusion. Thus, the administration of glyproline neuropeptide compounds Thr–Lys–Pro–Arg–Pro–Gly–Pro (Selank), Pro–Gly–Pro and Pro–Gly–Pro–Leu under stress conditions, contributes to the restoration of the initiating and effector caspases level, as well as of neurotrophic factors. As a result of the experiment, an anti-apoptotic effect is observed due to the inhibition of the caspase-dependent cascade of reactions, as well as a stress-protective effect is observed due to the restoration of the brain neurotrophic factors level.
Full Text
Abbreviations: TNF-α – tumor necrosis factor; NGF – nerve growth factor; BDNF – Brain-derived Neurotrophic Factor; CNS – central nervous system; cIAP – cellular inhibitor of apoptosis proteins.
INTRODUCTION
At present, scientific works reflecting the results of studying the pathological influence of stress factors, including “social” stress, on various body systems, are of particular interest [1, 2]. The recent studies prove the fact that a prolonged exposure to stress contributes to the formation of neurological, immune, endocrine, oxidative, metabolic and other types of disorders; that ultimately leads to the development of violations of the molecular and cellular mechanisms of a programmed cell death, including apoptosis of neurons. [3, 4]. To date, close attention is paid to assessing the role of apoptotic and neurotrophic factors in the implementation of the stress response.
The most informative indicators of apoptotic processes assessment are initiator and effector caspases, which activate each other and trigger the caspase cascade [5–7]. It has been proven that when the body is exposed to stress factors, the apoptotic processes of neurons are activated due to the initiation of effector caspase-3 by caspase-8 [8–10]. The established initiation process is characteristic of the apoptosis development in lymphoid and endothelial cells, which, in turn, contributes to the development of immune dysfunction, as well as pathology of the cardiovascular, urinary and other systems [11, 12]. It has been proven that as a result of the exposure to stress factors, the development of caspase-dependent apoptosis is observed, which, to an even greater extent, is aggravated by the accumulation of free radicals. A caspase-dependent pathway, or the pathway of “death receptors” located on the cell surface, is characteristic of intact cells; the mitochondrial pathway mediated by the Bcl-2 family of proteins is characteristic of pathologically transformed cells. The pathway of “death receptors” is regulated by cytokines and is shorter than the other pathway – mediated by mitochondria, but functionally both of them are closely related to each other.
A tumor necrosis factor (TNF-α) is an equally important participant in apoptotic processes. It was found out that, as a result of the exposure to stress factors, the formation of a TNF-α complex with Fas receptors is observed. It is followed by triggering of signaling molecules, which activate caspase-3 and 8, leading to irreversible damage to neurons [12]. It has been proven that, alongside with a pronounced pro-inflammatory activity, a tumor necrosis factor contributes to an increase in the secretion of inflammatory mediators and the induction of apoptosis, due to binding to receptors on the target cell membrane, in particular to the membrane receptor TNF-R2 [13, 14]. In this case, TRAF2 molecules are inactivated, and, in their turn, they support the process of triggering cIAP apoptosis inhibitor proteins. In addition, TNF-α causes the cell death by the necrosis mechanism, promoting the formation of reactive oxygen species, which cause the destruction of membranes and death of the target cell. The above mentioned makes it possible to classify this cytokine as one of the important participants in apoptosis. It has been proven that a tumor necrosis factor plays an important role in the pathogenesis of diseases such as myocardial infarction, chronic renal failure, bronchial asthma [14], and reveals its initiating effect on the development of autoimmune pathology [13]. It was found out that the tumor necrosis factor is increased in the patients with neuropsychiatric and neurodegenerative diseases, as well as a traumatic brain injury [15].
When considering the neurotrophin hypothesis of various pathological disorders development (including apoptosis), such neurotrophic factors as the nerve growth factor and the brain neurotrophic factor, which have a pronounced neurospecificity, are of great importance in the manifestation of a neuroprotective effect. This action is realized due to the ability of the neurotrophic factors to induce the synthesis of anti-apoptotic proteins and inhibition of pro-apoptotic ones, thereby influencing the survival and differentiation of individual neurons populations. A number of studies reflect a direct dependence of apoptosis on the balance of NGF and BDNF, which activate the receptors of tyrosine kinases and have a neuroprotective effect [16–18].
It has been established that the nerve growth factor attracts the attention of scientists as a promising kind of treatment for various neuropsychiatric diseases such as Alzheimer’s disease and depression [19]. The recent research results indicate that, alongside with a direct effect on the nervous system, NGF has a multifactorial effect on the body [20–22]. The nerve growth factor plays a key role in the regulation of regeneration processes. That is due to its influence on the mechanisms of maintaining homeostasis, inflammation, proliferation and tissue remodeling. The ability of the nerve growth factor to induce the release of immunoactive neuropeptides and neurotransmitters, as well as to influence innate and adaptive immune responses, has been proven [20, 21]. It should be notified that the level of the brain neurotrophic factor expression reflects the treatment effectiveness of hypoxic-ischemic, traumatic and toxic lesions of the central nervous system [22]. It has also been established that the level of BDNF serum has a negative correlation with the severity of anxiety disorders and even determines the development of neurodegenerative processes in some cases [23, 24].
Thus, apoptotic and neurotrophic factors play the role of active participants in the implementation of adaptive mechanisms to stress effects of various origins and determine the prospects of considering them as a target for pharmacological agents with a stress-protective activity [24].
Currently, neuropeptide compounds with a versatile pharmacological activity, including a stress-protective activity, are of particular interest [25]. A large number of highly effective and safe drugs are synthesized based on neuropeptides [26]. It should be notified that neuropeptides are capable of penetrating the blood-brain barrier and exerting a pharmacological effect at minimal concentrations [27]. Being modulators of physiological processes, peptide preparations are able to control the expression of cellular messengers and cytokines, thereby influencing the initiation of apoptotic processes in the nervous system and performing the antiapoptotic protection function [28]. To date, in a series of peptide compounds, regulatory peptides of a glyproline nature have been isolated as a separate group [29]. Its most significant representative is the registered drug Selank (Trademark No. 199370), synthesized by scientists of the Institute of Molecular Genetics of the National Research Center “Kurchatov Institute” by a merger with Pro–Gly–Pro to the C-termini of tuftsin, originally used as an immunomodulator [30]. In practical medicine, Selank is used to improve mnestic functions [31], providing antiasthenic, adaptogenic, antihypoxic [32] and actoprotective effects [33]. Currently, domestic scientists from leading scientific organizations are studying in detail the pharmacological action of glyprolines [27–35]. It has been established that this class of peptides is able to prevent atherosclerotic processes and reduce thrombus formation by activating the fibrinolytic and anticoagulant mechanisms [33]. The studies have shown that glyproline peptides have a hepatotropic effect [34]. The results of a number of the experimental data have demonstrated hypoglycemic and hypolipidemic effects of these compounds [27]. The Pro-Gly-Pro tripeptide itself, which has a pronounced physiological activity, is of considerable interest from the perspective of a promising therapeutic agent [30]. Numerous works have established that the uniqueness of glyproline neuropeptides lies in their pleiotropy, i. e., in the combination of psycho- [25], neuro- [35], nootropic effects [26]. The presence of the immunotropic activity of glyprolines has been proven [36]. It is confirmed by their participation in the induction of various neurotrophic factors, pro- and anti-inflammatory cytokines, and the regulation of apoptosis processes [34, 35]. The properties described above actualize the need for a detailed study of the pharmacological action of the neuropeptides of the glyproline structure.
THE AIM of the article was to study the effect of glyproline neuropeptide compounds Thr–Lys–Pro–Arg–Pro–Gly–Pro (Selank), Pro–Gly-Pro and Pro–Gly–Pro–Leu, on the level of apoptotic factors (caspase-3, caspase-8, the tumor necrosis factor) and neurotrophic factors (the nerve growth factor and the brain neurotrophic factor) in the blood serum of white rats under experimental modeling of “social” stress.
MATERIALS AND METHODS
Laboratory research
The experimental studies were carried out on 90 white male rats aged 6 months, obtained from the vivarium of the laboratory of physiology, morphology, genetics and biomedicine of Astrakhan State Medical University (Russia, Astrakhan). Keeping laboratory animals met the requirements of regulatory documents1,2,3. The experiment was carried out on the basis of the protocol of the Ethics Committee of Astrakhan State Medical University No. 8 dated November 24, 2015.
Experimental model
The model of “social” stress was implemented by providing living arrangements of rats where there is a sensory contact and no physical contact, followed by the formation of aggressive and submissive types of behavior [35]; herewith, the animals were placed in pairs in the cages separated by a transparent partition. In order to observe inter-male confrontations, the partition was removed daily for 10 minutes, according to the results of which the groups of rats “aggressors” and rats “victims” were formed. In the experimental animals, the manifestation of aggression was expressed in the forms of upright and sideways offensive postures – “threat” or attack. In addition, submissiveness was manifested by various acts of individual behavior: immobility, sniffing, autogrooming, and upright defensive postures [37–39].
Experimental groups
In the study, the following experimental groups (n=10) were formed: control individuals; groups of the rats exposed to stress for 20 days; groups of the animals treated intraperitoneally at the dose of 100 μg/kg/day, starting from the 1st day of the stress factor exposure, with a course of 20 days of glyproline compounds Thr–Lys–Pro–Arg–Pro–Gly–Pro (Selank), Pro–Gly–Pro and Pro–Gly–Pro–Leu.
The choice of the glyproline compounds dose was based on a preliminary study of the severity of the psychomodulatory effect by assessing behavioral reactions using psychopharmacological settings. The studies were carried out with the administration of glyproline compounds at the doses of 25, 50, 100, and 200 μg/kg/day. It was found out that glyprolines were most active at the doses of 100 and 200 μg/kg/day. In this connection, subsequently, the lowest experimental dose of 100 μg/kg/day was chosen.
Меthods
The effect of neuropeptides of the glyproline structure on the level of caspase-3, caspase-8, the tumor necrosis factor, the brain neurotrophic factor and the nerve growth factor in the blood serum of white rats was assessed by the method of enzyme-linked immunosorbent assay using an immunological analyzer “Multiscan FC” and a highly sensitive ELISA Kit for Caspase -8 (USA); ELISA Kit for Caspase-3 (USA); ELISA Kit for Tumor Necrosis Factor Alpha (TNF-α) (USA), ELISA Kit for Brain Derived Neurotrophic Factor (BDNF) (USA); ELISA Kit for Nerve Growth Factor (NGF) (USA). Before use, the serum was kept at room temperature for two hours, centrifuged for 20 minutes at 1000 rpm, and then immediately subjected to analysis. The choice of this type of biological material was made, based on the analysis of the literature data [40, 41].
Statistical processing of results
Statistical processing of the research results was carried out using the software packages Microsoft Office Excel 2007, BIOSTAT 2008 Professional 5.8.4.3 taking into account the Mann-Whitney criterion. The differences were considered statistically significant at p≤0.05.
RESULTS AND DISCUSSION
The results reflecting the effect of glyprolines on the level of caspases-3 and 8 in the blood serum of white rats under conditions of “social” stress are presented in Table 1.
Table 1 – The level of caspase-3 and caspase-8 in the blood serum of white rats under conditions of experimental “social” stress influenced by neuropeptides of the glyproline structure
Groups of experimental animals | Caspase 3 (pg/ml) | Caspase 8 (pg/ml) |
Control | 17,41±1,22 | 2,33±0,91 |
Animals with aggressive behavior | ||
"Social" stress | 30,62±2,13** | 6,14±1,21** |
“Social” stress + Thr–Lys–Pro–Arg–Pro–Gly–Pro (Selank) | 19,22±2,01## | 2,78±0,76## |
“Social” stress + Pro–Gly–Pro | 20,61±2,23## | 3,65±0,56# |
“Social” stress + Pro–Gly–Pro–Leu | 23,76±2,14## | 3,98±0,82 |
Animals with submissive behavior | ||
"Social" stress | 27,83±2,21** | 5,64±0,87** |
“Social” stress + Thr–Lys–Pro–Arg–Pro–Gly–Pro (Selank) | 18,67±1,21## | 2,96±0,89# |
“Social” stress + Pro–Gly–Pro | 22,57±2,13 | 2,36±0,81## |
“Social” stress + Pro–Gly–Pro–Leu | 25,43±2,87 | 4,36±0,99 |
Note: ** – p≤0.01 – relative to control; #; ## – p≤0.05; p≤0.01 – relative to the “social” stress group.
While the formation of “social” stress in the animals with an aggressive type of behavior was taking place, the level of caspase-3 increased by 1.8 times (p≤0.01) in relation to the control. While the introduction of glyproline neuropeptide compounds was taking place, a decrease in the studied indicator was notified: with Thr–Lys–Pro–Arg–Pro–Gly–Pro (Selank) – by 1.6 times (p≤0.01), with Pro–Gly–Pro – by 1.5 times (p≤0.01) and with Pro–Gly–Pro–Leu – by 1.3 times (p≤0.01) in comparison with the stress group.
In the group of the stressed animals with a submissive type of behavior, the level of caspase-3 increased by 60% (p≤0.01) in relation to the control group. With the administration of Thr–Lys–Pro–Arg–Pro–Gly–Pro (Selank), there was a decrease in the indicator by 50% (p≤0.01), with Pro–Gly–Pro–by 29% (p≥0.05) and with Pro–Gly–Pro–Leu – by 10% (p≥0.05) in comparison with the “social” stress group.
The formation of “social” stress led to an increase in the level of caspase-8 by 2.6 times (p≤0.01) in comparison with the control group of rats. The administration of glyproline compounds Thr–Lys–Pro–Arg–Pro–Gly–Pro, Pro–Gly–Pro and Pro–Gly–Pro–Leu contributed to a decrease in this indicator by 2.2 times (p≤0.01), by 1, 7 (p≤0.01) and by 1.5 times (p≥0.01), respectively, in relation to the group of the stressed animals.
The level of caspase-8 in the group of the stressed animals with a submissive type of behavior increased by 2.4 times (p≤0.01) in relation to the intact animals. The administration of glyproline neuropeptide compounds Thr–Lys–Pro–Arg–Pro–Gly–Pro (Selank), Pro–Gly–Pro and Pro–Gly–Pro–Leu contributed to a decrease in the level of the studied indicator by 1.9 (p≤0.01), by 2.4 (p≤0.01) and by 1.3 times (p≥0.01), respectively, compared with the “social” stress group.
Table 2 presents the results reflecting the effect of neuropeptides of the glyproline structure on the level of TNF-α in the serum of white rats under conditions of “social” stress.
Table 2 – The level of TNF-α in the blood serum of white rats under conditions of experimental “social” stress influenced by neuropeptides of the glyproline structure
Experimental groups of animals | TNF-α (pg/ml) |
Control | 78.65±6.8 |
Animals with aggressive behavior | |
"Social" stress | 113.83±8.2** |
"Social" stress + Thr–Lys–Pro–Arg–Pro–Gly–Pro (Selank) | 79.32±6.8## |
"Social" stress + Pro–Gly–Pro | 85.60±8.1## |
"Social" stress + Pro–Gly–Pro–Leu | 88.77±7.4# |
Animals with submissive behavior | |
"Social" stress | 119.35±7.8** |
"Social" stress + Thr–Lys–Pro–Arg–Pro–Gly–Pro (Selank) | 79.87±6.5## |
"Social" stress + Pro–Gly–Pro | 93.15±8.6# |
"Social" stress + Pro–Gly–Pro–Leu | 91.77±8.2# |
Note: *; ** – p≤0.05; p≤0.01 – relative to control; #; ## – p≤0.05; p≤0.01 – relative to the “social” stress group.
The formation of “social” stress in the animals with an aggressive type of behavior led to an increase in the level of the tumor necrosis factor by 45% (p≤0.01) in comparison with the control group. Against the background of the administration of glyproline compounds Thr–Lys–Pro–Arg–Pro–Gly–Pro (Selank), Pro–Gly–Pro and Pro–Gly–Pro–Leu, a decrease by 30% (p≤0.01), by 25% (p≤0.01) and by 22% (p≤0.05) was observed, respectively, in relation to the group of stressed individuals.
In the group of rats with a submissive type of behavior, during the stress formation, the level of TNF-α increased by 52% (p≤0.01) in comparison with the control. The compounds Thr–Lys–Pro–Arg–Pro–Gly–Pro (Selank), Pro–Gly–Pro and Pro–Gly–Pro–Leu caused a decrease in this indicator by 33% (p≤0.01), by 22% (p≤0.05) and by 23% (p≤0.05) in relation to the “social” stress group.
Fig. 1 shows the results reflecting the effect of glyprolines on the NGF serum level of white rats under “social” stress.
Figure 1 – The nerve growth factor level in the blood serum of white rats under conditions of experimental “social” stress influenced by neuropeptides of the glyproline structure
Note: ** – p≤0.01 – relative to control; #; ## – p≤0.05; p≤0.01 – relative to the “social” stress group.
In the group of animals with a “social” stress type of behavior and aggressive ones, a decrease in the NGF level by 40% (p≤0.01) was observed in comparison with intact rats. The administration of glyprolines Thr–Lys–Pro–Arg–Pro–Gly–Pro (Selank), Pro–Gly–Pro and Pro–Gly–Pro–Leu increased the level of the studied factor by 40% (p≤0.01); by 20% (p≤0.05) and by 17% (p≤0.05), respectively, compared with the “social” stress group.
The formation of “social” stress in the group of animals with a submissive type of behavior led to a decrease in the NGF level by more than 30% (p≤0.01) in comparison with the control group. Against the background of the glyprolines administration (Thr–Lys–Pro–Arg–Pro–Gly–Pro (Selank), Pro–Gly–Pro and Pro–Gly–Pro–Leu), an increase in the level of the nerve growth factor by 56% (p≤0,01), by 36% (p≤0.01) and by 29% (p≤0.01), respectively, compared with the “social” stress group, was notified.
Fig. 2 shows the results reflecting the effect of glyprolines on the level of the neurotrophic BDNF factor in the blood serum of white rats under the conditions of “social” stress.
Figure 2 – The brain neurotrophic factor level in the blood serum of white rats under conditions of experimental “social” stress influenced by neuropeptides of the glyproline structure
Note: ** – p≤0.01 – relative to control; # – p≤0.05 relative to the “social stress” group; ## – p≤0.01 – relative to the “social stress” group.
In the group of stressed animals with an aggressive type of behavior, a decrease in the level of the brain neurotrophic factor by 40% (p≤0.01) in comparison with the control group was notified. The Thr–Lys–Pro–Arg–Pro–Gly–Pro (Selank), Pro–Gly–Pro and Pro–Gly–Pro–Leu compounds increased the level of the brain neurotrophic factor relative to the stressed group of the animals by 45% (p≤0, 01); by 26% (p≤0.05) and by 24% (p≤0.05), respectively.
In the group of stressed rats with a submissive type of behavior, a 45% decrease in the BDNF level (p≤0.01) was notified in comparison with control animals.
With the administration of glyproline compounds, the changes in the level of the studied neurotrophic factor were also notified in the form of a statistically significant increase (p≤0.01): against the background of Thr–Lys–Pro–Arg–Pro–Gly–Pro (Selank) – by 52%, Pro– Gly–Pro – by 35% and Pro–Gly–Pro–Leu – by 32% in relation to the group of the animals exposed to “social” stress.
DISCUSSION
In the course of this study it was established that “social” stress is accompanied by a decrease in the level of the brain neurotrophic factor and the nerve growth factor, which is associated with a change in neuroplasticity with a subsequent inhibition of neurogenesis. A number of experimental studies have shown that BDNF has pronounced neuroprotective properties, contributing to the inhibition of cell apoptosis, preventing, in turn, the neuronal death and stimulating the growth of cholinergic nerve fibers [42, 43]. It has been found out that under the conditions of “social” stress, alongside with a decrease in the levels of neurotrophic factors, there is an increase in the levels of caspase-3 and caspase-8, as well as the tumor necrosis factor in the blood serum of white rats. According to the literature data [44, 45], such a variability of these indicators shows an increase in apoptotic processes.
The essential role of neurotrophic factors in the induction or inhibition of apoptosis has been proven in other experimental studies. It has been established that NGF inhibits apoptosis in a number of neurodegenerative diseases [20]. In addition, it has been proven that the nerve growth factor and the brain neurotrophic factor implement their action both directly and through the genetic mechanisms of induction of apoptotic processes [5]. In contrast, a number of cytokines, in particular human interferons and a tumor necrosis factor, presumably have a stimulating effect on apoptosis [9]. That had also been confirmed in the authors’ experiments before [36].
A decrease in the expression of neurotrophic factors as a result of stressful influences of various kinds of nature and the restoration of its level by a prolonged administration of corrective agents, led to the creation of a neurotrophic hypothesis for the development of stress-induced depression. According to this concept, a change in the level of neurotrophic factors is a key mechanism for the formation and development of approaches to the treatment of such disorders [17]. This fact is confirmed by the established decrease in the level of the nerve growth factor and the brain neurotrophic factor during the formation of a depressive state, and by an increase in the process of pharmacotherapy, as well as a positive correlation of the levels with the degree of the state improvement [7]. It has been proven that the effectiveness of antidepressant and stress-protective therapy is achieved due to the effect of drugs on the intensity of neurogenesis and neuronal plasticity [24]. According to the literature data [25], the established corrective activity of glyproline neuropeptides in relation to the level of neurotrophic factors under a “social” stress, indicates the manifestation of Thr–Lys–Pro–Arg–Pro–Gly–Pro (Selank), Pro–Gly–Pro and Pro–Gly–Pro–Leu expressed anti-stress and neuroprotective effects.
Alongside with this, it has been established that the administration of glyproline neuropeptide compounds Thr–Lys–Pro–Arg–Pro–Gly–Pro (Selank), Pro–Gly–Pro and Pro–Gly–Pro–Leu against the background of “social” stress contributes to a decrease in the level of apoptotic indicators - capsase-3, caspase-8 and the tumor necrosis factor. This is mediated by the possible inhibition of the caspase-dependent cascade of reactions to the destruction of cellular structures by hydrolysis of the nuclear lamina, cleavage of adhesive proteins and a destruction of the cytoskeleton. In the case of a caspase-dependent pathway, the signal for the onset of the programmed death of neurocytes is pathogenetic pathways formed upon the exposure to hypoxia, the agents of various kinds of nature (stressful, physical or chemical, etc.) [10, 11]. This pathway, alongside with caspases, is realized due to the binding of the tumor necrosis factor to receptors on the target cell membrane. Previously, the presence of the antioxidant action and the ability of neuropeptides to influence the level of pro- and anti-inflammatory cytokines have been proven [46]. It has been established that under the conditions of “social” stress, neuropeptide compounds induce a pronounced inhibition of free radical oxidation processes and reduce the concentration of proinflammatory cytokines such as IL-1β, IL-6, and TNF-α [46, 47]. Based on the results obtained, it can be concluded that glyprolines have an anti-apoptotic action due to the effect on the level of caspases, the concentration of pro-inflammatory cytokines and the inhibition of lipid peroxidation processes.
The regulation of apoptotic and neurotrophic processes is complex; it involves various cytokines within a large number of signaling cascades, which requires a further detailed study [48, 49].
CONCLUSION
Thus, at present, focused attention is paid to assessing the role of apoptotic and neurotrophic factors in the implementation of the stress response. In this connection, an effector caspase-3 and an initiating caspase-8, a tumor necrosis factor, as well as neurotrophic factors (the nerve growth factor and the brain neurotrophic factor), are actively studied as targets for the action of stress-protective drugs of a neuropeptide structure in various pathological conditions, including those caused by a prolonged exposure to stress factors. The carried-out study has established the presence of an antiapoptotic activity in Thr–Lys–Pro–Arg–Pro–Gly–Pro (Selank), Pro–Gly–Pro and Pro–Gly–Pro–Leu due to the inhibition of the caspase-dependent cascade of apoptosis reactions. Alongside with this, a pronounced stress-protective effect has been determined due to the restoration of the level of brain neurotrophic factors. The obtained results actualize a further detailed study of the caspase-dependent and neurotrophic factors-mediated mechanism of the anti-stress effect of glyprolines.
FUNDING
This work was supported by the Russian Foundation for Basic Research, grant RFBR No. 19-04-00461.
CONFLICT OF INTEREST
The authors declare no conflict of interest.
AUTHORS’ CONTRIBUTION
Anna L. Yasenyavskaya – collecting literature data, text writing, experiment setting up, the results obtained analysis, preparing a draft manuscript; Alexandra A. Tsibizova – collecting literature data, experiment setting up, the results evaluating, substantiating and statistically processing of the data obtained, preparing a draft manuscript; Liudmila A. Andreeva – synthesis of compounds, research planning, manuscript editing, results evaluating; Nikolai F. Myasoedov – synthesis of compounds, research planning, manuscript editing, results evaluating; final approval for manuscript publication; Ol’ga A. Bashkina – research planning, manuscript editing, results evaluating, final approval for the manuscript publication; Marina A. Samotrueva – concept development and study design, study planning, experiment setting up, critical intellectual content reviewing, and final approval for manuscript publication.
1 Directive of the European Parliament and of the Council of the European Union on the protection of animals used for scientific purposes (2010/63/EU). Saint Petersburg, 2012. – 50 pp. Russian.
2 The International Convention for the Protection of Vertebrate Animals used for Experimental and Scientific Purposes (Strasbourg, 1986). Russain.
3 Order of the Ministry of Health of the Russian Federation No. 199n dated 01.04.2016. "On the approval of the Rules of laboratory practice".
About the authors
Anna L. Yasenyavskaya
Astrakhan State Medical University
Email: yasen_9@mail.ru
ORCID iD: 0000-0003-2998-2864
Candidate of Sciences, (Medicine), Head of the Research Establishment, Associate Professor of the Department of Pharmacognosy, Pharmaceutical Technology and Biotechnology
Russian Federation, 121, Bakinskaya Str., Astrakhan, Russia, 414000Alexandra A. Tsibizova
Astrakhan State Medical University
Email: sasha3633@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0002-9994-4751
Candidate of Sciences (Pharmacy), Associate Professor, Department of Pharmacognosy, Pharmaceutical Technology and Biotechnology
Russian Federation, 121, Bakinskaya Str., Astrakhan, Russia, 414000Liudmila A. Andreeva
Institute of Molecular Genetics of National Research Centre "Kurchatov Institute"
Author for correspondence.
Email: landr@img.ras.ru
ORCID iD: 0000-0002-3927-8590
Sector Leader
Russian Federation, 2, Academician Kurchatov Square, Moscow, Russia, 123182Nikolai F. Myasoedov
Institute of Molecular Genetics of National Research Centre "Kurchatov Institute"
Email: nfm@img.ras.ru
ORCID iD: 0000-0003-1294-102X
Doctor of Sciences (Chemistry), Professor, Academician of the Russian Academy of Sciences
Russian Federation, 2, Academician Kurchatov Square, Moscow, Russia, 123182Olga A. Bashkina
Astrakhan State Medical University
Email: bashkina1@mail.ru
ORCID iD: 0000-0003-4168-4851
Doctor of Sciences (Medicine), Professor, Head of the Department of Pediatrics Faculty
Russian Federation, 121, Bakinskaya Str., Astrakhan, Russia, 414000Marina A. Samotrueva
Astrakhan State Medical University
Email: ms1506@mail.ru
ORCID iD: 0000-0001-5336-4455
Doctor of Sciences (Medicine), Professor, Head of the Department of Pharmacognosy, Pharmaceutical Technology and Biotechnology
Russian Federation, 121, Bakinskaya Str., Astrakhan, Russia, 414000References
- Benham G, Charak R. Stress and sleep remain significant predictors of health after controlling for negative affect. Stress Health. 2019 Feb;35(1):59–68. doi: 10.1002/smi.2840.
- Cohen S, Gianaros PJ, Manuck SB. A Stage Model of Stress and Disease. Perspect Psychol Sci. 2016 Jul;11(4):456–63. doi: 10.1177/1745691616646305.
- Magariños AM, Schaafsma SM, Pfaff DW. Impacts of stress on reproductive and social behaviors. Front Neuroendocrinol. 2018 Apr;49:86–90. doi: 10.1016/j.yfrne.2018.01.002.
- O’Connor DB, Thayer JF, Vedhara K. Stress and Health: A Review of Psychobiological Processes. Annu Rev Psychol. 2021 Jan 4;72:663–88. doi: 10.1146/annurev-psych-062520-122331.
- Mayboroda AA. Apoptoz: geny i belki [Apoptosis: genes and proteins]. Siberian medical journal. 2013; 3: 130–5. Russian
- Obeng E. Apoptosis (programmed cell death) and its signals – A review. Braz J Biol. 2021 Oct-Dec;81(4):1133–43. doi: 10.1590/1519-6984.228437.
- Park C, Rosenblat JD, Brietzke E, Pan Z, Lee Y, Cao B, Zuckerman H, Kalantarova A, McIntyre RS. Stress, epigenetics and depression: A systematic review. Neurosci Biobehav Rev. 2019 Jul;102:139–52. doi: 10.1016/j.neubiorev.2019.04.010.
- Diatlova AS, Dudkov AV, Linkova NS, Khavinson VKh. Molekulyarnye markery kaspaza-zavisimogo i mitohondrial’nogo apoptoza: rol’ v razvitii patologii i v processah kletochnogo stareniya [Molecular markers of caspase-dependent and mitochondrial apoptosis: the role of pathology and cell senescence]. Advanc Modern Biol. 2018;138(2):126–37. Russian. doi: 10.7868/S0042132418020023.
- D’Arcy MS. Cell death: a review of the major forms of apoptosis, necrosis and autophagy. Cell Biol Int. 2019 Jun;43(6):582–92. doi: 10.1002/cbin.11137.
- Jacotot É. Inhibition des caspases - De la biologie et thanatologie cellulaires au développement clinique de candidats médicaments [Caspase inhibition: From cellular biology and thanatology to potential clinical agents]. Med Sci (Paris). 2020 Dec;36(12):1143–54. French. doi: 10.1051/medsci/2020222.
- Muñoz-Pinedo C, López-Rivas A. A role for caspase-8 and TRAIL-R2/DR5 in ER-stress-induced apoptosis. Cell Death Differ. 2018 Jan;25(1):226. doi: 10.1038/cdd.2017.155.
- Kumar S. Caspase function in programmed cell death. Cell Death Differ. 2007 Jan;14(1):32–43. doi: 10.1038/sj.cdd.4402060.
- Levitan BN. Svyaz’ koncentracij antiendotoksinovyh antitel i faktora nekroza opuholej s patologiej gemostaza i fibrinoliza pri hronicheskih gepatitah i cirrozah pecheni [Relationship of antiendotoxin antibodies and tumor necrosis factor with pathology of hemostasis and fibrinolysis in chronic hepatitis and liver cirrhosis]. Thrombos Hemostas and Rheol. 2017;4:70–4. Russian. doi: 10.25555/THR.2017.4.0813.
- Topolyanskaya SV. Tumor Necrosis Factor-Alpha and Age-Related Pathologies. The Russian Archives of Internal Medicine. 2020;10(6):414–421. doi: 10.20514/2226-6704-2020-10-6-414-421.
- Voronina EV, Lobanova NV, Yakhin IR, Romanova NA, Seregin YuA. Role of tumor necrosis factor alpha in immune pathogenesis of different diseases and its significance for evolving anticytokine therapy with monoclonal antibodies. Medical Immunology (Russia). 2018;20(6):797–806. Russian. doi: 10.15789/1563-0625-2018-6-797-806.
- Xu X, Lai Y, Hua ZC. Apoptosis and apoptotic body: disease message and therapeutic target potentials. Biosci Rep. 2019 Jan 18;39(1):BSR20180992. doi: 10.1042/BSR20180992.
- Kuznik BI, Davydov SO, Landa IV. Faktor rosta nervov (NGF) i ego rol’ v usloviyah normy i patologii [Nerves growth factor (NGF) and its role in normal and pathology conditions]. Advan Physiolog Sci. 2019;50(4):64–80. Russian. doi: 10.1134/S0301179819040052.
- Santucci D, Racca A, Alleva E. When Nerve Growth Factor Met Behavior. Adv Exp Med Biol. 2021;1331:205–14. doi: 10.1007/978-3-030-74046-7_13.
- Kryzhanovskaya SYu, Zapara MA, Glazachev OS. Neurotrophins and adaptation to environmental stimuli: opportunities for expanding “therapeutic capacity” (mini-review). Herald of the International Academy of Science. Russian Section. 2020;1:36–43. Russian
- Levchuk LA, Vyalova NM, Mikhalitskaya EV, Semkina AA, Ivanova SA. The role of BDNF in the pathogenesis of neurological and mental disorders. Modern Probl Sci Educ. 2018;6. Available from: https://science-education.ru/ru/article/view?id=28267. Russian
- Ostrova IV, Golubeva NV, Kuzovlev AN, Golubev AM. Prognostic value and therapeutic potential of brain-derived neurotrophic factor (BDNF) in brain injuries (review). General Reanimatology. 2019;15(1):70–86. Russian. doi: 10.15360/1813-9779-2019-1-70-86.
- Brigadski T, Leßmann V. The physiology of regulated BDNF release. Cell Tissue Res. 2020 Oct;382(1):15–45. doi: 10.1007/s00441-020-03253-2.
- Cohen S, Gianaros PJ, Manuck SB. A Stage Model of Stress and Disease. Perspect Psychol Sci. 2016 Jul;11(4):456–63. doi: 10.1177/1745691616646305.
- Duman RS, Deyama S, Fogaça MV. Role of BDNF in the pathophysiology and treatment of depression: Activity-dependent effects distinguish rapid-acting antidepressants. Eur J Neurosci. 2021 Jan;53(1):126–39. doi: 10.1111/ejn.14630.
- Carr R, Frings S. Neuropeptides in sensory signal processing. Cell Tissue Res. 2019 Jan;375(1):217–25. doi: 10.1007/s00441-018-2946-3.
- Kanunnikova NP. Nejroprotektornye svojstva nejropeptidov [Neuroprotective properties of neuropeptides]. J Grodno State Med Univer. 2017; 15(5):492–8. Russian. doi: 10.25298/2221-8785-2017-15-5-492-498.
- Markelova EV, Zenina AA, Kadyrov RV. Neuropeptides as markers of brain damage. Modern Probl Sci Educ. 2018; 5. Available from: https://science-education.ru/ru/article/view?id=28099.
- Teplyashina EA, Olovyannikova RYa, Haritonova EV, Lopatina OL, Kutyakov VA, Pashchenko SI., Salmina AB. Nejropeptidy v regulyacii aktivnosti golovnogo mozga v norme i pri nejrodegeneracii [Neuropeptides in the regulation of brain activity in normal and neurodegeneration]. Probl Biol Med & Pharmac Chem. 2020;23(8):3–10. Russian. doi: 10.29296/25877313-2020-08-01.
- Nadorova AV, Kolik LG. Eksperimental’noe izuchenie vliyaniya peptidnogo anksiolitika selanka na kognitivnye funkcii, narushennye pri ostrom i hronicheskom dejstvii etanola [Experimental study of the effect of the peptide anxiolytic Selank on cognitive functions impaired by acute and chronic effects of ethanol]. Éksperimentalnaya i Klinicheskaya Farmakologiya. 2018;81(5s):168–168. Russian. DOI: 10.30906 / 0869-2092-2018-81-5s-168-168.
- Koroleva SV, Myasoedov NF. Semaks – universal’nyj preparat dlya terapii i issledovanij [Semax - a universal drug for therapy and research]. Bull Russ Acad Sci. Biolog Sec. 2018; 6: 669–82. Russian
- Tajti J, Szok D, Majláth Z, Tuka B, Csáti A, Vécsei L. Migraine and neuropeptides. Neuropeptides. 2015 Aug;52:19–30. doi: 10.1016/j.npep.2015.03.006.
- Verbenko VA, Shakina TA. Effectiveness of new synthesized analogue of endogenous peptide taftcin - Selank in therapy of adjustment and posttraumatic stress disorders. Medical alphabet. 2017;3(32):21–6. Russian
- Lyapina L.A., Grigor’eva M.E., Obergan T.Y., Maistrenko E.S. Rol’ peptidov tafcina i selanka v regulyacii pervichnogo i plazmennogo gemostaza [The role of the tuftsin and selank peptides in the regulation of primary and plasma homeostasis]. Izvestiia Akademii nauk. Seriia biologicheskaia. 2017;44(2):228–30. doi: 10.7868/S0002332917020126.
- Muronets E.M., Donskoy D.N., Pleten A.P. Nejropeptidy (obzor) [Neuropeptides (review)]. Concepts of Fundamental and Applied Scientific Research: Collect of Articles Intern Scientif and Practic Conf (May 20, 2018, Orenburg). Part 3.Ufa, 2018:135–9. Russian
- Vyunova TV, Andreeva LA, Shevchenko KV, Myasoedov NF. An integrated approach to study the molecular aspects of regulatory peptides biological mechanism. J Labelled Comp & Radiopharmaceutic. 2019;62(12):812–22. doi: 10.1002/jlcr.3785.
- Samotrueva MA, Yasenyavskaya AL, Murtalieva VK, Bashkina OA, Myasoedov NF, Andreeva LA, Karaulov AV. Experimental Substantiation of Application of Semax as a Modulator of Immune Reaction on the Model of “Social” Stress. Bull Exp Biol Med. 2019;Apr;166(6):754–8. doi: 10.1007/s10517-019-04434-y.
- Kudryavceva NN. Serotonergicheskij kontrol’ agressivnogo povedeniya: novye podhody – novye interpretacii (obzor) [Serotonergic Control of Aggressive Behavior: Novel Approaches--New Interpretations (Review)]. J High Nerv Activ. I.P. Pavlova. 2015;65(5):546–63. Russian. doi: 10.7868/S0044467715050081.
- Avgustinovich DF, Kovalenko IL, Kudryavtseva NN. A model of anxious depression: persistence of behavioral pathology. Neurosci Behav Physiol. 2005;Nov;35(9):917–24. doi: 10.1007/s11055-005-0146-6.
- Koolhaas JM, de Boer SF, Buwalda B, Meerlo P. Social stress models in rodents: Towards enhanced validity. Neurobiol Stress. 2016;Sep 23;6:104–12. doi: 10.1016/j.ynstr.2016.09.003.
- Bharani KL, Ledreux A, Gilmore A, Carroll SL, Granholm AC. Serum pro-BDNF levels correlate with phospho-tau staining in Alzheimer’s disease. Neurobiol Aging. 2020;Mar;87:49–59. doi: 10.1016/j.neurobiolaging.2019.11.010.
- Sun DB, Xu MJ, Chen QM, Hu HT. Significant elevation of serum caspase-3 levels in patients with intracerebral hemorrhage. Clin Chim Acta. 2017;Aug;471:62–7. doi: 10.1016/j.cca.2017.05.021.
- Chakrapani S, Eskander N, De Los Santos LA, Omisore BA, Mostafa JA. Neuroplasticity and the Biological Role of Brain Derived Neurotrophic Factor in the Pathophysiology and Management of Depression. Cureus. 2020;Nov 9;12(11):e11396. doi: 10.7759/cureus.11396.
- Colucci-D’Amato L, Speranza L, Volpicelli F. Neurotrophic Factor BDNF, Physiological Functions and Therapeutic Potential in Depression, Neurodegeneration and Brain Cancer. Int J Mol Sci. 2020 Oct 21;21(20):7777. doi: 10.3390/ijms21207777.
- Lorente L, Martín MM, Pérez-Cejas A, González-Rivero AF, Argueso M, Ramos L, Solé-Violán J, Cáceres JJ, Jiménez A, García-Marín V. Serum caspase-3 levels during the first week of traumatic brain injury. Med Intensiva (Engl Ed). 2021;Apr;45(3):131–7. English, Spanish. doi: 10.1016/j.medin.2019.09.005.
- Ge N, Westbrook R, Langdon J, Yang H, Marx R, Abadir P, Xue QL, Walston JD. Plasma levels of corticosterone, tumor necrosis factor receptor 1 and interleukin 6 are influenced by age, sex and chronic inflammation in mice treated with acute temperature stress. Exp Gerontol. 2020;Dec;142:111136. doi: 10.1016/j.exger.2020.111136.
- YAsenyavskaya AL, Samotrueva MA, Myasoedov NF, Andreeva LA. Vliyanie semaksa na uroven’ interlejkina-1β v usloviyah “social’nogo” stressa [Influence of Semax on the level of interleukin-1βin the conditions of “social” stress]. Med Acad J. 19(1S):192–4. Russian. doi: 10.17816/MAJ191S1192-194.
- Yasenyavskaya AL, Samotrueva МА, Tsibizova АА, Myasoedov NF, Andreeva LA. Vliyanie gliprolinov na perekisnoe okislenie lipidov v gipotalamicheskoj i prefrontal’noj oblastyah golovnogo mozga v usloviyah “social’nogo” stressa [The influence of glyprolines on lipid peroxidation in the hypothalamic and prefrontal areas of the brain under conditions of “social” stress]. Astrakhan medical journal. 2020;15(3):79–85. Russian. doi: 10.17021/2020.15.3.79.85.
- Fricker LD. Carboxypeptidase E and the Identification of Novel Neuropeptides as Potential Therapeutic Targets. Adv Pharmacol. 2018;82:85–102. doi: 10.1016/bs.apha.2017.09.001.
- Thiele TE. Neuropeptides and Addiction: An Introduction. Int Rev Neurobiol. 2017;136:1–3. doi: 10.1016/bs.irn.2017.07.001.
Supplementary files