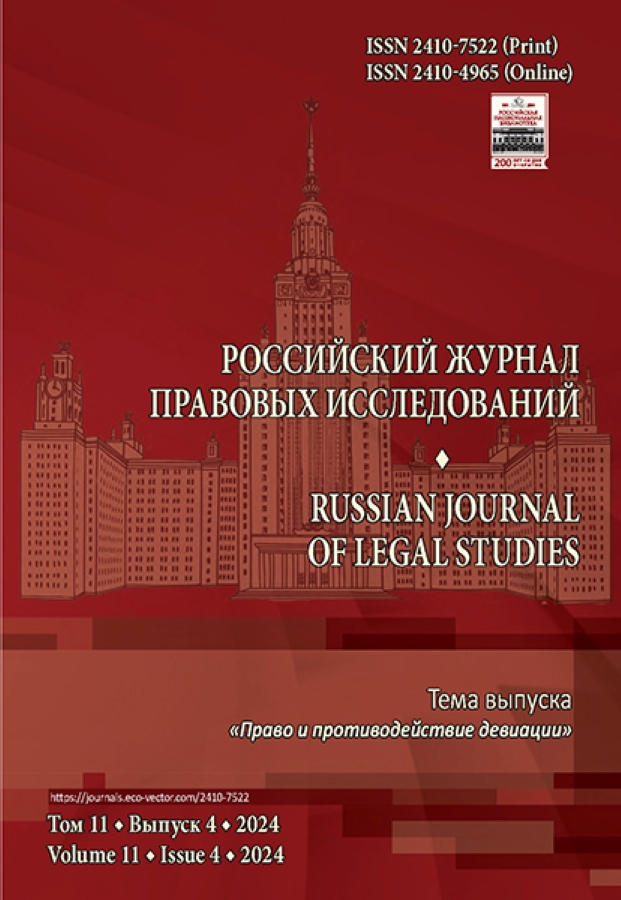О новой российской Конституции
- Авторы: Керимов А.Д.1
-
Учреждения:
- Институт государства и права Российской академии наук
- Выпуск: Том 11, № 4 (2024)
- Страницы: 39-46
- Раздел: Публично-правовые (государственно-правовые) науки
- Статья получена: 23.10.2024
- Статья одобрена: 23.10.2024
- Статья опубликована: 10.12.2024
- URL: https://journals.eco-vector.com/2410-7522/article/view/637408
- DOI: https://doi.org/10.17816/RJLS637408
- ID: 637408
Цитировать
Аннотация
Автор считает неизбежным и необходимым принятие новой Конституции России. Высоко оценивая содержание, потенциал и направленность конституционных изменений 2020 г., он вместе с тем убежден, что существует настоятельная потребность в дальнейшем форсированном продвижении в данном направлении. Это обусловлено тем, что как минимум четыре фундаментальных положения Основного закона подлежат кардинальному пересмотру вплоть до их решительной и окончательной отмены. Речь идет о части 2 статьи 9 Конституции, допускающей частную собственность на землю и другие природные ресурсы, о части 2 статьи 13, запрещающей государственную идеологию, о статье 2, провозглашающей человека, его права и свободы высшей ценностью, о части 1 статьи 1, объявляющей Россию демократическим государством.
Ключевые слова
Полный текст
Принятие новой Конституции России ― неизбежно и необходимо. Многие важнейшие, фундаментальные положения Конституции 1993 г. во что бы то ни стало подлежат скорейшему кардинальному пересмотру. Факт этот не вызывает сегодня у значительного сегмента национально ориентированных политиков и чиновников, думающих, ответственных экспертов и аналитиков, патриотично настроенных граждан ни малейших сомнений, что, конечно, неудивительно. Ни для кого не секрет, что в конце прошлого столетия законодательный акт, обладающий высшей юридической силой, был инспирирован и составлен лицами, придерживающимися радикально либеральных взглядов и финансируемых Западом, особенно США, т. е. по сути представителями пятой колонны. Более того, по имеющимся достоверным сведениям, зарубежные «специалисты» принимали в его сочинении непосредственное активное участие. Это трагическим образом отразилось на его содержании, букве, духе и на всем дальнейшем развитии нашего общества и государства. Мы до сих пор вынуждены исправлять совершенные тогда ошибки и расплачиваться за предательство интересов Отечества ельциновской преступной правящей кликой.
Абсолютно прав С.Н. Бабурин, когда пишет, что Конституция вобрала в себя и некоторые ценные нормы, родившиеся в предшествующий ей период, но наряду с этим многие ее новшества граничат с национальной капитуляцией и с течением времени превратились в препятствие, не позволяющее народу России стряхнуть наваждение и подняться с колен [1, с. 14].
Изменения, с точки зрения большинства, должны затронуть, помимо прочего, и ряд установлений глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации1, для чего необходим созыв Конституционного Собрания (ч. 2 ст. 135 К.). Оно призвано разработать проект Основного закона, принять его самостоятельно двумя третями голосов от общего числа членов Собрания или вынести на референдум (ч. 3 ст. 135 К.). О давно назревшей, настоятельной потребности в новой, отвечающей вызовам времени Конституции убедительно рассуждают авторитетные ученые: С.А. Авакьян [2, с. 11–36; 3, с. 21–38], С.Н. Бабурин [4, с. 73–86; 5, с. 11–15], М.И. Клеандров [6, с. 7–17], Ю.Л. Шульженко [7, с. 39–55].
Пока что в нынешних условиях верховное руководство страны, как мы видим, сочло правильным, логичным и конструктивным не инициировать столь громоздкую, обременительную и длительную процедуру, а пойти иным путем и подвергнуть серьезной модификации отдельные нормы глав 3–8 (ст. 136 К.), что, на наш взгляд, разумно. Тем самым удалось в определенной степени нивелировать крайне негативные, разрушительные эффекты, драматические, пагубные последствия практического применения положений глав 1 и 2, а также конкретизировать магистральные направления эволюционирования нашей Державы, точнее и четче очертить наши ценности и идеалы. К тому же фундаментальные изменения Основного закона 2020 г. существенно усовершенствовали механизм государственного управления, повысили его качество и ознаменовали собой начало современного, модернизационного этапа политико-правовых преобразований непреходящей значимости не только для прогрессивного развития нашей страны, но и для всего международного сообщества. Нельзя не заметить, что само смысловое содержание, равно и мобилизационно-созидательный потенциал соответствующих конституционных нововведений чрезвычайно важны и даже революционны. Направления этих изменений мы оцениваем однозначно позитивно.
Сейчас же хотелось бы подчеркнуть, что сказанное отнюдь не снимает с повестки дня напряженную актуальность, острую насущность подготовки и принятия в ближайшем будущем новой Конституции. Приведем лишь несколько примеров, свидетельствующих в пользу озвученной и отстаиваемой нами и некоторыми коллегами-единомышленниками позиции.
1. Согласно ч. 1 ст. 9 К., земля и другие природные ресурсы объявляются основой жизни и деятельности народов, проживающих на территории России. При этом парадоксальным образом допускается, что они могут находиться в том числе и в частной собственности (ч. 2 ст. 9 К.). Характерно, что об этой форме собственности (а не о государственной, не о муниципальной и не об иных ее видах) говорится в первую очередь.
Но ведь ничто, как явствует из указанной статьи, не мешает известным персонажам, т. е. представителям класса буржуазии, преимущественно крупному капиталу, обратить все без остатка названные ресурсы в свою собственность, предумышленно и цинично лишив государство, муниципалитеты и прочие субъекты возможности ими владеть, пользоваться и распоряжаться в интересах всего населения. Разве не в этом направлении мы ускоренно и настойчиво продвигались еще совсем недавно ― в 90-е гг. ХХ в.? Разве частная собственность автоматически, сама по себе с неизбежностью предполагает неустанную, бескорыстную и трепетную заботу об общем благе? Складывается устойчивое и оправданное впечатление, что обыкновенно все происходит как раз наоборот. Капиталистические предприятия, частные корпорации всецело сосредоточены на удовлетворении исключительно своих сугубо материально-финансовых потребностей, на извлечении максимальной прибыли. Озабочиваться всеобщим призвано государство. В этом его важнейший смысл и предназначение.
Кроме того, совершенно ясно, что ресурсы, миллионы лет создаваемые природой и задействованные в процессе общественного производства, являются достоянием всех жителей любой отдельной страны. Они ни при каких обстоятельствах не должны безраздельно принадлежать узкой группе лиц, получающей в результате их интенсивного, как правило, бесконтрольного и неограниченного коммерческого использования баснословные доходы. В противном случае грубо попираются базовые, непреложные принципы социальной справедливости.
Между тем люди исстари, еще до нашей эры осознавали, что справедливость ― непоколебимое основание государства. На этом настаивал, к примеру, знаменитый древнегреческий поэт-лирик Пиндар (около 518–442 гг. до н.э.) [8, с. 249]. В том же духе высказывался и Платон (427–347 гг. до н.э.), как, впрочем, и многие другие. По словам великого философа, неправда достигает своего предела, когда несправедливое начинают почитать справедливым [8, с. 249]. С воцарением почти на всей планете частной собственности на природные ресурсы именно так и произошло. Неправда дошла до крайней черты и стала вопиющей, отвратительно безнравственной.
Сложившееся и неутомимо охраняемое сильными мира сего положение вещей, т.е. железная незыблемость их права на богатства Земли, к формированию которых они элементарно не имели и не могли иметь ни малейшего отношения, ими же всячески и оправдывается. Оправдывается с позиций рационально-теоретических, морально-этических, ценностно-религиозных. Эта привилегия бессовестно преподносится ими как абсолютно приемлемая, вполне естественная, объективно обусловленная, более того, целесообразная, а порою и божественно предопределенная. Особенно удручает и шокирует то, что большинство человечества, похоже, с этим как будто смирилось.
2. Удивительно и вместе с тем возмутительно то, что у нас на конституционном уровне запрещена государственная идеология. Часть 2 ст. 13 К. однозначно и безапелляционно провозглашает: никакая идеология не может утверждаться в качестве государственной или обязательной. Данная норма уже принесла и по сию пору продолжает приносить огромный вред нашему Отечеству. Она сильно затрудняла и поныне затрудняет историческую работу народа, политических деятелей, ученых и специалистов по сдерживанию навязываемой Западом агрессивной экспансии либерально-глобалистских мировоззренческих концепций и ценностей2.
К тому же она есть совершеннейшая нелепость, полнейшая бессмыслица. Ведь приведенное установление самым прямым и непосредственным образом противоречит, на пример, ч. 5 той же статьи К. В ней наложен запрет на учреждение и функционирование объединений, устремления и действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв ее безопасности, создание вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни.
Этот отрывок изложен нами (очень близко к оригинальному тексту, почти дословно) исключительно с одной-единственной целью: специально продемонстрировать, наглядно показать, что даже в отдельном коротком фрагменте могут быть зафиксированы ключевые элементы, краеугольные, незыблемые начала нашей государственной идеологии. Само собой разумеется, что последняя в той или иной, большей или меньшей степени, по сути, закреплена во многих статьях Конституции, других нормативных правовых актах, равно и в различных официальных документах. Государственная идеология, принципов, постулатов и максим которой обязаны придерживаться и рядовые граждане, и должностные лица, бесспорно, существует де-юре. Существует она и де-факто, выражаясь в конкретно-практических решениях и деяниях разного рода акторов, прежде всего обладающих публично-властными полномочиями.
Всяческие республики и любые монархии, какие угодно демократии и всевозможные автократии, как из далекого прошлого, так и текущей современности, вне зависимости от их цивилизационной и формационной принадлежности, неизменно руководствуются определенной идеологией. Она всегда была, есть и будет, хотя порою возникает обманчивое, иллюзорное ощущение ее отсутствия. Посему запрещать ее на уровне Основного закона, тем более в такой стране, как наша ― потрясающая, запредельная глупость.
На нынешнем поразительно сложном и смертельно опасном этапе исторического развития нам, нашей Отчизне как воздух нужна государственная идеология. Да, она существует. Но пока еще в самом общем, в каком-то неуверенном, растерянном, несосредоточенном виде, в некоем бесформенном, аморфном, рыхлом состоянии, в качестве разрозненных, плохо согласованных, слабо взаимосвязанных между собой отдельных принципов и положений. Необходима, однако, сбалансированная, четко выверенная, ясно и понятно, внятно и доходчиво сформулированная система фундаментальных постулатов, непререкаемых аксиом и исходных допущений, без которых, кстати, в данном случае не обойтись.
И здесь более нельзя медлить. Следует неотлагательно ответить, притом не отвлеченно, умозрительно, а сугубо предметно и конкретно, на нерешенные (или не до конца решенные) нами судьбоносные вопросы: куда, в каком направлении движется и должна двигаться Россия как уникальная страна и самобытная цивилизация; какую структуру экономических и политических отношений мы намерены создать; каковы наши стратегические цели в основных областях жизнедеятельности, наши заветные упования и этические идеалы; какое общество в его субстанциальных ипостасях и воплощениях мы стремимся построить; каким мы хотим видеть мир XXI в. в его глобальном измерении и какова роль в нем нашей Державы и т. д., и т. п.
Интересны, как и всегда, рассуждения на рассматриваемую тему А.А. Зиновьева (1922–2006). Еще в 2005 г. он писал, что после распада советского коммунистического блока, самого СССР и разгрома социалистического строя в странах соответствующей части планеты началась эпоха эволюционного спада, тотальной социальной реакции. Важнейшими компонентами последней явились искусственно генерируемое и всячески поощряемое всеобщее помутнение умов, реанимация дремучих идеологий прошлого и изобретение новых, к сожалению, того же ментального уровня и той же направленности. Реализовывал эту реакционную практику Запад во главе с США, не встречая никаких серьезных препятствий, способных ее остановить или хотя бы замедлить. То же самое он делает и сегодня.
Запущенный им процесс, продолжил А.А. Зиновьев, угрожает существованию миллиардов людей на Земле, фактически всем Homo sapiens. Если и возможно блокировать указанный процесс, то, по мнению ученого, только путем создания новой идеологии, по масштабам сопоставимой с марксистской, но превосходящей ее по интеллектуальной мощи, по степени адекватности условиям и потребностям наступившего третьего тысячелетия [10, с. 69]. Задача, с нашей точки зрения, сложная, но выполнимая. И к ее решению необходимо приступить в ближайшее же время.
3. И у нас, и у значительного количества коллег-обществоведов соображения критического характера, веские нарекания вызывают предписания ст. 2 К. Напомним, в соответствии с ними человек, а также его права и свободы объявляются высшей ценностью3. Государству вменяется в обязанность их признание, соблюдение и защита.
На первый взгляд может показаться, что все сформулировано грамотно, логично и безупречно. Однако это неверное, надо подчеркнуть, глубоко ошибочное впечатление. Несмотря на то, что положение как бы второй части рассматриваемой статьи представляется разумным и нужным (пожалуй, мало кто осмелится оспаривать содержащееся в ней категорическое требование, обращенное к государственным институтам и структурам), предыдущая фраза (или первая часть статьи) ― порочна и поэтому неприемлема.
Закрепленная в ней излишне самонадеянная, так сказать, откровенно дерзкая по отношению к необъятному, могущественному и гармоническому космосу позиция, призывающая, в сущности, полагать личность осью мироздания, считать ее центром вселенной, чрезмерно превозносить ее, отвергается русским менталитетом, равно и умонастроениями, убеждениями, традициями и обычаями других этносов, издревле проживающих в России. Речь идет об искренне верующих людях, исповедующих православие, которое сыграло громадную позитивную роль в становлении и развитии отечественной культуры и духовности, а также об адептах иных конфессий, коих у нас немало. Речь идет и о тех людях, которые, будучи проникнуты секулярным сознанием, настроены атеистически, но при этом, как и христиане, мусульмане, иудеи, буддисты ― словом, все верующие, отнюдь не думают, что человек и его права являются высшей ценностью.
Для огромного числа наших сограждан (будь то приверженцы различных религиозных учений, либо последовательные материалисты, отрицающие бытие Всевышнего и, соответственно, его априори праведный и вместе с тем принципиально непостижимый промысел, или же лица, до конца не определившиеся по вопросу собственного отношения к Богу) несомненно существуют ценности надличностного уровня, превосходящие по своей значимости озабоченность единичной судьбой индивида и даже самой его жизнью. У нас испокон веку признается преобладание целого над частями, приоритетность общественного начала над личным. Для большинства наших соотечественников первостепенную важность составляют такие понятия и обозначаемые ими, вполне реально ощущаемые и осмысливаемые объекты, явления и предметы, как Родина, вера, долг, любовь, дружба, честь, совесть, и т. п. С ними непосредственно связана идея бескорыстной, вдохновенной жертвенности, спокойной внутренней готовности к ревностному, апостольскому служению, к великому созидательному подвигу самопожертвования, органически свойственному русскому духу.
Именно такой, жертвенный, притом массовый героизм имманентно присущ нашему многонациональному народу. И он зримо, особенно явственно обнаруживает себя в тяжкие, суровые годы страшных испытаний: во времена жестоких, кровопролитных войн. Сегодня, как и в периоды Второй мировой войны, вторжения наполеоновских полчищ в XIX в. и т. д., мы ежедневно, благодаря самоотверженной работе военных корреспондентов, оказываемся свидетелями поистине героических поступков, доблестных деяний и благородных свершений российских солдат и офицеров в зоне проведения на Украине4 СВО, которая была вызвана человеко ненавистнической политикой Запада и быстро трансформировалась в теперь уже открытое столкновение с силами враждебного нам Североатлантического альянса во главе с США.
Названные и другие надличностные, если угодно, наиболее высокоранговые ценности ни при каких обстоятельствах недопустимо уравнивать, по крайней мере, со многими правами и свободами граждан. В самом деле, стоит ли ставить перечисленные понятия на одну ступень с такими, например, зафиксированными в Конституции безусловно очень важными, но все же в определенном смысле второстепенными правами, как право на получение квалифицированной юридической помощи (ст. 48, ч. 1), право на отдых (ст. 37, ч. 5), право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления (ст. 33), право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование (ст. 31), право на объединение, включая право создавать профессиональные союзы (ст. 30, ч. 1), и т. д.? Не абсурдно ли возводить упомянутые и целый ряд иных прав и свобод человека в ранг высших ценностей? Ответ, как нам представляется, очевиден.
4. Часть 1 ст. 1 К. провозглашает Россию демократическим федеративным правовым государством с республиканской формой правления. Стойкое неприятие (и эмоциональное, и рассудочное) вызывает у нас в данной статье единственное понятие ― демократия. Оно, на наш взгляд, должно быть исключено из текста Основного закона. Попытаемся аргументировано изложить свою позицию.
Демократия, благодаря «стараниям» западных властвующих элит окончательно себя дискредитировала. Она переживает кризис. Кризис системный и масштабный, глубокий и всеобъемлющий, затяжной и болезненный. Этот факт уже в течение длительного времени безоговорочно признается многими политическими деятелями, равно учеными, аналитиками и экспертами, представляющими различные отрасли общественно-гуманитарного знания, а также обычными, но неравнодушными избирателями. И, как известно, не только в нашей стране, а практически повсеместно.
Мы здесь, разумеется, не имеем в виду тех, кто и без того изначально, с момента зарождения данного способа организации и функционирования власти выступал его непримиримым идейным противником. А таких, надо сказать, немало.
Доказательств кризиса демократии, который вероятнее всего приведет в обозримом будущем либо к ее сокрушительному тотальному краху, либо к жесткому формально-юридическому и фактическому ограничению использования ее институтов и структур, приемов и методов, множество. Речь идет о серьезных недостатках, хронических и опасных пороках и изъянах рассматриваемого политического режима, на удивление отчетливо и выпукло проявлявших и проявляющих себя на всем протяжении его существования и особенно на современном этапе. Не будем на них специально останавливаться: они подробно описаны нами в опубликованных ранее работах [11].
Обратим внимание лишь на один. Человечеству, той его части, которая живет при республиканском правлении (собственно, и в условиях монархии, если коронованная особа владычествует над подданными сугубо номинально, а в реальности доминируют другие, получившие руководящие функции по итогам всенародного голосования), потребовался совсем не продолжительный в историческом измерении период для того, чтобы воочию убедиться: господствующая в государственно организованном социуме избираемая населением элита ― президенты, депутаты, сенаторы и назначаемые ими министры, прочие лица, возглавляющие исполнительную ветвь власти, а также и судебную, ― в массе своей ничуть и ничем не лучше тех, к кому привилегированное положение переходит по наследству, ― цари, короли, князья, герцоги, бароны и т. п. Не лучше в том смысле, что они вовсе не обязательно оказываются умнее и образованнее, компетентнее и профессиональнее, честнее и совестливее и т. д., нежели аристократы всех видов и мастей. Выборы, будучи неотъемлемым атрибутом демократии, этого не обеспечивают. Они, вопреки ожиданиям, не гарантируют верховенство наиболее достойных.
Перед всеми, кто вдумчиво, обстоятельно и комплексно изучает реалии демократии, ее истинное содержание, ее конкретные формы и типы, естественно встает череда вопросов: почему в итоге она пребывает в таком удручающе депрессивном состоянии, в состоянии катастрофического упадка, духовной деградации, культурного регресса? Каковы причины тому послужившие? Отчего ее охватил глобальный кризис?
Ясно, что сложившаяся ситуация не может быть следствием одних только злонамеренных действий, результатом исключительно вредоносных манипуляций, предпринимаемых истеблишментом западных стран. Последний, стремясь во что бы то ни стало сохранить свое господство, целенаправленно и методично в течение долгих лет извращал и извращает априорный благородный смысл, выхолащивал и поныне выхолащивает изначально имевшееся высокое предназначение демократии, ориентированной, по крайней мере по своей концептуальной интенции, на достижение справедливости. Нет, дело тут главным образом не в этом. Дело в том, что демократия порочна уже с момента своего рождения. Посему возведение ее в ранг основного способа, универсального принципа выстраивания властеотношений в государстве и придание ей статуса официальной идеологии абсолютно не оправдано и неминуемо разрушительно для любого социума.
Стоит отдельно отметить, что постоянное, грубое и циничное искажение на практике ее базовых постулатов происходило и происходит в западном мире одновременно со своего рода ее обожествлением, с превращением в некую священную корову, с почти сакральным поклонением ей. Это парадоксально, но объяснимо. Оба эти, казалось бы, взаимоисключающих процесса выгодны, точнее, жизненно необходимы буржуазии, ибо отвечают ее классовым интересам. Капитализм и демократия тесно связаны между собой, они взаимообусловливают и взаимовоспроизводят друг друга [12, с. 12–23]. Но вместе с тем, с позиций олигархата и его особо одаренных и изощренных приспешников (отнюдь не все пособники и слуги нобилитета обладают должной квалификацией), и демократия, и капитализм нередко нуждаются в существенной, иногда кардинальной корректировке. Ведь приоритетная цель западных элит ― сохранение и упрочение принадлежащих им власти и богатства, а вовсе не обеспечение подлинной свободы, социальной справедливости, рыночных отношений, не защита прав граждан, провозглашенной апологетами буржуазного строя священности частной собственности, демократических принципов организации и функционирования общества и т. д., и т. п.
Вернемся, однако, к нашему тезису об изначальной порочности демократии и соответствующей ей идеологии. Глубокое убеждение автора настоящей работы (в отличие от мнения, отстаиваемого многими исследователями) заключается в том, что именно ее априорной ущербностью детерминировано то кризисное состояние, в котором она пребывает сегодня. Такое ее состояние представляется нам логическим исходом, закономерным результатом триумфального утверждения и последующего эволюционирования в западной ойкумене институтов и структур, установок и ценностей либеральной демократии. Она всегда содержала в себе сокрытую от праздного взгляда, но вполне реальную возможность своей будущей деградации, своего потенциального упадка и разложения.
Эта возможность, которая, как мы видим, на нынешнем историческом этапе в полной мере воплотилась в действительность, обусловлена тем, что содержательное наполнение демократии как социокультурного феномена можно во многом признать ничтожным.
Этот факт был проанализирован и блестяще описан более века назад Н.А. Бердяевым и с тех пор, как это ни поразительно, был практически предан забвению. Обращаясь к духовным первоосновам, осмысливая саму идею демократии, он подчеркивал, что «она сама не знает своего содержания и в пределах утверждаемого ею принципа не имеет никакого содержания» [13, с. 466], что она не желает знать, для чего, во имя чего изъявляется воля народа, и не хочет подчинить волю народа никакой высшей цели [13, с. 466].
Демократия, изначально оказавшись в плену у своего собственного доминантного, по сути, определяющего ее признака или, если угодно, ее руководящего начала, главнейшего принципа (которым она «дорожит превыше всего и который ничему не хочет подчинять» [13, с. 466]), а именно волеизъявления большинства, как достаточного и единственного основания для принятия решений и (или) осуществления выбора, сразу же обнаружила свою бессодержательность. Ведь названный принцип суть принцип сугубо формальный, беззастенчиво отдающий вульгарным механицизмом, призывающий всегда и при всех обстоятельствах покорно склонять голову перед численным превосходством. Демократия, как совершенно справедливо отмечает Н.А. Бердяев, «предоставляет раскрытие истины решению большинства голосов» [13, с. 466]. А почитание, по сути, культ исключительно количественного начала, признание «власти количества, поклонение всеобщему голосованию возможны лишь при неверии в истину и незнании истины. Верующий в истину и знающий истину не отдает ее на растерзание количественного большинства» [13, с. 466].
Демократия, руководствуясь прежде всего принципом волеизъявления большинства, пугающе безразлична к качеству, нравственному и интеллектуальному его содержанию. Она вовсе не озабочена обнаружением далеко не всегда очевидной, а зачастую, напротив, сокровенной, потаенной глубинной направленности, целеустремленной сосредоточенности этой воли. В результате демократия выступает довольно примитивным организационным механизмом, не более чем незамысловатой технологией, предлагающей удручающе простой и явно неадекватный способ формирования государственно-властных структур и управления современными невероятно сложными и с течением времени все усложняющимися общественными системами.
Выказываемое нами весьма критическое отношение к демократии усиливается многократно по мере ясного осознания того, что данная ее характерная черта в полной мере вообще неустранима. Это понимают, скорее, интуитивно чувствуют и ее апологеты. Стремясь всеми силами максимально нивелировать описанный отличительный признак демократии, они искусно изобретают и внедряют все новые и новые ее виды. Следует признать, что порой они достигают здесь некоторых незначительных успехов. О какой только демократии не писали и не пишут, какие только ее модели и разновидности не обсуждались и не обсуждаются в научных, околонаучных, политических и журналистских кругах. Помимо давно известной и реализуемой на практике прямой и представительной демократии говорили и продолжают говорить о суверенной, делиберативной (совещательной), консенсусной, мажоритарной, минималистской, партисипативной (демократии участия), плебисцитарной, об управляемой, агрегативной, институциональной, экономической и прочих ее видах и концепциях. Но по большей части попытки приверженцев демократии приукрасить ее, точнее, адаптировать к новым феноменам социально-экономической и политической жизни, к стремительно меняющимся реалиям общественного бытия всякий раз оказываются тщетными, терпят очередной крах. И это не удивительно. Ведь неизменным, можно даже сказать, незыблемым и при этом доминантным остается основной ее принцип (отказ от него равносилен отказу от самой демократии), а именно принцип поклонения волеизъявлению большинства, начисто выхолащивающий любое живое содержание, позволяющий с легкостью, бездумно и ничтоже сумняшеся в любых ситуациях освобождаться от необходимости нравственного выбора, служения какой-либо высшей цели или вдохновляющей идеи.
Доказательств, конкретных примеров, иллюстрирующих неприемлемость ряда конституционных положений, можно привести еще немало. Специалистам они хорошо известны. Все они красноречиво свидетельствуют в пользу необходимости принятия новой Конституции России, в которой не останется места для указанных и иных имеющихся в ней несуразностей, огрехов и недостатков.
1 Ниже по тексту пункты, части статей и сами статьи Конституции Российской Федерации обозначаются в соответствии с устоявшимися сокращениями: «п.», «ч.», «ст.», «К.».
2 Н.А. Бердяев (1874–1948), несомненно, прав, когда заявляет: «Влечение к бесконечной экспансии лежит в основе капиталистического мира, со всеми его обманами, превратностями и противоречиями» [9, с. 191]. Здесь нельзя упускать из виду тот факт, что экспансия эта касается отнюдь не только хозяйственно-экономической сферы, отношений собственности, о чем в данном пассаже и пишет выдающийся философ. Она бесспорно распространяется и на иные области человеческого бытия: политическую, идеологическую, духовно-нравственную.
3 Объявляются, по меткому замечанию С.Н. Бабурина, явно «иезуитски» [1, с. 14].
4 С точки зрения правил грамматики русского языка , как известно, следует говорить «на Украине», а не «в Украине».
Об авторах
Александр Джангирович Керимов
Институт государства и права Российской академии наук
Автор, ответственный за переписку.
Email: 8017498@mail.ru
SPIN-код: 7041-9829
д-р юрид. наук, профессор, главный научный сотрудник
Россия, МоскваСписок литературы
- Бабурин С.Н. Реформа Конституции Российской Федерации в 2020 году: возвращение конституционализма на национальный маршрут // Вестник Московского государственного университета имени С.Ю. Витте. Серия 2. Юридические науки. 2020. № 2(24). C. 13–17. EDN: QSSTXO doi: 10.21777/2587-9472-2020-2-13-17
- Пробелы и дефекты в конституционном праве и пути их устранения: материалы Международной научной конференции / под ред. С.А. Авакьяна. Москва: Издательство Московского государственного университета, 2008. 729 с. EDN: QCQSJN
- Авакьян С.А. Практика конституционных реформ: некоторые проблемы // Вестник Московского университета. Серия 11: Право. 2011. № 1. С. 21–38. EDN: NXNPFF
- Бабурин С.Н. Предотвратить эвтаназию человечества: нравственность и интеграционный конституционализм как основа трансформации современного права // Государство и право. 2021. № 6. С. 73–86. EDN: ERRBWZ doi: 10.31857/S102694520015033-7
- Бабурин С.Н. Преодоление нравственного нейтралитета публичной власти как первоочередная задача российского конституционализма // Конституционное и муниципальное право. 2024. № 9. С. 11–15. EDN: AITRPX doi: 10.18572/1812-3767-2024-9-11-15
- Клеандров М.И. О неизбежности разработки и принятия новой Конституции Российской Федерации и что в ней должно быть // Государство и право. 2022. № 1. С. 7–18. EDN: GKXNPD doi: 10.31857/S102694520018267-4
- Шульженко Ю.Л. Реальность, стабильность, динамизм, жесткость, гибкость Конституции Российской Федерации // Государство и право. 2024. № 4. С. 39–55. EDN: OCSGZD doi: 10.31857/S1026945224040029
- Шойхер В.Ю. Антология мудрости. Москва: Вече, 2007. 847 с. EDN: QWSJSL
- Бердяев Н.А. О назначении человека. Москва: Республика, 1993. 382 с. EDN: TJNGST
- Зиновьева О.М., Блинов А.С. Александр Зиновьев – русская судьба. Москва: Биографический институт Александра Зиновьева, 2022. 99 с.
- Керимов А.Д. Демократия: опыт критического анализа. Москва: Норма, 2019. 182 с.
- Керимов А.Д. Капитализм и демократия // Вопросы философии. 2019. № 4. C/ 12–23. EDN: ZPSVLV doi: 10.31857/S004287440004787-0
- Бердяев Н. Новое средневековье. Размышление о судьбе России и Европы. Москва: Феникс, 1991. 81 с.
Дополнительные файлы