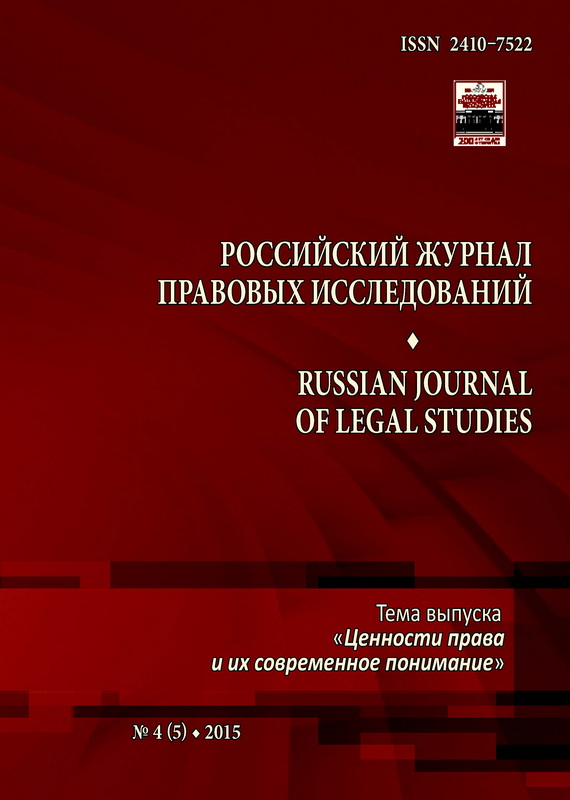Res Judicata of the Reformed Russian Cassation
- Authors: Kovtun NN1
-
Affiliations:
- National Research University «Higher School of Economics»
- Issue: Vol 2, No 4 (2015)
- Pages: 121-130
- Section: Articles
- Submitted: 03.12.2019
- Published: 15.12.2015
- URL: https://journals.eco-vector.com/2410-7522/article/view/18087
- DOI: https://doi.org/10.17816/RJLS18087
- ID: 18087
Cite item
Full Text
Abstract
In the article the author analyzes the conformity of the new cassation proceedings in Russia with the fundamental principle of res judicata, consequences that derive from this principle and announced aims of the reform, that was realized by adoption of the Federal Law № 433-FZ of December 29, 2010.
Full Text
К ак известно, Федеральным законом от 29.12.2010 № 433-ФЗ «О внесении измене- ний в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и признании утративши- ми силу отдельных законодательных актов (по- ложений законодательных актов) Российской Федерации» (далее - ФЗ от 29.12.2010) российское кассационное производство было кардинально реформировано и, по сути, урегулировано по из- вестному и достаточно апробированному образцу национального (экстраординарного, по сути) над- зорного производства1. Соответственно, при харак- теристике внесенных новаций исследователи пре- жде всего отмечали кардинальное изменение: предмета кассационного разбиратель- ства и отнесение к последнему итоговых и промежуточных актов суда, вступивших в законную силу (в российской уголовно- процессуальной традиции - окончатель- ных актов суда); непосредственного предмета проверки и оценки суда, к которому в соответствии с изменившейся волей закона (уже) отнесе- ны исключительно свойства законности постановленных (и проверяемых в дан- ном порядке) актов правосудия (ст. 401.1 УПК РФ), и a priori невозможности касса- ционной проверки «вопросов факта» и справедливости указанных актов; сроков обжалования и самой (потенци- ально возможной) кассационной провер- ки (ч. 3 ст. 401.2 УПК РФ), которые при- обрели характер строго ограниченных и пресекательных, по сути, актов, при- званных к обеспечению стабильности со- стоявшихся итоговых судебных решений, незыблемости статуса лиц, ими опреде- 1 О конвенциональном тождестве действующего кассаци- онного (гл. 47.1 УПК РФ) и надзорного (гл. 48.1 УПК РФ) по- рядка проверки судебных решений см., напр.: Потапов В.Д. Кассационное и надзорное производство: общее и особенное в контексте законодательных новелл от 29 декабря 2010 г. // Уголовное право. 2011. № 2. С. 99-102. ленного; в конечном счете обеспечения правовой определенности и верховенства права в государстве и обществе; оснований непосредственно к кассацион- ной проверке и отмене/изменению актов суда, которыми в силу предмета и харак- тера этой формы проверки могут являться исключительно существенные (ч. 1 ст. 401.15 УПК РФ) или фундаментальные (ст. 401.6 УПК РФ) нарушения закона, позволяющие ставить вопрос о преодолении сути и след- ствий res judicata в интересах обеспечения публичной законности, интересов и прав частных заинтересованных лиц; наконец, самой процессуальной формы кассационной проверки (по существу), которая конвенционально восприняв до- статочно наработанный опыт надзорной инстанции, в точном соответствии с пра- вилом res judicata, несколько ограничива- ла и начало широкой свободы обжалова- ния, устанавливая процедуры предвари- тельного изучения кассационного отзыва (ст. 401.8 УПК РФ), и сами познавательные средства подобной проверки (ст. 401.13 УПК РФ). Не столь кардинально, но в том же контексте исключительности кассационной формы про- верки, были внесены изменения, связанные с пе- речнем и процессуальным статусом надлежащих кассаторов, определением иерархии (установлен- ных) кассационных инстанций, сутью основных актов кассационного производства. В итоге ожи- далось эволюционное возвращение самобытной «советской» кассации к исходному и классическо- му своему образцу, характеризуемому в научной доктрине как модель «чистой» континентальной кассации (Франция, Германия). Имелись, правда, и иные суждения, прямо или косвенно направленные к «реанимации» дореформенного предмета и сути кассационной проверки. К примеру, Ю.В. Кувалдина, анализи- руя в том числе ФЗ от 29.12.2010, достаточно однозначно пишет о том, что требования законности и обоснованности судебных решений неразрыв- но связаны между собой. Соответственно, приго- вор, «содержащий выводы, не соответствующие фактическим обстоятельствам дела, заведомо незаконен»2. Отсюда естественен и ее итоговый вывод о том, что реальная проверка кассацион- ным судом «вопросов права» (юридической за- конности) a priori невозможна без всесторонней проверки тем же судом «вопросов факта» (факти- ческой обоснованности итоговых выводов суда, изложенных в приговоре). Аналогичные сомнения в реальном предмете кассационной проверки возникали при анализе норм закона, посредством которых суд кассацион- ной инстанции, признав резонными доводы по- терпевшего или прокурора, имел вполне легаль- ное право отмены окончательного приговора по мотивам, ухудшающим положение осужденного/ оправданного (ст. 401.6, ч. 5 ст. 401.16 УПК РФ). В контексте анализа указанных полномочий рос- сийской уголовно-процессуальной доктриной в итоге был правомерно поставлен вопрос: насколь- ко указанное относится к оценке такой стороны приговора, как его справедливость, по идее более не являющейся надлежащим предметом кассаци- онной проверки3. Высказывались также сомнения в том, что наличие иерархии двух кассационных инстан- ций и, соответственно, легальной возможности к неоднократной кассационной проверке одних и тех же окончательных актов суда несколько ни- велирует сущность правила res judicata, колеблет правовую стабильность окончательных судебных решений, сказывается на авторитете суда и его окончательных актов4. Наконец, принципиальным предметом дис- куссии явили себя основания к отмене/измене- нию окончательных актов суда, ибо, во-первых, ни законодатель, ни доктрина не определились однозначно в вопросе о том, какие из существен- ных нарушений закона действительно могут слу- жить основанием для опровержения актов суда, вступивших в законную силу5. Во-вторых, не 2 Кувалдина Ю.В. Обжалование приговоров, поста- новленных в особом порядке: настоящее и будущее // Уголовное судопроизводство. 2011. № 3. С. 14-15. 3 См., напр.: Ковтун Н.Н. Апелляционное, кассационное и надзорное производство в уголовном процессе: изъяны законодательных новелл // Уголовный процесс. 2011. № 3. С. 45-41. 4 См., напр.: Апелляция, кассация, надзор: новеллы ГПК РФ, УПК РФ: первый опыт критического осмысления / под ред. Н.А. Колоколова. М.: Юристъ, 2011. 5 В российской уголовно-процессуальной доктрине, к примеру, все настойчивее проводится тезис о том, что любое из нарушений закона, выявленных кассационным судом, является существенным и констатирует приговор незаконным; соответственно, является достаточным ос- нованием к опровержению res judicata и внесению изме- нений в приговор кассационным судом в интересах обе- спечения публичной законности. виделось ясности в принципиальном различии существенных оснований - как обстоятельств к инициации экстраординарной кассационной проверки (ч. 1 ст. 401.15 УПК РФ), и фундамен- тальных нарушений закона (ст. 401.6 УПК РФ) - единственно оснований к инициации поворота к худшему в положении осужденного/оправданно- го по итогам кассации6. По идее, определенную ясность в эти вопро- сы должен был внести Пленум Верховного Суда РФ, к разъяснениям которого мы собственно и обратимся7, принимая в том числе во внимание непоколебимо-сакральное отношение к этим ак- там со стороны практикующих судей. Признаем, Пленум весьма искусно «снял» наши сомнения в вопросе о том, что, отменяя при- говор и направляя уголовное дело на новое судеб- ное рассмотрение по мотивам, ухудшающим поло- жение осужденного, суд кассационной инстанции тем самым вторгается в оценку справедливости приговора. По мнению Пленума, суд в указанной ситуации - лишь обсуждает и проверяет вопросы о правильном соблюдении норм Общей части УК РФ (п. 10 Постановления); фактически - проверяет законность, которая, как известно, является надле- жащим предметом кассационной проверки и в об- новленном процессуальном порядке. В данной свя- зи правомочие кассационного суда на изменение вида и размера наказания, назначенного осужден- ному, или размера денежной компенсации нане- сенного преступлением вреда вряд ли может быть поставлено под сомнение и не служит свидетель- ством нарушения res judicata. Доктринальные со- мнения в правомерности подобного толкования - скорее всего, субъективно надуманы8. Напротив, не только «не сняли», но и усили- ли наши сомнения разъяснения Пленума, свя- занные с правильным исчислением пресекатель- ных сроков кассационной проверки. По букваль- ному смыслу абз. 2 п. 7 Постановления Пленума, 6 См., напр.: Дикарев И.С. Понятие «фундаментальное нарушений» в уголовном процессе // Российская юстиция. 2009. № 6. С. 49-52; Потапов В.Д. Категории «существен- ное нарушение закона» и «фундаментальное нарушение закона» в контексте оснований для отмены окончатель- ных судебных решений в суде надзорной инстанции // Вестник Саратовской государственной академии право. 2011. № 2. С. 181-182. 7 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 № 2 «О применении норм главы 47.1 Уголовно- процессуального кодекса Российской Федерации, регули- рующих производство в суде кассационной инстанции» // СПС «КонсультантПлюс». 8 О безусловном принятии указанных выше позиций применительно к практической сфере проверки окон- чательных актов суда свидетельствует большинство из- ученных кассационных определений, по сути которых, не принимая доводы кассационного отзыва, суд кассаци- онной инстанции одновременно считает существенным нарушением закона, выявленное в ревизионном порядке неправильное применение норм Общей части УК РФ. При этом последнее, безусловно, дает ему основание для соот- ветствующего изменения окончательных актов суда. для дальнейшего инстанционного обжалования судебного акта, бывшего предметом кассацион- ного рассмотрения в Верховном Суде республи- ки (президиуме краевого, областного суда и т.д.), срок, установленный законом в один год (ч. 3 ст. 401.2 УПК РФ), исчисляется заново - с момен- та вступления в силу Постановления президиума соответствующего суда. Тем самым не волей зако- на, а усмотрением высшей судебной инстанции (Пленума), по сути, установлены два самостоя- тельных кассационных срока для иерархической проверки окончательного акта суда в различных кассационных инстанциях. Повторимся, исчис- ляемых для каждой кассационной инстанции отдельно, а не один - единый в целом для экс- траординарной кассационной формы проверки. Доводы о том, что подобное понимание и исчис- ление сроков кассации не согласуется с идеей res judicata и правовой определенностью состо- явшихся актов суда, были достаточно подробно озвучены в российской уголовно-процессуаль- ной доктрине9; тем не менее указанные новации состоялись как данность. Более того, последо- вательное лоббирование перед высшим законо- дательным органом идеи favor defensionis, в ее неразрывной связи с идеей публичной (читай - «советской») законности, неизбежно закончи- лось тем, что Федеральным законом от 31.12.2014 № 518-ФЗ ч. 3 ст. 401.2 УПК РФ признана утратив- шей силу10. Соответственно, сторона защиты бо- лее не ограничена пресекательным сроком для обжалования окончательных актов суда и иници- ации кассационной отмены/изменения пригово- ра, вступившего в законную силу, в своих интере- сах. Для полной дискредитации идеи res judicata осталось «дождаться», когда пресекательный срок кассационной проверки будет законода- тельно устранен и применительно к нормам ст. 401.6 УПК РФ (поворот к худшему); благо кон- ституционно-правовые тенденции к тому, в кон- тексте суждений и итоговых выводов постанов- ления Конституционного Суда РФ от 02.07.2013 № 16-П11, обозначены достаточно ясно и прямо. Определился Пленум и, по сути, в централь- ном вопросе кассации: об основаниях отмены, 9 См., напр.: Дикарев И.С. Об основаниях пересмотра приговоров, определений и постановлений суда в касса- ционном и надзорном порядке // Российская юстиция. 2014. № 3. С. 35-38; Ковтун Н.Н. Кассационное производ- ство: насколько оправданы лапидарные разъяснения пле- нума // Уголовное судопроизводство. 2014. № 2. С. 26-30. 10 См.: Федеральный закон от 31.12.2014 № 518-ФЗ изменения окончательных актов суда. С одной стороны, Пленум однозначен в вопросе о том, что, в отличие от апелляции, основаниями к кассационной отмене, изменению приговора могут служить лишь такие существенные на- рушения закона, которые повлияли на исход дела и в необходимой причинно-следственной связи повлекли неправильное его разрешение по существу (п. 14, 20, 22 Постановления). Тем самым Пленум впервые подчеркивает, что су- щественные апелляционные и существенные кассационные основания суть не тождественны для ординарной (апелляция) и исключительной (кассация) формы проверки. С другой стороны, Пленум не воспринял позиции ЕСПЧ, акты кон- ституционного правосудия, положения россий- ской уголовно-процессуальной доктрины, со- гласно которым основания отмены/изменения актов суда в исключительных процессуальных порядках в сторону, улучшающую положение осужденных, и в сторону, ухудшающую их по- ложение, так же должны быть принципиально отличны. Первые, достаточно известны док- трине и практике реализации контрольно-про- верочных производств в российском уголовном процессе. И Пленум методологически точен в их существенной сути. Вторые, в конституцион- но-правовой их интерпретации, уже фундамен- тальны12. Соответственно, их изначально следу- ет оценивать как исказившие существо правосу- дия, его итоговых актов (п. 21 Постановления). В конечном счете именно фундаментальность допущенных нарушений единственно являет право кассационных и надзорных инстанций как к опровержению правила res judicata, так и к преодолению конституционного ограничения non bis in idem. Последнее, повторимся, осталось за рамками понимания Пленума. Тем не менее поскольку тео- ретический базис в понимании сути и назначения кассационной формы проверки в исходных своих составляющих, по идее, был ясен, оставалось об- ратиться к практической составляющей текущей кассации, имея предметом внимания прежде все- го ее соответствие фундаментальному правилу res judicata. В качестве репрезентативной выборки избранного анализа были конвенциально опре- делены итоговые кассационные акты Судебной коллегии по уголовным делам, размещенные на официальном сайте Верховного Суда РФ. Во- первых, в силу доступности и легальной верифи- «О внесении изменений в статьи 401.2 и 412.2 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации и при- знании утратившими силу отдельных законодательных актов Российской Федерации» // Российская газета. 2015. 12 янв. 11 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 02.07.2013 № 16-П «По делу о проверке конституционно- сти положений ч. 1 ст. 237 УПК РФ в связи с жалобой граж- данина Республики Узбекистан Б.Т. Гадаева и запросом Курганского областного суда» // СПС «КонсультантПлюс». 12 См., напр.: Постановление Конституционного Суда РФ от 11.05.2005 № 5-П «По делу о проверке конституци- онности статьи 405 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом Курганского областного суда, жалобами Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, производственно-тех- нического кооператива “Содействие”, общества с ограни- ченной ответственностью “Карелия” и ряда граждан» // СПС «КонсультантПлюс». кации указанных актов иными исследователями. Во-вторых, в силу высокого авторитета данной судебной инстанции, итоговые акты которой не- редко служат исходным материалом для включе- ния в официальные обзоры судебной практики, утверждаемые Президиумом Верховного Суда РФ. Конечно, отсутствие на указанном сайте pdf- копий непосредственно кассационного отзыва заявителя, возможных возражений сторон, поста- новления о возбуждении кассационного разбира- тельства (особенно в части мотивов принятия та- кого решения), протокола самого кассационного производства несколько обедняет возможности уяснения всех нюансов реализации кассационной формы судебной защиты, исключает достовер- ность ответов на все возможные вопросы. Однако осталось довольствоваться предложенным к ана- лизу эмпирическим материалом. Тем более что даже изучение оного дает основание к постановке ряда проблемных вопросов: О надлежащей компетенции основ- ных деятелей кассационного производства. Дискуссии о компетенции субъектов исключи- тельных контрольно-проверочных производств достаточно известны теории российской уголов- но-процессуальной науки. В частности, анализи- руя в свое время практику, согласно которой реше- ние о возвращении надзорной жалобы заявителю без ее рассмотрения по существу, ввиду несоот- ветствия ее сути или содержания требованиям за- кона, в Верховном Суде РФ принимается консуль- тантами судов, а не судьями, В.А. Давыдов, спра- ведливо указывал на незаконность отмеченной практики. Признавая уголовно-процессуальный характер указанной деятельности и ее значение для комплексного института судебной защиты, В.А. Давыдов был однозначен в вопросе о том, что ее осуществление находится в компетенции ис- ключительно соответствующих должностных лиц, указанных в законе (управомоченных судей!)13. Максимум полномочий консультантов судов в данном вопросе - подготовить проект соответ- ствующего процессуального решения. Между тем, судя по изученным материалам, однозначность последнего вывода все еще не стала императивом для практики. При изучении «полной» информа- ции о движении жалобы, в частности, полагаем, можно констатировать, что решение о ее возвра- щении, как и ранее, принимается консультантами судов. К примеру14: 13 См.: Давыдов В.А. Пересмотр в порядке надзора су- дебных решений по уголовным делам : производство в надзорной инстанции: науч.-практ. пособие. М.: Волтерс Клувер, 2006. С. 56-57. 14 Здесь и далее приводятся и комментируются кас- сационные определения и полная информация о дан- ном производстве, размещенные на официальном сайте Верховного Суда РФ. URL: http://www.supcourt.ru/moving_ кассационное определение № 69-УД15-3: дата поступления (первой) жалобы - 13.08.2013/22.08.2013 - возврат жалобы; дата поступления (второй) жалобы - 02.10.2013/04.10.2013 - возврат жалобы; дата поступления (третьей) жалобы - 20.05.2014/22.05.2014 - возврат жалобы; дата поступления (четвертой) жалобы - 19.11.2014; дата передачи жалобы судье для изучения и решения вопроса об инициа- ции непосредственно кассационного рас- смотрения (ст. 401.8 УПК РФ) - 14.01.2015; кассационное определение № 52-УД15-1: дата поступления (первой) жалобы - 09.07.2014/11.07.2014 - возврат жалобы; дата поступления (второй) жалобы - 25.09.2014/01.10.2014 - возврат жалобы; дата поступления (третьей) жалобы - 20.01.2015; дата передачи жалобы судье для изучения (ст. 401.8 УПК РФ) - 06.02.2015. Как видим, в приведенных примерах, во- первых, временной период между поступлением жалобы в Управление по организационному обе- спечению рассмотрения обращений Верховного Суда РФ и ее возвращением заявителю составляет в среднем двое суток, за которые лица, ее изучав- шие, вполне определялись в необходимости адре- сации жалобы соответствующему судье для пред- варительного ее изучения. При этом решение о возвращении жалобы заявителю (без ее рассмо- трения по существу) в каждом из изученных слу- чаев принято до передачи жалобы для изучения управомоченному судье в порядке ст. 401.7 УПК РФ. Отсюда озвученные нами суждения как о воз- можном субъекте принятия указанного решения, так и, вполне разделяемые с В.А. Давыдовым, со- мнения в том, что эта деятельность в компетен- ции консультантов суда. Не менее однозначен В.А. Давыдов в вопросе о том, что правом истребования уголовного дела для его изучения обладает исключительно су- дья, которому поручено предварительное изуче- ние жалобы. Более того, реализация указанного полномочия возможна лишь в пределах компе- тенции, установленной уголовно-процессуаль- ным законом (в нашем случае - ч. 2 ст. 401.3 УПК РФ)15. Между тем в каждом из изученных случаев (всего 100 %) уголовное дело для его изучения ис- требовалось еще до направления жалобы касса- тора соответствующему судье (ст. 401.7 УПК РФ). Скорее всего, теми же консультантами суда или помощниками судьи. К примеру: кассационное определение № 86-УД15-1: дата поступления жалобы - 23.12.2014; ис- требование уголовного дела - 26.12.2014; дата передачи жалобы управомоченному судье (для ее изучения) - 26.01.2015; case.php?findByNember=69-%D3%C415-3 (дата обращения: 12.2014-01.2015). 15 См.: Давыдов В.А. Указ. соч. С. 62-63. кассационное определение № 11-УД14-29: дата поступления жалобы - 24.11.2014; ис- требование уголовного дела - 28.11.2014; дата передачи жалобы управомоченному судье (для ее изучения) - 13.01.2015. Как видим, и в этом моменте компетенция ис- ключительно управомоченного судьи Верховного Суда РФ ведомственным усмотрением о практи- ческой целесообразности экстраординарного процесса кассационной проверки «откорректи- рована» в пользу компетенции консультантов суда, единственно своим усмотрением разреша- ющих вопрос как о необходимости истребования уголовного дела, так и сроках его изучения. Поясним. Ранее упоминаемый нами В.А. Да- выдов, характеризуя (в свое время) процессуаль- ный порядок надзорной проверки (во многом аналог современной кассации; гл. 47.1 УПК РФ), неоднократно пишет о том, что поступление жа- лобы или представления прокурора в суд выше- стоящей инстанции влечет за собой безусловное возбуждение процедуры их рассмотрения и из- учения судьей. В данной связи они «регистри- руются в суде и передаются немедленно судье, который их изучает и принимает соответству- ющее процессуальное решение»16. Подчеркнем: немедленно и судье. Именно последнему, в силу закона, предоставлено исключительное право на изучение дела и жалобы в срок до 3 месяцев и принятие итогового решения, в соответствии с ч. 2 ст. 401.8 УПК РФ. В итоге как особый субъект изучения жалобы, так и сроки инициации непо- средственно кассационного разбирательства по существу выступают своего рода процессуаль- ной гарантией незыблемости фундаментального правила res judicata. На практике, как представ- ляется, указанные компетенции распределены несколько иначе. Для примера: кассационное определение № 2-УД15-1сп: дата поступления жалобы - 30.12.2014; истребование уголовного дела - 15.01.2015; дата передачи жалобы для из- учения судье - 13.02.2015; изучение дела и жалобы и возбуждение судьей касса- ционного производства (п. 2 ч. 2 ст. 401.8 УПК РФ) - 13.02.2015; кассационное определение № 18-УД15-2: дата поступления жалобы (осужденного С.) - 07.10.2014; истребование уголовного дела - 09.10.2014; дата поступления жалобы (осужденного Ч.) - 25.12.2014; дата переда- чи жалобы для изучения судье - 21.01.2015; изучение дела и жалобы и возбуждение су- дьей кассационного производства (п. 2 ч. 2 ст. 401.8 УПК РФ) - 29.01.2015. Немедленно и судьей в итоге не получается. В первом случае жалоба находится в Управлении 16 Давыдов В.А. Указ. соч. С. 31, 54, 61,65 и др. по организационному обеспечению рассмотре- ния обращений (скорее всего, у консультанта суда или помощника судьи) - свыше 40 суток; у судьи, призванного к всестороннему изуче- нию дела и жалобы, определению надлежащих кассационных оснований и в итоге к решению вопроса об инициации непосредственно касса- ционного рассмотрения, - 1 сутки. Последних, отметим, вполне достаточно для установления как исключительных кассационных оснований, позволяющих преодолеть res judicata, так и необ- ходимости постановки дела и жалобы на рассмо- трение кассационного состава суда. Во втором случае жалоба и дело изучаются (кем?) свыше 80 суток; управомоченным законом судьей - 7 суток, с постановкой в результате дела и жало- бы непосредственно на кассационное разбира- тельство по существу. Воздержимся от субъективных комментариев по этому поводу и оговоримся, что приведенные примеры не субъективно подобраны - напра- шивающийся вывод о действительном субъекте изучения дела и жалобы легко верифицируем посредством обращения к изучению иных про- изводств, размещенных на том же официальном сайте и за тот же период. Отсюда правомерен и практически значим вопрос: кем реально пред- решается вопрос об инициации исключительной формы кассационной проверки к преодолению фундаментального правила res judicata? «Преюдициальная» сила решений Президиума Верховного Суда РФ для опре- деления предмета и процесса кассационной проверки. Закон, как известно, устанавливает ряд процессуальных гарантий для ограничения произвольной кассации окончательных актов суда. Юридическим основанием подобной про- верки, во-первых, выступает постановление су- дьи, изучавшего жалобу и принявшего в итоге решение о передаче дела и жалобы на рассмо- трение в судебном заседании суда кассационной инстанции (п. 2 ч. 2 ст. 401.8 УПК РФ). Во-вторых, это решение Председателя Верховного Суда РФ (его заместителей), не согласившихся с реше- нием указанного судьи об отказе в постановке дела и жалобы на рассмотрение кассационного суда, отмене такого решения и постановке жа- лобы своим решением на кассационное рассмо- трение (ч. 3 ст. 401.8 УПК РФ). И в том, и другом случае фактическим основанием для постановки дела на кассационное рассмотрение, очевидно, являются существенные или фундаментальные кассационные основания, усмотренные либо су- дьей - субъектом изучения жалобы, либо выс- шими должностными лицами судебной системы России - самостоятельно обеспечившими право судебной защиты по обращению заинтересован- ных лиц. Исчерпывающее приведение указанных оснований (мотивов) - по сути, императивное требование к форме и содержанию как реше- ния указанного судьи, так и акта Председателя Верховного Суда РФ (его заместителей). В-третьих, еще одним способом к инициации непосредствен- но кассационного рассмотрения дела и жалобы по существу служит решение Президиума Верховного Суда РФ как надзорной инстанции, отменившего состоявшиеся по делу решения и направившего дело на новое кассационное рассмотрение (п. 5 ч. 1 ст. 412.11 УПК РФ). И в этом случае в своем постанов- лении суд надзорной инстанции императивно обя- зан указать конкретное кассационное основание к отмене/изменению обжалованного судебного акта (ч. 2 ст. 412.11 УПК РФ). Закономерно возникают вопросы: указанные основания имеют преюдициальную силу для кас- сационного рассмотрения дела и жалобы по суще- ству, или указанный суд вправе, в том числе в реви- зионном порядке, усмотреть иные основания для вынесения итоговых актов кассационной провер- ки? В практической плоскости вопрос также стоит о необходимости (отсутствии таковой?) процедур предварительного изучения кассационного повода или об императивном, по сути, велении как выше- стоящей судебной инстанции, так и Председателя Верховного Суда РФ к постановке дела и жалобы на кассационное рассмотрение по существу. При отсутствии к тому однозначных сужде- ний в российской уголовно-процессуальной док- трине, обратимся непосредственно к практике - критерию истины. Среди материалов изученной выборки три кассационных производства ини- циированы решением Президиума Верховного Суда РФ, направившего дело и жалобы на новое кассационное рассмотрение17. Ни по одному из этих производств предварительная проверка кас- сационного отзыва в порядке ст. 401.7-401.8 УПК РФ реализована не была; на следующие сутки (по поступлении из суда вышестоящей инстанции) дело и жалобы переданы судье-докладчику для подготовки непосредственно кассационного су- дебного рассмотрения. Тем самым, по сути, пре- зюмируется достоверность и императивность вывода надзорной инстанции как о явном нали- чии существенных/фундаментальных кассаци- онных оснований, так и необходимости соответ- ствующей реакции на них со стороны суда касса- ционной инстанции. О том, насколько указанное ограничивает независимость и внутреннее убеж- дение судей нижестоящей инстанции, конвенци- онально оставим без обсуждения18; целесообраз- 17 См.: Кассационное определение от 29.01.2015 № 71-О15-1, от 26.02.2015 № 49-О15-1, от 05.03.2015 № 20-О15-1сп. 18 Мы не будем также задаваться вопросами о том, копии каких именно документов, инициирующих непосредственно кассационный процесс, своевременно направлялись заинте- ресованным лицам (направлялись ли вообще), насколько в них были указаны исключительные кассационные основа- ния, было ли реализовано право на возражения со стороны заинтересованных лиц, обеспечены иные их права, - это не нее обратиться непосредственно к сути кассаци- онной проверки и итоговым ее результатам. Возьмем для примера определение от 29.01.2015 № 71-О15-1 по кассационной жалобе осужденного К. на приговор Калининградского областного суда от 10.06.2003. В кассационной жалобе (именуемой апелляционной. - Н.К.) осужденный К. указывает на несоответствие вы- водов суда фактическим обстоятельствам дела, незаконность и необоснованность приговора, в силу чего постановленный приговор следует от- менить и направить уголовное дело на новое су- дебное рассмотрение19. Конвенционально оставим без обсуждения (итоговые) выводы и суждения кассационной инстанции относительно несоответствия вы- водов суда фактическим обстоятельствам дела. Констатируем и вывод кассационного состава суда о том, что нарушений уголовно-процессуального закона, влекущих отмену приговора, из дела не усматривается. С доверием воспримем итоговый вывод, согласно которому действиям осужденного К. суд первой инстанции дал правильную юриди- ческую оценку по закону, действовавшему во вре- мя совершения преступлений. Не будем спорить и с внутренним убеждением суда о том, что нака- зание К. назначено соразмерно содеянному, с уче- том всех обстоятельств дела и данных о личности, оснований для его смягчения не имеется. Суммируем: фактическая сторона приговора (доказанность) - более не является надлежа- щим предметом проверки в суде кассационной инстанции; нарушений (тем более существен- ных или фундаментальных) материального и уголовно-процессуального закона в ходе про- верки не выявлено. Справедливость пригово- ра кассационным судом констатируется. Что в «остатке»? Как выяснилось, в связи с приняти- ем Федерального закона от 08.12.2003 № 162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации», улуч- шающего положение осужденного, постановлен- ный приговор подлежит изменению, а именно: в связи с изменением диспозиции ч. 2 и 3 ст. 162 УК РФ из приговора К. подлежат ис- ключению «квалифицирующий признак неоднократности преступлений и назначе- ние ему за данное преступление и по сово- купности преступлений дополнительного наказания в виде конфискации имущества»; в связи с внесенными в ст. 18 УК РФ из- менениями, в действиях К. имеется опас- ный рецидив, а не особо опасный; предмет данной статьи, и должно исследоваться комплексно, в целом по материалам кассационного производства. 19 К сожалению, по материалам, размещаемым на сайте, невозможно установить, по каким именно основаниям принято решение Президиумом Верховного Суда РФ и дело направлено на новое кассационное рассмотрение. соответственно, отбывать наказание в виде лишения свободы К. должен, в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ, в исправительной колонии строгого, а не особого режима. С учетом указанного и в соответствии с нор- мами ст. 377, 378, 388 УПК РФ, подлежит смяг- чению как наказание по пункту «б», «в» ч. 3 ст. 162 УК РФ, так и по совокупности преступле- ний, что собственно и нашло отражение в (ито- говом) определении кассационной инстанции. В остальном приговор оставлен без изменения, жалоба осужденного К. - без удовлетворения. По идее, все верно - приговор приведен в со- ответствие с изменившимся материальным зако- ном; судебная защита интересов и прав осужден- ногообеспечена (правда, по прошествии 12 лет, но обеспечена все же!). Тем не менее зададимся ря- дом вопросов. Во-первых, насколько указанное, действительно, предмет экстраординарного кас- сационного производства и предмет внимания высшей кассационной инстанции, а не предмет деятельности суда, функционирующего в поряд- ке ст. 396, 397, 399 УПК РФ20. Во-вторых, если это и есть вся суть нарушений, то указанное вполне могло быть исправлено непосредственно судом надзорной инстанции, без излишних указаний суду нижестоящему. Средства обновленной кас- сации (гл. 47.1 УПК РФ) и надзорного производ- ства (гл. 48.1 УПК РФ) - как известно, идентич- ны. Или доводы президиума Президиума были принципиально иные, и он, в нарушение нормы закона, настаивал на проверке именно фактиче- ской стороны приговора, к которой в большин- стве своем и кассирует осужденный? Причем кассирует так однозначно, что процесс кассаци- онной проверки реализован императивно - без предварительной проверки доводов жалобы в порядке ст. 401.8 УПК РФ и приведения исчерпы- вающих мотивов к постановке дела и жалобы на экстраординарное кассационное рассмотрение21. Наконец, в-четвертых, возникает вопрос о пре- секательных сроках надзорной и кассационной проверки. Осужденный, напомним, обжалует приговор от 10.06.2003. Представляется оче- видным, что на момент рассмотрения жалобы осужденного в суде надзорной инстанции уста- новленный в один год пресекательный срок (воз- можной) кассационной/надзорной проверки, по Тем не менее высшая судебная инстанция стра- ны легко преодолевает фундаментальные запреты res judicata, обязывая суд кассационной инстанции к императивной проверке приговора, постанов- ленного в 2003 г. Последнему, естественно, ничего не остается, как изменить в кассационном порядке окончательный акт суда, сославшись в том числе на «несуществующие» к моменту проверки нормы ст. 377, 378, 388 УПК РФ22. До res judicata ли здесь, в итоге, когда обеспечивается принцип публичной законности? В данной связи мы наставали и на- стаиваем на том, что доктрине и практике следует однозначно определиться в вопросе о том, что про- цессуальное решение о постановке дела и жалобы непосредственно на кассационное рассмотрение (с указанием исчерпывающих оснований/мотивов последнего) должно стать императивом, а не фа- культативом для данной формы проверки. Предмет кассационной проверки - суть «перемен». Ранее уже отмечалось, что од- ной из наиболее принципиальных новаций об- новленного кассационного производства стало изменение непосредственного предмета провер- ки и оценки суда. К последнему, в соответствии с волей закона, отнесены исключительно свойства законности постановленных судебных решений (ст. 401.1 УПК РФ) и a priori невозможность касса- ционной проверки «вопросов факта» и справед- ливости окончательных актов суда. Оставим без комментария жалобы осужден- ных, которые, не разбираясь особо в юридической сути внесенных новаций, все так же формулируют к суду кассационной инстанции притязания о про- верке фактической стороны приговора и новой оценке доказательств в этой связи, о несправедли- вости приговора и необходимости его изменения23. Не будем комментировать и аналогичные доводы их юридически квалифицированных представи- телей (защитников), которые также традицион- но кассируют к указанным сторонам приговора24. Указанное в целом понятно и есть не только закон- ное средство защиты, но и косвенное стремление кассаторов побудить судей к всесторонней оценке всех доводов жалобы и обстоятельств уголовно- го дела, с «последней» надеждой на эффектив- ность кассационной формы защиты. Воспримем как данность волю закона и правосознание судей, правильно понимающих как ценность правила res идее, истек; следовательно, в рассмотрении жалобы по закону должно быть отказано. 20 Именно со ссылкой на данные нормы (в аналогичной ситуации) принято, к примеру, решение по кассационно- му представлению зам. Генерального прокурора РФ К. в отношении осужденного Б. См.: Кассационное определе- ние от 25.02.2015 № 56-УДП14-6. 21 Мы не склонны гадать по этому поводу; соответственно, отметим лишь то обстоятельство, что по остальным производ- ствам (от 26.02.2015 № 49-О15-1, от 05.03.2015 № 20-О15-1сп), инициированным Президиумом Верховного Суда РФ, и ситу- ация, и итоги проверки - фактически идентичны. 22 Последнее, думается, вполне обоснованно для разд. XIV УПК РФ, и несколько сомнительно для экстраорди- нарного кассационного производства. См. аналогично по сути: Кассационное определение от 25.03.2015 № 4-О15-1; от 05.032015 № 20-О15-1сп и др. 23 См., напр.: Кассационное определение от 29.01.2015 № 71-О15-1; от 12.03.2015 № 18-УД14-65; от 26.02.2015 № 49-О15-1; от 05.03.2015 № 20-О15-1сп; от 25.03.2015 № 4-О15-1; от 03.03.2015 № 69-УД15-3; от 17.02.2015 № 66-УД14-3. 24 См., напр.: Кассационное определение от 05.03.2015 № 11-УД15-1; от 05.03.2015 № 20-О15-1сп, от 26.02.2015 № 49-О15-1. judicata, так и назначение исключительных кон- трольно-проверочных производств в контексте ин- ституциональной идеи верховенства и определен- ности права. Мерилом последнего, естественно, яв- ляются итоговые кассационные акты, отражающие предмет и пределы усилий суда, реализующего эту форму судебной защиты. Именно в данном контек- сте проанализируем отдельные из итоговых актов обновленной российской кассации: Обратимся вновь к определению от 29.01.2015 № 71-О15-1 по кассационной жалобе осужденного К. на приговор Калининградского областного суда от 10.07.2003. Как отмечалось, кассаторы апеллируют к фактической необоснованности постановленного приговора, к существенным нарушениям закона, к явной несправедливости данного судебного акта. Известны и итоговые «ответы» суда по существу адресуемых к нему притязаний. Полагаем целесоо- бразным обратиться к фактической основе указан- ных судейских суждений, и, чтобы не быть субъек- тивными, будем приводить их буквально. Итак: В кассационной жалобе осужденный К. указы- вает на несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам дела. Утверждает, что преступления он не совершал, а имеет в наличии алиби, которое судом не прове- рено; считает, что суд дал неправильную оценку исследованным доказательствам; видит недока- занными или противоречивыми отдельные об- стоятельства дела. Напротив, суд кассационной инстанции, всесторонне проверив материалы уголовного дела и доводы жалобы, находит вы- воды суда (первой инстанции) о виновности К. в инкриминируемых преступлениях правильными, основанными на исследованных в судебном засе- дании доказательствах. Доводы осужденного К. о непричастности к совершению преступлений при этом, как указывает кассационный суд, опроверга- ются следующими доказательствами: «показаниями Щ., которые полностью со- ответствуют показаниям П. и Ш., данным на предварительном следствии»; «показаниями П., Щ. и Ш., которые объек- тивно подтверждаются протоколом след- ственного эксперимента и протоколом ос- мотра места происшествия и трупа Т.»; «заключением эксперта подтверждаются и показания П., Щ. и Ш. о том, что после ухода К. из квартиры дверь автоматиче- ски закрылась на замок, после чего К. пы- тался открыть с помощью преданной ему Ш. монтировки и не смог этого сделать»; «соответствуют показания П., Щ. и Ш. и по- казаниям потерпевшей Т., из которых следу- ет, что полотенце, которым был задушен ее муж, чужое и их семье не принадлежало»; та <…> а потому доводы К. о применении к Ш. недозволенных методов следствия, под воздействием которых он оговорил его, нельзя признать обоснованными»; «принимая во внимание согласованность показаний Щ., Ш. и П. <…> соответствие их другим доказательствам <…> суд обо- снованно признал приведенные выше по- казания Щ., Ш. и П. достоверными»; «показаниям подсудимого Ш. о том, что убийство Т. совершил он, а также показа- ниям свидетеля П. о совершении убийства потерпевшего Щ. <…> суд дал надлежащую оценку и обоснованно отверг их как проти- воречащие другим доказательствам, о чем в приговоре приведены мотивированные суждения, которые Судебная коллегия на- ходит правильными и убедительными». Не удивительно, что при подобном предме- те проверки суд кассационной инстанции «обо- снованно пришел к выводу о том, что убийство Т. <…> совершил именно К., а не другое лицо, как утверждается в жалобе». Мы ни в коей мере не стремимся поставить под сомнение достоверность выводов кассационного состава суда как по системе вышеуказанных доказа- тельств, так и по итоговым выводам, отраженным в кассационном решении. Болеетого, мы готовы при- знать это решение правосудным. Единственное, в чем мы сомневаемся, так это в вопросе о том, что, в соответствии с назначением и сутью данной фор- мы судебной проверки, суд кассационной инстан- ции проверял и оценивал исключительно свойства законности окончательного акта суда, не вторгаясь ни в сферу фактической его обоснованности, ни достоверности или допустимости доказательств. Именно в этом (последнем) контексте мы не будем считать, какое именно количество раз, и в каком смысловом и нормативном контексте в анализиру- емом акте суда приведены лексические конструк- ции: «достаточно обоснованно» или «достоверно». Не будем утверждать субъективно и то, что в дан- ном определении судом кассационной инстанции с учетом и на основе ст. 87, 88 УПК РФ, по сути, дана самостоятельная оценка доказательств, поддер- жаны или отвергнуты мотивы принятия того или иного решения по делу. Возможно, проверка юридической стороны приговора верифицируется только при помощи указанных категорий и средств, чего ни доктрина российской уголовно-процессуальной науки, ни Пленум еще не обосновали в достаточной мере. К возможной достоверности последнего вывода нас «подтолкнуло» и то, что (в изученной выборке) по- добные лексические конструкции использованы в подавляющей части кассационных определений25. - «следственный эксперимент с Ш. был проведен с участием понятых и адвоката, допрос Ш. произведен с участием адвока- 25 Исключительно рамки данной работы не дают нам возможности столь же дословно привести фактическую сторону кассационных решений по иным уголовным де- При этом в одних решениях суд кассационной ин- станции почитает за благо оговориться в вопросе о том, что, в соответствии с буквой закон,а он более не проверяет фактической стороны приговора26; в других - ритуальное обращение к этой формуле «скромно» опущено, хотя лексические конструк- ции «обоснованно» и «достоверно» в них достаточ- но весомо присутствуют27. Является ли данный алгоритм действий и ре- шений суда кассационной инстанции фактиче- ской «реанимацией» апелляционного предмета проверки или лишь творческой интерпретацией разъяснения Пленума, согласно которому при на- личии в кассационной жалобе указаний «на до- пущенные судом нарушения уголовно-процессу- ального закона при исследовании или оценке до- казательств (например, обоснование приговора недопустимыми доказательствами), повлиявшие на правильность установления судом фактических обстоятельств дела и приведшие к судебной ошиб- ке, такие доводы не должны быть оставлены без проверки», - вопрос правосознания каждого из исследователей. Равно как и нередкое обоснование того, что подобная форма кассационной проверки вполне согласуется с самобытно-российским по- ниманием фундаментального правила res judicata. В данной связи мы в принципе не склонны навя- зывать свои суждения о принципиально иной роли идеи res judicata в иных правовых системах. Предположим, указанная активность суда отча- сти вызвана тем, что при объективном отсутствии существенных/фундаментальных нарушений зако- на как единственного основания обновленной кас- сации указанный суд просто вынужден обращаться к всесторонней проверке правосудности оконча- тельных актов суда, обеспечивая в итоге единство и эффективность судебной защиты, состояние закон- ности и правопорядка в стране. Соответственно, для обеспечения столь «праведной» цели можно несколько и «отступить» от правила res judicata. Однако зададимся вопросом, столь ли уж редки и «неустанавливаемы» кассационные основания, по- зволяющие преодолеть res judicata28? Для ответа лам и в отношении иных осужденных. Впрочем, указан- ное вполне может быть верифицировано иными исследо- вателями самостоятельно. 26 См., напр.: Кассационное определение от 12.03.2015 № 18-УД14-65; от 24.02.2015 № 18-УД15-2; от 17.02.2015 № 66-УД14-3. 27 См., напр.: Кассационное определение от 18.02.2015 № 4-УД14-20; от 29.01.2015 № 71-О15-1; от 25.03.2015 № 4-О15-1; от 03.03.2015 № 13-УД15-1; от 26.02.2015 № 49-О15-1. 28 Указанное предположение легко опровергается ре- зультатами изученной выборки, ибо именно реальные и существенные нарушения закона стали основанием от- мены/изменения большинства из изученных актов той же Судебной коллегии. См., напр.: Кассационное определение от 26.02.2015 № 11-УД14-28; от 05.03.2015 № 11-УД15-1; от 11.03.2015 № 41-УД15-2; от 03.03.2015 № 69-УД15-3; от 31.03.2015 № 30-УД15-3; от 20.02.2015 № 49-УД14-36; от 25.02.2015 № 11-19-14-29. на этот вопрос обратимся еще к одному из реше- ний той же судебной инстанции. Мы имеем в виду определение от 19.03.2015 № 2-УД15-1сп. В кассационной жалобе осужденный С. просит об отмене постановленного в отношении него, в соответствии с ч. 5 ст. 247 УПК РФ, приговора и на- правлении дела на новое судебное рассмотрение. Кассационная инстанция, проверив материалы уголовного дела, считает возможным согласить- ся с доводами жалобы, верно ссылаясь на нормы ч. 2 ст. 401.15 УПК РФ, согласно которым приговор, постановленный в заочном порядке, подлежит от- мене по жалобе осужденного или его защитника, а дело направляется на новое судебное рассмо- трение (по первой инстанции) в общем порядке. В данном случае мы имеем дело не столько с на- личием существенных или фундаментальных кас- сационных оснований к преодолению res judicata, сколько с весомой процессуальной гарантией, призванной обеспечить конституционное право судебной защиты тем осужденным, которые были признаны виновными по правилам судебного раз- бирательства, реализуемого в заочном порядке. На этом собственно можно было бы и завершить анализ данного судебного акта; однако обратимся к отдельным доводам, отраженным в его описа- тельно-мотивировочной части. Как констатирует суд кассационной инстанции: «вердиктом коллегии присяжных заседателей от 16 февраля 2012 года С. признан виновным в организа- ции покушения на убийство Б. из корыстных побуж- дений». Из представленных материалов, продолжа- ет суд, «усматривается, что судебное разбиратель- ство в отношении С. и Д. проведено в отсутствие подсудимых на основании ч. 5 ст. 247 УПК РФ в связи с их уклонением от явки в суд». В настоящее время С. задержан и находится в ФКУ СИЗО УФСИН России по городу. При данных обстоятельствах приговор в отношении С. подлежит отмене, адело - направле- нию в Вологодский областной суд на новое рассмо- трение, в ходекоторого ибудут проверены доводы С. об его невиновности. Воздержимся от (вполне понятных) эмоций, но разве действующий уголовно-процессуальный закон предоставляет возможность реализации за- очного судебного разбирательства при рассмотре- нии дела в суде с участием коллегии присяжных заседателей (разд. ХII УПК РФ); особенно если учесть, что этот порядок может быть реализован единственно волей обвиняемого, своевременно высказанной и окончательно подтвержденной на предварительных слушаниях. До ознакомления с исследуемым определением судебной коллегии нам, во всяком случае, не был известен подобный юридический казус. Отсюда столь удивителен для нашего понимания вердикт присяжных в от- ношении вообще «не присутствующих» подсуди- мых. У присяжных, спросим, вообще не возникли вопросы: «кого они собственно судят»? Столь же сомнительны подходы кассационной инстанции, легко усмотревшей формальное основание для от- мены приговора, вступившего в законную силу, и направления дела на новое рассмотрение, и не «узревшей» столь «непривычный» способ отправ- Дикарев И.С. Об основаниях пересмотра приговоров, определений и постановлений суда в кассационном и надзорном порядке // Российская юстиция. 2014. № 3. С. 35-38. Дикарев И.С. Понятие «фундаментальное наруше- ний» в уголовном процессе // Российская юстиция. ления правосудия, который, как видится, ввиду 2009. № 6. С. 49-52. 5. онное, кассационное и надзорное своей фундаментальности весомо дает основание для безусловного опровержения res judicata. Или в данном случае в силу известных причин при- шлось «пожертвовать» уже полнотой и всесторон- ностью кассационной проверки, столь скоро яв- ляющей себя при анализе иных актов изученной выборки. Риторическим по сути, видимо, будет также вопрос, какие именно стандарты кассаци- онной защиты формирует в итоге кассационная практика как в контексте определенности права, так и в контексте институциональной идеи верхо- Ковтун Н.Н. Апелляци производство в уголовном процессе: изъяны законода- тельных новелл // Уголовный процесс. 2011. № 3. С. 45-41. Ковтун Н.Н. Кассационное производство: насколько оправданы лапидарные разъяснения пленума // Уго- ловное судопроизводство. 2014. № 2. С. 26-30. Ковтун Н.Н. Институт специализированных след- ственных судей: к дискуссии о векторах законода- тельной воли // Российский журнал правовых иссле- дований. 2015. № 2 (3). С. 174-183. Кувалдина Ю.В. Обжалование приговоров, постанов- ленных в особом порядке: настоящее и будущее // Уголовное судопроизводство. 2011. № 3. С. 14-15. Потапов В.Д. Кассационное и надзорное производство: общее и особенное в контексте законодательных новелл от венства закона, если правило res judicata не стало определяющим для правосознания судей и по- вседневной практики отправления правосудия.×
About the authors
N N Kovtun
National Research University «Higher School of Economics»
Email: kovtunnnov@mail.ru
References
- Апелляция, кассация, надзор: новеллы ГПК РФ, УПК РФ: первый опыт критического осмысления / под ред. Н.А. Колоколова. М.: Юристь, 2011. 188 с.
- Давыдов В.А. Пересмотр в порядке надзора судебных решений по уголовным делам: производство в надзорной инстанции : науч.-практ. пособие. М.: Волтерс Клувер, 2006. 169 с.
- Дикарев И.С. Об основаниях пересмотра приговоров, определений и постановлений суда в кассационном и надзорном порядке // Российская юстиция. 2014. № 3. С. 35-38.
- Дикарев И.С. Понятие «фундаментальное нарушений» в уголовном процессе // Российская юстиция. 2009. № 6. С. 49-52.
- Ковтун Н.Н. Апелляционное, кассационное и надзорное производство в уголовном процессе: изъяны законодательных новелл // Уголовный процесс. 2011. № 3. С. 45-41.
- Ковтун Н.Н. Кассационное производство: насколько оправданы лапидарные разъяснения пленума // Уголовное судопроизводство. 2014. № 2. С. 26-30.
- Ковтун Н.Н. Институт специализированных следственных судей: к дискуссии о векторах законодательной воли // Российский журнал правовых исследований. 2015. № 2 (3). С. 174-183.
- Кувалдина Ю.В. Обжалование приговоров, постановленных в особом порядке: настоящее и будущее // Уголовное судопроизводство. 2011. № 3. С. 14-15.
- Потапов В.Д. Кассационное и надзорное производство: общее и особенное в контексте законодательных новелл от 29 декабря 2010 г. // Уголовное право. 2011. № 2. С. 99-102.
- Потапов В.Д. Категории «существенное нарушение закона» и «фундаментальное нарушение закона» в контексте оснований для отмены окончательных судебных решений в суде надзорной инстанции // Вестник Саратовской государственной академии право. 2011. № 2. С. 181-182.
- Тимошенко А.А. Разумность как средство от формализма в науке и практике (уголовно-процессуальный аспект) // Российский журнал правовых исследований.2014. № 4 (1). С. 162-168.
- Шадрин В.С. Уголовно-процессуальная политика и уголовно-процессуальное право (часть 1) // Российский журнал правовых исследований. 2015. № 2 (3). С. 162-165.
Supplementary files