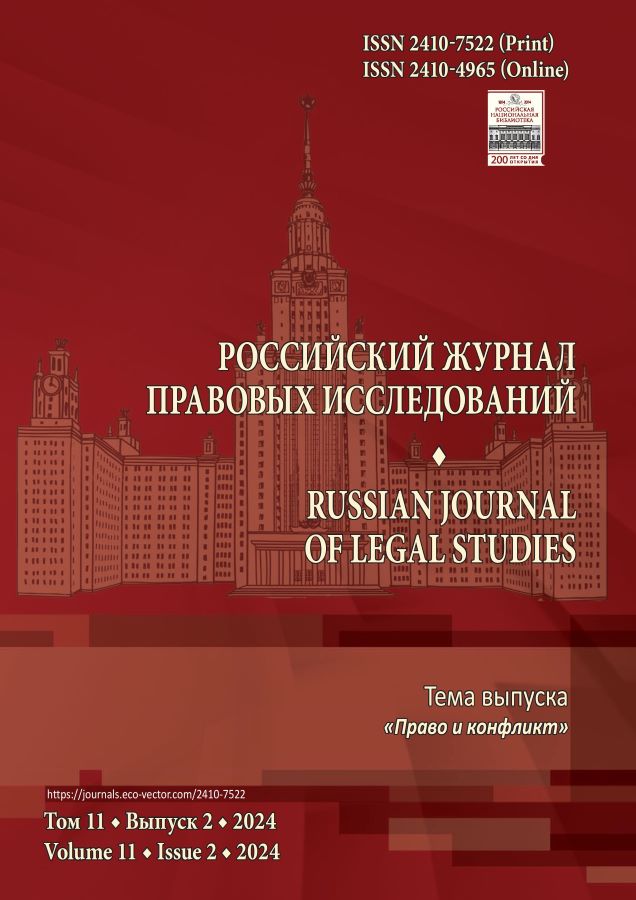Феноменология юридического конфликта
- Авторы: Скоробогатов А.В.1, Краснов А.В.2
-
Учреждения:
- Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)
- Казанский филиал Российского государственного университета правосудия
- Выпуск: Том 11, № 2 (2024)
- Страницы: 15-28
- Раздел: Актуальная тема
- Статья получена: 14.03.2024
- Статья одобрена: 21.05.2024
- Статья опубликована: 19.07.2024
- URL: https://journals.eco-vector.com/2410-7522/article/view/629079
- DOI: https://doi.org/10.17816/RJLS629079
- ID: 629079
Цитировать
Аннотация
Исследование имеет своей целью формирование научно обоснованных знаний о сущностных чертах и природе юридического конфликта на базе феноменологической методологии. Авторы опираются на аксиологические исследования правового бытия и феноменологическую интерпретацию правовой жизни.
В статье анализируются трактовки юридического конфликта с опорой на зарубежную общую социологию, а также отечественную юридическую конфликтологию. Обращается внимание на неоднозначность объема исследуемой категории ― от чисто нормативистского варианта с указанием исключительно на столкновение интересов в правовом регулировании до более широких трактовок, предполагающих конфликт по поводу соответствующих благ. Авторы указывают на несколько возможных полей юридического конфликта ― противоречия между правосознанием и содержанием реальных правовых отношений, правовыми идеями и элементами правовых отношений, ценностными ориентациями и требованиями законодательства. Юридический конфликт определяется в исследовании как противоречия между субъектами права по поводу реализации, применения, нарушения, толкования норм позитивного права, обусловленные антагонизмом их социально-правовых интересов, а также различиями в отношении к нормам права и правовым ценностям.
В работе дифференцируются юридический конфликт и юридическая коллизия. Сущность конфликта рассматривается в онтологическом, гносеологическом и аксиологическом срезах. В качестве сущностных черт юридического конфликта обозначается его смешанный характер, сочетающий объективность и субъективность. Более того, конфликт интерпретируется через категорию интерсубъективности. В свою очередь, это связано с релятивностью юридического конфликта, с зависимостью его возникновения, протекания и разрешения от позиций участвующих субъектов, а также компетентного субъекта, призванного его разрешать. Юридический конфликт предполагает невозможность реализации интересов субъектами правовых отношений, когда на их пути возникают препятствия, требующие преодоления правовыми средствами. Также конфликт носит процессуальный, протяженный характер и проходит несколько стадий, рассмотренных в работе. Кроме того, юридический конфликт напрямую связан с явлением социальной аномии, которая предполагает неопределенность: наличие препятствий на пути удовлетворения интересов субъектами конфликта требует более четкого определения границ в их субъективных правах, полномочиях, юридических обязанностях. Преодоление юридических конфликтов предполагает высокую готовность общества не только к конфликтным, но и компромиссным действиям.
Полный текст
ВВЕДЕНИЕ
Социальная конфликтность, наряду с компромиссностью, составляет онтологическую основу возникновения и существования права и правовой реальности [1, с. 34]. Интересы участников общественных отношений достаточно разновекторны, что становится основой проявления конфликтов во всех сферах жизни общества [2, p. 38–39]. Формирование права как таковое происходит под воздействием разных факторов, но тем не менее основной вектор становления и развития права нацелен на формирование устойчивых отношений внутри социума в целях его выживания и последующих побед в конкуренции с другими социумами. В этом плане право можно рассматривать как важнейший инструмент гармонизации общественной жизни [3, p. 10]. Нельзя однозначно определить, именно ли конфликт телеологически является одной из первоначальных точек правообразования [4, с. 281–282]. Возможно, что в зародыше правового регулирования в качестве первичных элементов выступают средства бесконфликтного существования, связанные с разными способами обоснования и убеждения членов группы, социума в необходимости следования правовым правилам с целью наиболее справедливого и счастливого существования. Тем не менее юридический конфликт изначально предполагается как неизбежное зло, которое возникает в силу объективных причин (прежде всего, из-за несовпадения в интересах и взглядах на устройство общества), однако должно определенным образом упорядочиваться само по себе, вводиться в такое русло, когда конфликтная ситуация позволяет восстановить некоторый баланс во взаимоотношениях либо вовсе обогатить возможные ситуации в будущем некими новыми моментами, которые были выявлены в ходе конфликта и получили должную оценку и разрешение. Вместе с тем следует исходить из того, что изначально сами по себе действия тех или иных лиц, вступающих в правовые отношения, в большинстве случаев не направлены на формирование именно конфликтной ситуации, что говорит о некоторой вторичности конфликта по сравнению с общей целью ― гармонизацией отношений в социуме.
Юридическая конфликтология как научная дисциплина стала формироваться по мере развития общей конфликтологии и применения ее методологии к проблематике юриспруденции, в синергетическом единстве с частными методами правовой науки. Развитие непосредственно зарубежной конфликтологии условно можно разделить на два этапа, на первом из которых (50–70-е гг. прошлого века) происходило ее формирование, связанное с исследованиями конфликта как объекта социологического исследования, его причин и функций (Дж. Бернард, Р. Дарендорф, Л. Козер), с попыткой создания соответствующей теории (К.Е. Боулдинг, Л. Крисберг). На втором этапе в фокусе внимания ученых оказываются вопросы разрешения и предупреждения конфликтов (Дж. Бертон, Р.Дж. Фишер). Необходимо также отметить обращение к проблеме конфликтов представителей постмодернистской философии, среди которых особенно выделяется Ж.-Ф. Лиотар, утверждавший, что основным императивом политики является создание сообществ, в которых уважается целостность различных сообществ, основанных на гетерогенности, конфликтах и разногласиях. Общая теория социальных конфликтов, несмотря на ее противоречивость, определила отношение западной науки к проблеме сущности, разрешения и роли юридических конфликтов в жизни общества. Так, К.Р. Санстейн, анализируя противоречия социальной эволюции, отметил особую роль закона и суда в преодолении конфликтов и обеспечении бесконфликтного сосуществования граждан.
Отечественная конфликтология и соответственно юридическая конфликтология формируются, по существу, в 1990-е гг., так как советская идеология отрицала конфликтогенность как черту советского общества и соответственно рассматривала конфликтологию в качестве буржуазной науки. Большой вклад в развитие теории юридического конфликта внес В.Н. Кудрявцев, который в соавторстве выпустил серию монографических работ по данной тематике.
В.Н. Кудрявцев рассматривает юридический конфликт как «противоборство субъектов права в связи с применением, нарушением или толкованием правовых норм. Можно сказать, что это ― наиболее цивилизованная форма противоборства». Данная позиция находит свое развитие в работах иных авторов. В частности, В.М. Баранов уточняет, что юридический конфликт характеризуется возможностью предотвращения, приостановления, прекращения, разрешения конфликта юридическими средствами и с помощью юридических процедур. Юридический конфликт в нормативистском ключе рассматривает Д.В. Богданов, интерпретируя его как социальный конфликт в сфере общественных отношений, урегулированных нормами права. Значительный научный интерес представляет разграничение Т.В. Худойкиной юридического конфликта в узком (чисто юридическом) и широком смысле (как социального конфликта с юридическими элементами).
В остальном внимание отечественных правоведов сосредотачивается в большей мере на отдельных вопросах проблематики юридических конфликтов, в частности, С.В. Судакова посвятила свое исследование разрешению конфликтов, а М.М. Васягина рассмотрела особенности профилактики конфликтов. В целом такая ситуация с изучением юридических конфликтов сохраняется до настоящего времени.
Цель статьи состоит в формировании научно обоснованных знаний о сущностных чертах и природе юридического конфликта на базе феноменологической методологии.
Методологически статья основана на феноменологических идеях К. Коссио о влиянии правовых ценностей на интенциональность и интерсубъективность правового бытия и на феноменологической концепции правовой жизни М.И. Пантыкиной.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Понятие юридического конфликта
Конфликтогенность развития социума, благодаря исследованиям современных гуманитарных наук, можно считать аксиоматичным утверждением. Несмотря на ценностную ориентацию общества на конструирование бесконфликтного сосуществования, как показывает ретроспективный анализ социальной эволюции, достижение конвенционального согласия зачастую является результатом преодоления социального конфликта [5].
Многие социальные конфликты перерастают в правовые, поскольку большая часть общественных отношений обусловлена влиянием права [6]. В процессе социального развития возникают такие «поля конфликта», как несоответствие уровня правосознания людей реалиям имеющихся правовых отношений; противоречие между новыми правовыми идеями и устаревшими элементами правоотношений; столкновение между ценностными ориентациями и формальными требованиями законодательства и т.д. Особенно остро конфликтогенность проявляется в транзитивных обществах. Транзитивность во многом подтачивает основания для гармоничного правового регулирования по той причине, что нормативы становятся размытыми либо слишком часто претерпевают изменения, либо наоборот правила вовремя не совершенствуются, что приводит к потере определенности, дезориентации субъектов в плане ожиданий, которые они связывают со вступлением в правовые отношения [7]. Также при транзитивности может утрачиваться и стабильность правоинтепретационной деятельности. В итоге резко актуализируются основания для возникновения юридических конфликтов.
Следует различать правовой и юридический конфликт. Хотя оба являются разновидностями социального [8, с. 76], они связаны с различными аспектами правового бытия. Если правовой конфликт касается любых противоречий в правовой реальности, то юридический связан исключительно с позитивным правом [9].
Юридический конфликт ― это противоречие между субъектами права в связи с реализацией, применением, нарушением или толкованием норм позитивного права, вызванное противоположностью социально-правовых интересов субъектов или их разным отношением к нормам права и ценностям общественной жизни. Эти различия, составляющие предмет юридического конфликта, могут возникать на гносеологическом уровне в связи с различным пониманием сущности нормы или ее применения; на онтологическом уровне из-за противоречий в реализации нормы, в правовом поведении субъекта и правовом взаимодействии между несколькими субъектами; на аксиологическом уровне при различных ценностных ориентациях субъектов.
Так, юридический конфликт гносеологически может основываться на разных интерпретациях правил поведения, их целей и используемых правовых средств. В связи с этим у субъектов может возникнуть ложное представление о путях удовлетворения своих интересов, которое входит в прямое противоречие с интересами контрагентов. Более того, юридический конфликт может носить несколько искусственный характер в том случае, если субъекты артикулируют свои интересы под воздействием манипуляции, ложно внушенных целей. Аргументы к здравому смыслу и поиску запасных ситуаций для реализации интересов или к переосмыслению своих интересов могут не работать, особенно в отношении не способных к серьезной рефлексии субъектов [10].
Легальные дефиниции юридического конфликта как таковые в законодательстве не встречаются. Тем не менее в Конституции РФ1 и законодательстве можно встретить указания на «особые юридические состояния», на основания конфликтогенных ситуаций. В частности, встречается понятие конфликта интересов (например, в ст. 10 Федерального закона «О противодействии коррупции»2).
Юридический конфликт может онтологически базироваться на противоречиях между установленными нормами позитивного права,предписаниями и представлениями о необходимом и возможном поведении. Право и его составляющие становятся препятствием на пути реализации тех или иных целей. В итоге субъект пытается выйти за рамки правомерного поведения, нарушает требования нормы, что вызывает протест и ответную реакцию со стороны других субъектов, включенных в правовые отношения или даже правовые взаимодействия, которые представляются более широкой категорией, отражающей правовые связи субъектов. Крайним онтологическим выражением юридического конфликта является правонарушение [11]. Несмотря на разницу в понимании причин и оснований юридического конфликта в среде профессиональных юристов и представителей криминального мира, действующее законодательство дает возможность устранения такого конфликта путем неких взаимных уступок, в частности, путем использования упрощенного производства (например, в гл. 32.1 Уголовно-процессуального кодекса РФ3). Тем самым учитываются взаимные интересы, несмотря на очевидный их антагонизм.
Аксиологически юридический конфликт может основываться на разных представлениях о том, какие ценности лежат в основе тех или иных общественных отношений, либо на разной интерпретации одних и тех же ценностей. Причем мы ведем речь не только о чисто правовых ценностях, таких как формальное равенство или приоритет закона в правовом регулировании, но и о тех социально-культурных ценностях, оказавшихся в эпицентре юридического конфликта [12, p. 26]. Это может быть как столкновение ценностей в разрезе частного и публичного права, так и столкновение между ценностями чисто частными или между чисто публичными. Эскалация юридического конфликта при акцентировании именно ценностной коллизии носит более глубокий и непримиримый характер и имеет меньше шансов на такое разрешение конфликта, которое может удовлетворить интересы всех участников конфликтного отношения. Это в первую очередь происходит потому, что в таком конфликте существенное значение начинает играть иррациональная сторона, связанная с укоренившимся убеждением в исключительной правильности позиции в конфликте именно для данной стороны. Конечно, любой конфликт связан с субъективной экспликацией сторонами его содержания, однако концентрация особого внимания вокруг ценностных начал усиливает его динамику. Большую роль при этом играет целеполагание участников конфликта, их потенциальная готовность к его разрешению не только на основе принуждения, но и посредством достижения компромисса, в т.ч. с помощью посредника, т.е. лица, не вовлеченного в конфликт и облеченного доверием сторон и социальным статусом для осуществления примирительных действий. В качестве такового могут выступать судья, медиатор, арбитр, решения которых не только признаются участниками конфликта, но и реализуются в жизнь, восстанавливая бесконфликтное сосуществование сообщества, с которым они себя идентифицируют [13].
Достаточно непростым выглядит, к примеру, конфликт интересов собственников квартир в жилом доме и тех из них, которые сдают свое жилье в краткосрочный найм: здесь сталкиваются такие блага, как право собственника на отсутствие нарушений и злоупотреблений со стороны соседей и право собственника на сдачу жилого помещения в краткосрочный найм, что может превращаться в оказание гостиничных услуг. Конституционный Суд РФ в своем постановлении4 дал толкование указанной правовой ситуации с использованием относительно определенных понятий, которые будут оцениваться функционально в каждом конкретном случае.
Принципиально важным для юридического конфликта в собственном смысле слова следует рассматривать такое условие, как определенная степень готовности участников идти на переговоры, разбирательство третьими лицами и способность к некоторым компромиссам. Особенно это касается мультикультурных обществ, члены которых основывают свое правовое поведение на различных ценностных ориентациях или правовых системах. Потенциальная готовность к компромиссам для таких обществ является гарантией не только стабильности, но и безопасности социального развития [14, p. 158]. Однако возможна и прямо противоположная ситуация. Так, в странах Западной Африки сосуществование конкурирующих традиционных и современных юрисдикций сопровождается неуверенностью различных социальных групп в том, какой источник права будет преобладать при разрешении той или иной ситуации. Поскольку источник права оспаривается, стороны конфликта не могут доверять правовой системе в предсказуемом разрешении споров, что поощряет использование внесудебных мер [15]. Еще более острая ситуация существует в современном западноевропейском обществе, в котором все большую роль стали играть маргинализированные группы мигрантов, изначально не готовые ни к правовому, ни к культурному компромиссу с принимающим обществом. Это не просто увеличивает конфликтогенность социума, но и повышает криминогенную ситуацию [16].
Отсутствие указанных выше условий может свидетельствовать о том, что реально имеет место использование юридического конфликта для обострения ситуации, давления на участников, что в конечном счете исключает достижение основных целей, а именно гармонизации правовых взаимодействий. Поскольку основная правовая цель при этом не достигается, квалификация подобного рода действий и установок не может быть связана с юридическим конфликтом. В этом смысле юридический конфликт нельзя рассматривать как нечто из ряда вон выходящее: это такое явление, которое обусловлено комплексом факторов, среди которых выделены как субъективные, так и объективные.
Признаки юридического конфликта
В целом юридический конфликт может быть проанализирован диалогически. Диалогическая теория права основывается на ряде положений неклассической философии и предполагает рассмотрение правовых взаимодействий через призму диалога в широком смысле ― как учета Другого в своих интеракциях. При этом, как отмечается, диалогическая теория может в настоящий момент рассматриваться как постклассическая, поскольку разделяет исходные пункты постклассики.
К последним, в частности, может быть отнесен принцип взаимной дополнительности в плане использования соответствующих средств исследования и оценки социального бытия, а применительно к конфликту ― при осмыслении его причин, структуры и пр. В связи с этим обратим внимание на ограниченность формально-юридического анализа юридического конфликта исключительно через интерпретацию нормативных предписаний. Очевидно, что весьма большой блок правореализации составляет внутренняя сторона психической человеческой деятельности, которая обуславливает выбор субъектом тех или иных вариантов правового поведения. Кроме того, указанный выбор обуславливается не только правовыми установками и мотивациями, сформированными в рамках индивидуального правового опыта человека, но и средствами неформального правового регулирования общественных отношений, преобладающими в данном обществе в той или иной конкретно-исторической ситуации.
С обозначенными нами положениями также смыкаются такие базовые принципы постклассической науки, как человекоцентризм и интерсубъективность [17]. Юридический конфликт не может рассматриваться вне контекста человеческой деятельности и человеческого сознания. Реальность не может существовать вне бытия человека и рефлексии этого бытия в сознании [18, с. 47]. Речь при этом может идти не только о современной индивиду правовой реальности, но и историко-правовой. Конфликт формируется и проявляет себя не как столкновение абстрактных социальных групп, а как коллизия интерпретаций группами (индивидами) своих интересов и путей их удовлетворения с учетом возможных правовых средств и с потенциальной возможностью обхода этих средств. Причем обход правовых средств может происходить путем выбора противоправных вариантов поведения с надеждой на возможность скрыть эту противоправность, либо через использование неформальных средств правового или иного социального регулирования (как с противоречием предписаниям позитивного права, так и без оного), либо в качестве выхода предполагается уход от проблемы, с признанием невозможности удовлетворения интереса легальным правовым путем. Юридический конфликт в связи с этим представляет собой сложную систему, включающую внешнюю и внутреннюю стороны, при доминировании первой. Более того, не стоит не учитывать также иррациональные мотивы, касающиеся борьбы за статус, репутацию либо связанные с внутренним неприязненным состоянием личности. Эмоциональное состояние личности прямым образом оказывает воздействие на решение о вступлении в конфликт, его эскалации или сворачивании, а также о выходе из юридического конфликта. В этом плане достижение абсолютной объективности в оценке юридического конфликта есть утопическая вера в поиск объективных интересов, которые осознает или не осознает субъект. Однако формулирование интересов и их интерпретация происходит исключительно интерсубъективно, в рамках соответствующих взаимодействий субъектов, в том числе путем навязывания, прямой пропаганды того или иного стиля жизни, обусловленной необходимостью рекламы и сбыта товаров, идеологическими постулатами, задачами политической элиты по социальному конструированию правовой и социальной реальности и пр. Объективность интереса теряется в задаваемых обществом и отдельными социальными группами нарративах. Задача же правоприменителя или посредника, разрешающего юридический конфликт, будет заключаться в том, чтобы определить суть столкновения интересов ситуативно, исходя из социально-культурного и исторического контекста. Марксизм, как элемент классической науки, на самом деле предлагал определенную идеологическую установку в плане определения интересов соответствующих социально-экономических классов, с отрицанием практически всех неэкономических факторов в развитии юридических конфликтов. В свою очередь, это привело к практически полному непониманию закономерных черт собственного общества к концу 1970-х и началу 1980-х гг. (констатацию этого факта обычно связывают с именем главы СССР Ю.В. Андропова) [19]. Тем не менее привычка к формулированию истинно объективных интересов сохраняется до сих пор, способствуя схематизации и упрощению в исследовании юридических конфликтов.
Интерсубъективность также задает ментальную структуру конфликта, то есть его видение субъектами, как непосредственными участниками, так и тем, кто занимается разрешением данного конфликта. Несмотря на закрепление принципа независимости судебной власти, объективности и беспристрастности судебного разбирательства, представляется очевидным, что эти принципиальные положения служат в своем роде идеально сконструированной целью, нравственным и правовым ориентиром, который не может быть достигнут во всей своей полноте. На это обращали внимание представители реалистической школы права, а также иные ученые, исследовавшие феномен судебной власти. Кроме того, целый ряд соображений по данному поводу в свое время высказывал известный адвокат А.Ф. Кони, указывавший на множество факторов, влияющих на мотивы судьи при принятии того или иного решения [20].
Социальная конструируемость правовой реальности как элемент постклассической науки также находит отражение в юридическом конфликте: его причины, протекание, а также завершение могут задаваться соответствующими представлениями участников, которые находят адекватное или неадекватное выражение в правовом поведении.
Юридический конфликт предстает как протяженное во времени явление, которое характеризуется такими чертами постклассической науки, как процессуальность и динамичность, а также релятивизм. Собственно, релятивность юридического конфликта зависит как от развития ситуации, деяний субъектов конфликта, так и интерпретации их действий со стороны правоприменителя. Примером тому может служить соотношение институтов находки и кражи, по которому соответствующие правовые позиции высказал Конституционный Суд РФ5.
Юридический конфликт характеризуется определенными признаками, отграничивающими его от других видов социальных конфликтов, а именно:
- Объективно-субъективный характер конфликта, противоречие между объективно существующей нормой или ценностью и их интерпретацией субъектом. В некоторой степени мы можем даже обозначить интерсубъективность как признак юридического конфликта: в силу достаточной доли релятивизма в понимании правовых норм, их правоинтерпретаций, которые вряд ли могут претендовать на достижение одного «правильного» варианта понимания (за исключением прямого официального установления в сочетании с принуждением, что являет собой силовой, но нисколько не научный аргумент), конфликтогенность во многом есть плод оценок разных субъектов, чья авторитетность и вес различаются в силу различий в правовых статусах. Именно разность таких потенциалов в конечном счете и позволяет сформироваться пониманию сути юридического конфликта применительно к данной ситуации, что может определенным образом варьироваться при оценке схожего по структуре юридического конфликта. Кроме того, коллизионность системы права, увеличивая интерпретативные потенции субъекта, одновременно увеличивает правовую конфликтогенность общества.
- В ситуации юридического конфликта субъекты не могут реализовать свои правовые интересы.
- Релятивность в определении основных смыслов юридического конфликта как в плане осмысления соответствующих интересов и путей их реализации, так и в плане интерпретации содержания норм позитивного права, к которым апеллируют стороны.
- Процессуальность конфликта, его протяженность во времени и наличие причинно-следственных связей между действиями субъектов на различных стадиях конфликта и трансформацией правовой реальности.
- Юридический конфликт является социальным явлением, отражающим аномию в развитии общества, связанную с правовой неопределенностью. Конфликт ― это объективно возникающие противоречия между субъектами, мешающие им осуществлять свои интересы и приводящие к кризису общественных отношений. Преодоление конфликта увеличивает правовую определенность и способствует гармонизации правовой и социальной реальности. Если наличие юридического конфликта свидетельствует о фрагментации правовой реальности, то его преодоление будет вести к дефрагментации, а в конечном счете ― гармонизации правовой реальности.
Близкой юридическому конфликту категорией выступает юридическая коллизия. Однако в отличие от первого последняя представляет собой лишь противоречие в правовом регулировании одних и тех же отношений разными нормами, т.е. коллизия сама по себе может породить юридический конфликт либо остаться таковой без реального конфликта.
Структура юридического конфликта
Для возникновения юридического конфликта необходимо, во-первых, наличие конфликтной ситуации, характеризующейся нарушением или препятствием в реализации субъектом своих законных интересов; во-вторых, осознание субъектами противоположности своих интересов и целей; в-третьих, вступление субъектов в активное противодействие друг другу. Разрешение юридического конфликта должно привести к достижению социального компромисса в правовом взаимодействии и способствовать гармонизации правовой реальности.
Структура юридического конфликта может быть представлена единством четырех компонентов: объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона.
В широком смысле объектом юридического конфликта следует считать общественные отношения, различие в интерпретации которых приводит к противостоянию субъектов права. Содержание объекта раскрывается через категорию предмета ― социально-правовое противоречие, которое ведет к противостоянию конфликтующих сторон и может быть разрешено (преодолено, прекращено) правовыми средствами.
Предмет юридического конфликта раскрывается через его функции, в числе которых можно выделить как общие, детерминированные основной интенцией правового регулирования, так и специфические, связанные непосредственно с динамикой конфликта.
Как известно, принято выделять две основные собственно юридические функции права ― регулятивную и охранительную [21, с. 189]. Возможно, конкретная норма права может и не закреплять одновременно регулятивные и охранительные правовые средства, однако в идеальном выражении она сочетает в себе регуляцию и охрану. Это говорит о том, что данная норма права или, как правило, некий целостный правовой институт рассчитаны на то, чтобы упорядочить отношения на бесконфликтном уровне, но при этом предполагают возможность юридического конфликта, что в свою очередь обуславливает необходимость закрепления охранительных правовых мер. Другое дело, что в силу сложности и неоднозначности вопроса о структуре нормы права порой возникает ситуация, когда меры правовой охраны прикрепляются к данному правилу бланкетно, что в общем говорит о структурном разнообразии при функциональной стабильности. Типичным примером может служить ст. 23 Федерального закона об ограничения курения табака6.
Некоторые правовые институты изначально вообще нацелены на охранительное регулирование, что тем не менее не отрицает тот факт, что само по себе их существование вне регуляции теряет какой бы то ни было смысл. Кроме того, охранительный правовой институт не может быть не связанным с собственной регуляцией: для реализации мер правовой охраны необходимы соответствующие регулятивные инструменты, касающиеся гарантий, специфических прав и обязанностей сторон и пр. Усложнение мер охраны приводит к тому, что число таких инструментов прямо пропорционально возрастает. Сказанное позволяет нам утверждать как о нераздельном существовании регуляции и охраны в единой системе, что, в свою очередь, дает возможность говорить о вплетении юридического конфликта в ткань правовой материи как в потенциальном плане, в виде определенной возможности, и как реального правового явления, которое в конечном счете должно привести к реализации основной цели права, а именно гармонизации общественной жизни, достижению баланса в согласовании интересов субъектов, удовлетворению ожиданий, с которыми субъекты связывают свое вступление в правовые отношения. Как особая форма социального конфликта юридический конфликт, по справедливому утверждению Т.В. Худойкиной и Н.А. Новиковой, выполняет не только негативные, но и позитивные функции, реализация которых способствует социальному прогрессу [22]. При этом государство, стремясь сформировать бесконфликтную ситуацию, соответствующую не только правовым, но и политическим целям, выступает в роли социального инженера.
Исходя из этого, можно выделить три специфические функции юридического конфликта, которые опосредованы его социально-правовой природой: экспликация деформации правовой реальности; выявление действительных пробелов и коллизий в правовом регулировании, а также нормативного, функционального, ценностного и (или) социального несоответствия юридических норм правовой реальности; корректировка воздействия юридических норм на правовую реальность, стимулирование ориентации субъектов права на совершение действий, которые показали свою эффективность для развития и функционирования правовой реальности, и запрет действий, влекущих за собой деформацию и (или) дисфункциональность правовой реальности.
Субъектами юридического конфликта могут быть любые участники правового взаимодействия как индивидуально, так и коллективно. При этом следует иметь в виду, что реальный юридический конфликт, предполагающий вступление в правовое отношение, может включать в качестве субъектов только тех лиц, которые обладают дееспособностью, хотя бы частичной или ограниченной. Лица недееспособные и лишенные дееспособности самостоятельно включаться в юридический конфликт не могут.
При этом правовой статус субъектов, участвующих в конфликте, должен учитываться с позиций соотношения типов регулирования, характерных для частного и публичного права. Субъект публичного права не должен выходить за рамки своих полномочий, тогда как обычное физическое или юридическое лицо имеет право совершать действия, не запрещенные законом. Баланс частных и публичных интересов с учетом вопроса о добросовестности приобретения жилого помещения, когда такая сделка была зарегистрирована в соответствующих органах государства, к примеру, был разрешен Конституционным Судом РФ в пользу физического лица, с защитой частного интереса7.
Объективная сторона юридического конфликта эксплицируется в особенностях правовой коммуникации субъектов. При вертикальной коммуникации конфликт связан с противоречием в интерпретации правовой информации субъектами, имеющими различия в социальной иерархии. Так, трансляция адресантом правовой информации, в содержании которой не учтены интересы адресата, влечет за собой противоборство последнего в ее реализации, которое может носить как вербальный, так и функциональный характер. При горизонтальной коммуникации ситуация более сложная. Будучи равными по социальным ролям, субъекты могут иметь противоречия в интерпретации правовой информации, которые обусловлены индивидуальным правовым опытом. Говоря об объективной стороне юридического конфликта, необходимо учитывать, с одной стороны, юридические и социокультурные факторы, которые могут повлиять на возникновение, динамику и разрешение конфликта, а с другой ― имеющиеся в правовой системе средства возможного разрешения конфликтной ситуации, среди которых можно обозначить судебные и административные процедуры, переговоры, посредничество (трудовой арбитраж, медиацию).
Социально-правовое противоречие может носить не только объективный, но и субъективный характер. Возникновение конфликта возможно как при наличии спорного юридического факта, так и в ситуации различий в нормативной, ценностной или функциональной интерпретации факта участниками правовой коммуникации, что выражается в субъективной стороне юридического конфликта. Речь при этом идет не только о наличии в сознании субъектов разной системы норм и ценностей, но и об их готовности защищать свои интересы правовыми средствами. Среди стратегий разрешения конфликтной ситуации можно обозначить сотрудничество, компромисс и приспособление.
Динамика юридического конфликта
Будучи сложным динамичным социальным процессом, юридический конфликт не только предполагает определенную протяженность во времени, но и позволяет выявить ряд этапов (стадий), различающихся по содержанию. Солидаризируясь с позицией П.А. Астахова, что юридический конфликт проходит ряд последовательных стадий [23], мы считаем, что развитие конфликтной ситуации включает в себя не только собственно конфликтное правоотношение, но и ситуацию, предваряющую конфликт, а также действия субъектов по завершении непосредственных противоречий. Исходя из этого, можно выделить пять стадий развития конфликта:
1) предконфликтная стадия;
2) стадия претворения юридического конфликта в специфические правовые отношения;
3) стадия развития конфликта;
4) стадия разрешения конфликта;
5) постконфликтная стадия. Необходимо отметить, что динамика конфликта является модельной. На практике могут существовать конфликты, в которых какая-либо стадия отсутствует или, напротив, повторяется.
Первая стадия связана с возникновением конфликтной ситуации, появлением противоречий между субъектами по поводу реализации своих правовых интересов. Наличие противоречия выступает объективным фактором конфликтогенности. Однако это еще не означает наступления конфликтной ситуации. Для этого необходимо осознание данной ситуации субъектами, что будет являться субъективным фактором. При этом субъект должен не только понимать потенциальную возможность разрешения противоречия, но и стремиться своими действиями к достижению данного результата. На этой стадии возможны два варианта разрешения противоречия: либо действия субъекта приводят к достижению компромисса и способствуют усилению правовой определенности, либо, напротив, приводят к углублению противоречия и правовой неопределенности, что сопровождается переходом конфликтной ситуации на следующую стадию.
Для первой стадии характерно наличие правовых отношений, в которых субъекты состоят, тогда как именно в рамках этих правоотношений те или иные противоречия и вызревают. В связи с этим возникает вопрос, а может ли юридический конфликт формироваться вне рамок правоотношений? Если мы говорим о реализации норм позитивного права, то основным каналом их правореализации были и остаются именно правовые отношения. Тем не менее мы допускаем, что юридический конфликт может зарождаться и вне правового отношения как такового. В частности, это может быть общественное отношение экономического характера, когда стороны только занимаются согласованием условий по возможному в будущем договору. В каких-то случаях, когда речь идет о хозяйствующих субъектах, это происходит в рамках правоотношений. Однако вполне возможна ситуация и с их отсутствием. Соответственно, преддоговорный конфликт об условиях перерастет уже в юридический конфликт, с рассмотрением дела в суде. Кроме того, существует феномен «фактических» правоотношений, или правоотношений, которые фиксируются в таком случае позднее, ретроспективно. В качестве примера можно назвать защиту так называемого законного интереса, который подлежит защите судом, но только при условии, что обладатель такого интереса обоснует его законный характер. Таким образом, в этом случае юридический конфликт вызревает опять-таки вне традиционных правовых отношений.
На второй стадии происходит возникновение специфических конфликтных правоотношений. Конфликт становится очевидным не только для его участников, но и третьих лиц, в т.ч. тех, кто потенциально может выступить посредником в разрешении конфликта. Примером может служить обращение к медиатору. Стремясь придать своему решению авторитетный характер, посредник действует не только в правовом поле, но и принимает решение на основе нормы права, выступающей в данном случае инструментом разрешения конфликта [24, p. 356] и конструирования бесконфликтной ситуации.
Здесь следует сделать оговорку об относительности представлений о возможном и должном, релятивности представлений о норме в зависимости от принадлежности к той или иной социальной группе или социуму. Хотя мы рассматриваем юридический конфликт как противоречие на основе норм позитивного права, следует учитывать, что редко конфликт формируется исключительно по поводу предписаний законодательства. Очевидно, что каждый субъект имеет некоторый предрассудок, некое базовое представление о возможном и должном, которое обусловлено его индивидуальным правовым опытом ― в своем роде интуитивное право, которое выделял еще Л.И. Петражицкий. Порой субъект обращается к нормам позитивного права только при возникновении взаимного противодействия. Кроме того, существенное влияние на интерпретацию норм позитивного права, а также пути реализации собственных интересов могут оказать правовые архетипы сознания. Сказанное характерно в большей степени для семейных конфликтов, хотя может коснуться трудовых правоотношений и гражданско-правовых обязательств. И поэтому именно на второй стадии юридического конфликта следует обращать внимание не только на предписания позитивного права, но и на обозначенные нами сопутствующие факторы, способные повлиять на разрешение конфликта, особенно в случае привлечения посредника, в задачу которого входит именно достижение компромисса, примирение, с учетом всех установок, с которыми стороны входили в состояние юридического конфликта. Это предполагает понимание не только самой конфликтной ситуации (пространства конфликта), но и социальной реальности в целом, в т.ч. как повлияет разрешение конфликта на правовую коммуникацию участников конфликта и лиц, с которыми они взаимодействуют [25].
Третья стадия эволюции конфликта связана с рассмотрением конфликтного правоотношения в юридической инстанции, которая выступает как посредник в урегулировании конфликтной ситуации. Речь идет о поиске причин и способов достижения бесконфликтной ситуации, которая должна стать конвенциональным результатом взаимодействия конфликтующих субъектов, достигнутым на основе посредничества правоприменительных органов. Примером может служить судебное следствие и судебные прения, в процессе которых не только происходит поиск истины, но и определяются пути разрешения конфликта, при которых существует возможность достичь максимального удовлетворения интересов всех конфликтующих субъектов [26, p. 18].
На четвертой стадии происходит разрешение юридического конфликта. Это не только означает преодоление конфликтной ситуации и восстановление нарушенных прав или законных интересов субъектов, но и оформление решения официального посредника разрешения конфликта с помощью индивидуального правового акта, который влечет юридические последствия не только для субъектов конфликта, но и иных лиц с ними связанных. Однако это не всегда означает прекращение конфликта. Закон предусматривает возможность обжалования, например, судебного решения, что может означать возвращение не только к третьей, но даже второй стадии конфликта. Кроме того, вероятен переход к пятой стадии, связанной как с онтологическим, так и аксиологическим преодолением конфликта.
Возможность действий на третьей и четвертой стадии юридического конфликта не только его непосредственных субъектов, но и посредников, облеченных официальными полномочиями, позволяет говорить об управляемости конфликтной ситуацией. Благодаря участию правоприменителя разрешение отдельного конфликта, носящее ситуативный характер, приобретает целенаправленность в контексте общей правоприменительной деятельности.
Пятая стадия юридического конфликта направлена на ликвидацию всех имеющихся противоречий между субъектами и нормализацию отношений между ними. Конечным итогом должно стать усиление правовой определенности, достижение бесконфликтного сосуществования субъектов и гармонизация правовой и социальной реальности. При этом возможно несколько вариантов развития ситуации:
1) субъекты осознают невозможность дальнейшего развития конфликта и в равной степени соглашаются на правовую коммуникацию на основе достигнутого на предыдущей стадии компромисса;
2) разрешение конфликта лишь на онтологическом уровне, когда субъекты в своих поведенческих актах осуществляют бесконфликтную правовую коммуникацию при сохранении противоречивых ценностных ориентаций, т.е. конфликт переходит на латентный уровень;
3) несмотря на разрешение конфликта на четвертой стадии, одна или обе стороны не согласны с достижением бесконфликтного сосуществования не только аксиологически, но и онтологически, и в этой ситуации поведение субъектов по-прежнему носит конфликтный характер.
Особое значение как в плане научного анализа, так и в практическом измерении приобретает также вопрос о том, какие иные правовые регуляторы учитывались сторонами конфликта в рамках правоотношений или на стадии вызревания и вхождения в юридический конфликт. Хотя последний внешне возникает на основе норм позитивного права, тем не менее проблема с потенциальным применением неофициального, неписаного социального права параллельно или порой в противоречии с нормами позитивного права сохраняет свою актуальность ― и в особенности в российской правовой реальности, которая характеризуется обозначенной выше транзитивностью. Неофициальное право может существенно преобразовывать правовые отношения на основе позитивных норм: возможна определенная поддержка норм официального права правом неофициальным, и тогда конфликта можно избежать. Либо официальное право используется для прикрытия реально складывающихся неформальных взаимоотношений: в этом случае сердцевина конфликта будет пребывать вне позитивного права, но им маскироваться. Возможна и та ситуация, когда для реализации неофициального права потребуется создать некий фиктивный юридический конфликт и наказать виновников с помощью норм позитивного права ― если они нарушили неформальные регуляторы.
Типология юридического конфликта
Разработка единой типологии юридического конфликта осложнена его природой и множеством факторов, определяющих его содержание и динамику. Это обуславливает необходимость отказаться от единого критерия классификации и сформировать многоуровневую типологию, которая не только позволит максимально охватить различные проявления конфликтных ситуаций в социально-правовой сфере, но и позволит разработать наиболее оптимальные средства профилактики и разрешения конфликтов.
Исходя из особенностей субъектного состава, юридические конфликты можно типологизировать по количеству участников и по их месту в правовой коммуникации.
Во-первых, конфликты можно разделить на индивидуальные (в которых участниками являются отдельные лица) и групповые (участниками которых являются реальные и (или) номинальные социальные группы, независимо от их численности). Возможен также смешанный характер конфликта, в случае когда один из субъектов имеет индивидуальный характер, а второй ― коллективный. В последнем случае конфликтогенность в значительной степени обусловлена различием содержания и понимания индивидуальной и социальной (групповой) справедливости [27], с одной стороны, и традиционным противоречием в интерпретации соотношения права (закона) и справедливости [28] ― с другой. При этом большую роль в конфликтогенности общества играют его культурные особенности, в т.ч. ценностная ориентация идентичности. Чем больше идентичность не только социокультурно, но и пространственно и темпорально носит плюральный характер, тем ниже степень конфликтогенности социума [29, p. 26].
Во-вторых, конфликты можно классифицировать по характеру правовой коммуникации на вертикальные и горизонтальные. В первом случае субъекты имеют различный правовой статус: один из них выступает адресантом правовой коммуникации и имеет большие основания на производство, трансляцию и интерпретацию правовой информации, а второй адресатом, лишь потребляющим правовую информацию. При горизонтальном конфликте оба субъекта имеют равный статус. Однако речь может идти как о конфликте адресантов, например, связанном с созданием новой нормы права в процессе правотворчества, так и о конфликте адресатов.
В-третьих, конфликты можно классифицировать по способу разрешения на непосредственные и опосредованные. В первом случае разрешение конфликта осуществляется самими субъектами в правовом поле. В последнем случае разрешение конфликта возлагается на посредника.
С точки зрения субъективной стороны правового поведения сторон конфликтного отношения юридический конфликт может носить разный характер. Во-первых, конфликт может быть непреднамеренным, когда стороны специально не ставили задачу вступления в противоборство, но к этому их вынудили обстоятельства. Во-вторых, конфликт может носить умышленный характер. В частности, для осуществления рейдерского захвата имущества порой инициируется внешне формально обоснованный юридический конфликт, который, однако, используется как средство для достижения специфических целей ― поставить контрагента в такие условия, когда он будет согласен принять все предъявляемые к нему требования. В-третьих, конфликт вообще может быть фиктивным, искусственно созданным, опять же с целью достижения неких правовых целей ― к примеру, при фиктивном разводе для получения неких финансовых или организационных выгод.
ВЫВОДЫ
Таким образом, юридический конфликт ― это противоречие между субъектами права в связи с реализацией, применением, нарушением или толкованием норм позитивного права, вызванное противоположностью социально-правовых интересов субъектов или их разным отношением к нормам права и ценностям общественной жизни. Проведенная в статье феноменологическая редукция юридического конфликта позволила акцентировать внимание на экзистенциальных аспектах этого явления, определить не только действительную и потенциальную интенцию действий его субъектов, но и выявить трансцедентальную роль конфликта в правовом бытии человека и общества. Несмотря на ярко выраженный внешне ориентированный характер, юридический конфликт в смысле анализа его причин и истоков, предмета и динамики развития носит интерсубъективный характер, и оценка его элементов достаточно релятивна, что обуславливает необходимость при разрешении и (или) профилактике конфликта учета не только содержания конфликта, но и внутренней мотивации, ценностных установок участников, которые во многом предопределяют его существо и потенциальную возможность разрешения. Хотя конфликтогенность является одним из естественных состояний общества, наличие неразрешенных юридических конфликтов свидетельствует о высокой степени правовой неопределенности. Преодоление конфликтов ведет к гармонизации правовой реальности в форме дефрагментации. Однако это предполагает необходимость наличия в обществе ценностных ориентаций на потенциальную готовность к совершению действий не только конфликтного, но и компромиссного характера. Государство как единственный легитимный представитель интересов всего общества должно не только создать условия для бесконфликтного развития социума, но и предусмотреть в законодательстве механизм разрешения правовых конфликтов, направленный на повышение эффективности правового регулирования, безопасность сосуществования граждан и гармонизацию правовой реальности в целом.
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru, 06.10.2022.
2 Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 19.12.2023) «О противодействии коррупции» // Собрание законодательства РФ. 29.12.2008. № 52 (Ч. 1). Ст. 6228.
3 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 14.02.2024) // Собрание законодательства РФ. 24.12.2001. № 52 (Ч. 1). Ст. 4921.
4 Постановление Конституционного Суда РФ от 23.03.2023 № 9-П «По делу о проверке конституционности части 3 статьи 17 Жилищного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина П.Е. Бахирева» // Собрание законодательства РФ. 03.04.2023. № 14. Ст. 2547.
5 Постановление Конституционного Суда РФ от 12.01.2023 № 2-П «По делу о проверке конституционности статьи 227 Гражданского кодекса Российской Федерации, части первой и пункта 1 примечаний к статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, статей 75, 87 и 88 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан А.В. Галимьяновой и В.С. Пузрякова» // Собрание законодательства РФ. 23.01.2023. № 4. Ст. 697.
6 Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ (ред. от 24.07.2023) «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции» // Собрание законодательства РФ. 25.02.2013. № 8. Ст. 721.
7 Постановление Конституционного Суда РФ от 22.06.2017 № 16-П «По делу о проверке конституционности положения пункта 1 статьи 302 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина А.Н. Дубовца» // Собрание законодательства РФ. 03.07.2017. № 27. Ст. 4075.
Об авторах
Андрей Валерьевич Скоробогатов
Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)
Автор, ответственный за переписку.
Email: av.skorobogatov@mail.ru
ORCID iD: 0000-0001-9139-5367
доктор исторических наук, профессор, доцент
Россия, КазаньАлександр Валерьевич Краснов
Казанский филиал Российского государственного университета правосудия
Email: field08@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-9934-4975
кандидат юридических наук, доцент
Россия, КазаньСписок литературы
- Брежнев Д.М. Конфликты и компромиссы как детерминанты самоорганизации права: синергетический аспект // Ленинградский юридический журнал. 2017. № 3(49). С. 27–35. EDN: ZWHFTB
- Johnson R. What is cultural studies anyway? Social Text. 1986;16:38–80. doi: 10.2307/466285
- Devlin P. The enforcement of morals. London; New York: Oxford University Press, 1965.
- Гаджиев Г.А. Онтология права: критическое исследование юридического концепта действительности. Москва: Норма: ИНФРА-М, 2013.
- Galeotti A.E. Cultural conflicts: a deflationary approach. Critical Review of International Social and Political Philosophy. 2017. Vol. 20, N. 5. P. 537–555. doi: 10.1080/13698230.2017.1328088
- Flanagan B., Hannikainen I.R. The folk concept of law: law is intrinsically moral. Australasian Journal of Philosophy. 2022. Vol. 100, N. 1. P. 165–179. doi: 10.1080/00048402.2020.1833953
- Скоробогатов А.В., Краснов А.В. Правовая реальность транзитивного общества: дискурс и нарратив. Санкт-Петербург: Алетейя, 2024.
- Кудрявцев В.Н. Юридическая конфликтология // Вестник Российского гуманитарного научного фонда. 1996. № 1. С. 76–81. EDN: HBODQB
- Кривоносова Д.В. Юридический конфликт: теоретико-правовые основания подхода к пониманию // Юридическая наука: история и современность. 2020. № 12. С. 71–87. EDN: SUQXHW
- Fisher R.J. Third party consultation as a method of intergroup conflict resolution: a review of studies // Journal of Conflict Resolution. 1983. Vol. 27, N. 2. P. 301–334. doi: 10.1177/0022002783027002005
- Липинский Д.А., Мусаткина А.А. Правонарушение как конфликт с ценностями правовой системы // Вестник Томского государственного университета. Право. 2019. № 34. С. 5–20. EDN: YTMCEK doi: 10.17223/22253513/34/1.
- Shah P. Legal pluralism in conflict: coping with cultural diversity in law. London: Cavendish, Glasshouse, 2005.
- Eckhoff T. The mediator, the judge and the administrator in conflict-resolution. Acta Sociologica. 1967;10(1–2):147–172. doi: 10.1177/000169936701000109
- Raz J. Ethics in the public domain: essays in the morality of law and politics. New York: Oxford University Press, 1994. doi: 10.1093/acprof:oso/9780198260691.001.0001
- Eck K. The law of the land: communal conflict and legal authority // Journal of Peace Research. 2014. Vol. 51, N. 4. P. 441–454. doi: 10.1177/0022343314522257
- Коломытцев Н.А., Одинцова Л.Н. Современные проблемы преступности мигрантов в России и странах Европы // Человек: преступление и наказание. 2020. Т. 28(1–4). № 4. С. 543–551. EDN: RGLMOT doi: 10.33463/2687-1238.2020.28(1-4).4.543-551
- Честнов И.Л. Интерсубъективность права // Вестник Академии права и управления. 2015. № 2(39). С. 38–45. EDN: TSEKCV
- Павлов В.И. Категория правовой реальности в антропологической концепции права // Вестник МГПУ. Сер. Юридические науки. 2023. № 2(50). С. 43–58. EDN: CDBXKN doi: 10.25688/2076-9113.2023.50.2.04
- Полынов М.Ф. Юрий Владимирович Андропов на посту Генерального Секретаря ЦК КПСС: основные направления преобразований // Общество. Среда. Развитие (Terra Humana). 2009. № 2(11). С. 58–71. EDN: KUSPKB
- Кони А.Ф. Нравственные начала в уголовном процессе (общие черты судебной этики) // Юриспруденция. 2011. № 1(21). С. 69–94. EDN: HTMCOZ
- Байтин М.И. Сущность права (современное нормативное правопонимание на грани двух веков). Москва: Право и государство, 2005.
- Худойкина Т.В., Новикова Н.А. Функциональный анализ юридического конфликта // Проблемы современной науки и образования. 2015. № 6(36). С. 162–164. EDN: TWHZAL
- Астахов П.А. Стадии юридического конфликта // Вестник Московского университета МВД России. Юридические науки. 2012. № 4. С. 5–8. EDN: PAUIWJ
- Habermas Ju. The theory of communicative action. Boston: Beacon Press; 1981.
- Kearns T.R., Sarat A. Legal justice and injustice: toward a situated perspective. In: Sarat A., Kearns T.R., editors. Justice and injustice in law and legal theory. Ann Arbor: The University of Michigan Press; 2001. P. 1–18. doi: 10.3998/mpub.10283
- Rosen L. The Anthropology of justice: law as culture in Islamic society. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
- Binns R. On the apparent conflict between individual and group fairness. In: Proceedings of the 2020 conference on fairness, accountability, and transparency. Barcelona: association for computing machinery, 2020. P. 514–524. doi: 10.1145/3351095.3372864
- Pencak W. The conflict of law and justice in the icelandic sagas. Amsterdam: Rodopi, 1995.
- Wang Zh. Memory politics, identity and conflict: historical memory as a variable. Cham: Palgrave Macmillan, 2018. doi: 10.1007/978-3-319-62621-5
Дополнительные файлы