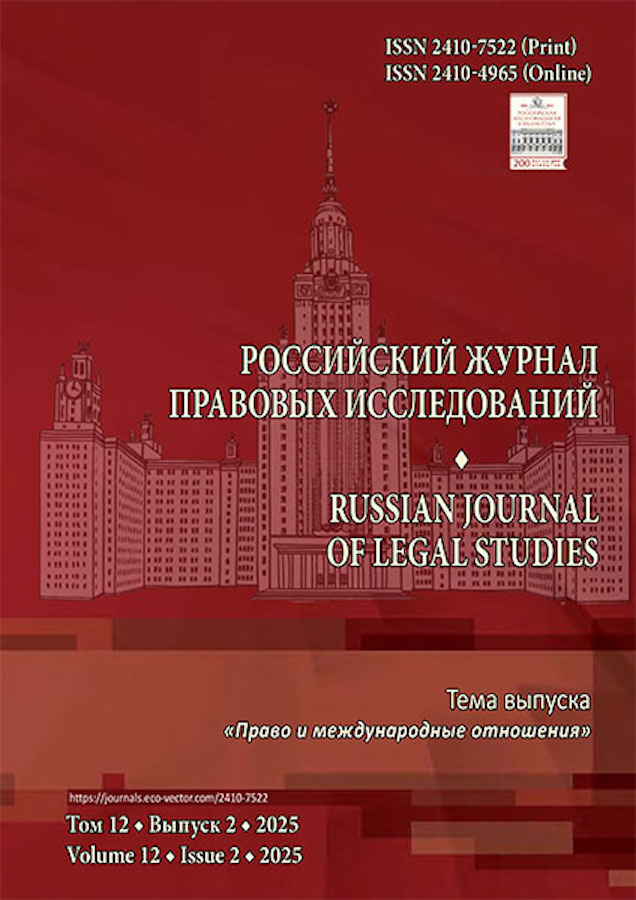Новый многополярный мир с позиций правовой аксиологии
- Авторы: Азнагулова Г.М.1
-
Учреждения:
- Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации
- Выпуск: Том 12, № 2 (2025)
- Страницы: 31-38
- Раздел: Актуальная тема
- Статья получена: 05.06.2025
- Статья одобрена: 11.06.2025
- Статья опубликована: 18.07.2025
- URL: https://journals.eco-vector.com/2410-7522/article/view/683074
- DOI: https://doi.org/10.17816/RJLS683074
- EDN: https://elibrary.ru/HUYVDM
- ID: 683074
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Концепция многополярного мира, подразумевающая формирование системы международных отношений, где несколько государств или коалиций обладают сопоставимым уровнем влияния на глобальные процессы, становится в последние годы актуальной политико-правовой доктриной. В современной научной мысли многополярность рассматривается не только как геополитическое явление, но и как фактор, требующий переосмысления правовых ценностей. В условиях формирования нового миропорядка важно исследовать, как система ценностей, лежащих в основе права (справедливость, право человека на свободу и безопасность, суверенитет и т. д.), соотносится с практикой международного и национального права, какова их роль в жизни общества с позиций правовой аксиологии. Отечественная правовая система активно интегрируется в многополярное мировое юридическое пространство. Это делает актуальным вопрос соотношения положений российского законодательства с общепризнанными принципами международного права и выдвигаемыми в миропорядке ценностями. В данной статье рассматриваются основные тенденции в переходе к многополярности, ключевые ценностные ориентиры права и их сочетание в современных глобальных преобразованиях. Обосновывается необходимость переосмысления правовых ценностей в условиях перехода от однополярной системы к многополярной. Используя гегелевскую триаду «всеобщее–особенное–единичное» для описания современной правовой реальности, автор доказывает, что гармонизация правовых систем в многополярном мире происходит через диалектическое взаимодействие этих категорий, где согласованность отдельных международно-правовых актов с общими принципами ― ключевое условие стабильности. Этот подход позволяет теоретически осмыслить интеграцию российской правовой системы в многополярное юридическое пространство.
Полный текст
ПЕРЕХОД К МНОГОПОЛЯРНОСТИ: ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ
Международное право являет собой развертывающийся в пространстве и во времени диалектический процесс единой каузальной цепи социальных явлений. Главная особенность реализации его базовых принципов, определяемых онтологически в качестве всеобщего, юридически относится к сфере долженствования в качестве нравственного долга субъективных воль суверенных государств. Принципиальная трудность установления справедливых международных отношений на основе соблюдения интересов субъектов международного общения вызвана невозможностью выработки единой и полной шкалы моральных ценностей, общих для всех государств. Поэтому общечеловеческую значимость приобретают сохранение мирового порядка, установленного после Второй мировой войны, неукоснительное соблюдение всеми государствами Устава Организации Объединенных Наций (далее ― Устав ООН) и основополагающих документов о правах человека.
Ведущей тенденцией мирового развития стала смена однополярности на многополярность. Это связано с усилением региональных интеграционных процессов и ростом политической самостоятельности государств. Переход к многополярному мирохозяйственному укладу предполагает восстановление национального суверенитета ― фундамента международного права. Принципиальным отличием новой системы стало отсутствие единого центра, диктующего правила всем остальным; вместо этого усиливается конкуренция между крупными центрами (например, между Индией и Китаем) и нарастает взаимное сотрудничество, построенное на взаимовыгодных условиях.
Формирование разнообразных региональных объединений выступает ответом на прежний униполярный дисбаланс. Примером является Евразийский экономический союз (далее ― ЕАЭС), характеризующийся гибкостью и уважением суверенитета членов, по сравнению с жесткой бюрократической структурой Европейского союза. Дальнейшее сближение ЕАЭС с инициативой «Один пояс ― один путь» отражает принципы нового мирохозяйственного порядка: соблюдение взаимовыгодности и отказ от навязывания условий сильнейшими игроками. В этих условиях международное право становится более обширным и разнообразным, что обеспечивает основу для новых форм сотрудничества.
Таким образом, новая многополярность рассматривается, прежде всего, как сочетание конкуренции и сотрудничества между равноправными акторами. С одной стороны, расширяются интеграционные процессы, с другой ― усиливаются дезинтеграционные тенденции, отражающие стремление каждой страны самостоятельно определять свой путь развития. В результате формируются новые модели взаимодействия народов и государств, опирающиеся на разные политические, культурные и экономические ценности. Западная либеральная модель все чаще подвергается критике, что открывает поле для альтернативных проектов мироустройства (Евразийская интеграция, национал-консервативные идеи и др.).
Правовая аксиология: ценности права и их роль
Наступила эпоха глубокой трансформации ― своего рода этап «динамического хаоса», когда конкурируют разные сценарии будущего. Векторы этих трансформаций связаны со сменой базовых ценностей, диалогом культур и ломкой старого миропорядка, что ведет к фундаментальным изменениям в социально-правовой сфере. Научное сообщество должно совместно отслеживать и анализировать такие изменения.
Правовая аксиология изучает ценностный фундамент права, включая идеи справедливости, законности, равенства, гуманизма и т. д. Ценности играют важную роль при создании и применении правовых норм: они задают цель и мотивируют правовые институты. В современных исследованиях особое внимание уделяется гуманитарным идеям Канта о международном праве. Все большее внимание в науке права в последние десятилетия вызывают идеи немецкого философа о международных отношениях и международном праве. В трудах «Метафизика нравов» (1797) [1] и «К вечному миру» (1795) [2] Кант впервые возвысил международное право до уровня предмета общефилософского осмысления в широком контексте социальных явлений, центральное место в которых занимает вопрос неукоснительного соблюдения прав человека.
Не отрицая возможность применения военной силы в международных делах, в отличие от традиций политического реализма и геополитики, Кант на первый план выдвигает силу права, нравственного закона и силу права дипломатии. Последовательный сторонник господства права в регулировании противоречий, Кант вместо баланса сил утверждает приоритет правовых норм, в которых следует фиксировать баланс интересов субъектов международного права.
Противопоставляя кантианскому идеалу школы реализма, представители которых (например, Н.Макиавелли) считают политику абсолютно независимой от морали, современные правоведы обращают внимание на необходимость совместного учета и объективных, и субъективных факторов в международных отношениях. Так, возвышая идею родины над идеей морали и закона, Н. Макиавелли говорил, что «коль скоро речь идет об интересах родины, не должно рассуждать, справедливо ли сие решение или несправедливо, милосердно или жестоко, похвально или зазорно; оставить в стороне следует всякие соображения и принять то решение, какое содействует спасению ее жизни и сохранению свободы» [3], т. е. он рассматривает государственные интересы как абсолютный детерминирующий фактор политики и права, критерий их оценки. Единство объективного и субъективного в праве определяется деятельностью государств и участников международных отношений, при этом морально-правовые принципы должны лежать в основе регулирования конфликтов.
Кроме того, аксиологический подход позволяет осмыслить значение таких фундаментальных понятий, как право, совесть и долг. В этой связи важно отметить социально-правовой императив сохранения принципов гуманизма и прав человека как «абсолютно фундаментальной ценности, смысловой опоры» [4] правовых систем. В глобальном плане это нашло отражение в повестке Организации Объединенных Наций (далее ― ООН) и международных конвенциях, призывающих к неукоснительному соблюдению прав человека. Особенно ценным является принцип верховенства морального закона (по Канту), ограничивающий произвол даже в международной политике.
Таким образом, система ценностей в праве включает норму справедливости, обеспечение свободы и правопорядка, уважение прав личности, солидарность и ответственность перед обществом. Эти аксиологические установки должны пронизывать и национальное, и международное право. Их особое значение проявляется в ситуации перехода к многополярности: взаимодействие разных цивилизаций и правовых систем требует диалога ценностей и поиска консенсуса между различными правопорядками.
Идеологическое противостояние и ценностная поляризация
Современный этап формирования многополярного мира сопряжен с переосмыслением идеологических конфликтов. После крушения биполярной системы далеко не все ожидали исчезновения идеологии из международной политики. Сразу после распада СССР многие в мире (в том числе и в России) провозглашали «конец эры воздействия идеологии на политику», но это оказалось ошибочным представлением. Напротив, в новых условиях идеологическое противостояние приняло другие формы: демократия и «справедливость» стали формой оправдания вмешательства сильных государств в дела слабых [5]. Главные противоречия в мироустройстве теперь вытекают из объективного процесса становления многополярности и целенаправленных усилий отдельных акторов (прежде всего США) закрепить однополярный статус-кво. Идеология в этом контексте играет роль алгоритма объяснения и легитимизации поведения сверхдержав: под флагом «демократии» и «прав человека» велись военные интервенции и поощрялось изменение режимов. При этом Россия твердо считает, что обновление государственных систем должно происходить «изнутри» самих народов и соответствовать их национальным традициям, а насилие во имя чужой «модели демократии» не может быть оправдано.
В культурно-ценностном поле это противостояние выражается в столкновении традиционных гуманистических ценностей и «новой западной этики». С одной стороны, идет возврат к приоритетам национальной и религиозной идентичности, с другой — продвигаются идеи универсализма и секуляризма. В многополярном мире появилось пространство для «диалога цивилизаций», где право и моральные нормы различных культур могут взаимодействовать.
С точки зрения аксиологии, важно подчеркнуть, что право не существует в вакууме нормативных норм: за каждым правовым институтом стоят определенные культурные и идеологические установки. Например, одной из ключевых ценностей международного права является уважение суверенитета и равноправия государств, эти принципы отражают ценностные ориентации, противостоящие гегемонии. Таким образом, идеологическая поляризация фиксирует тот факт, что борьба за международное влияние часто идет не только вооруженно, но и на ниве смыслов и ценностей. В новых условиях международное право должно служить арбитром между конкурирующими идеологиями, сохраняя приоритет универсальных правовых стандартов.
Международное право и национальный суверенитет в новом миропорядке
Один из ключевых вопросов многополярного мироустройства — соотношение национального права и международно-правовых норм. Современная практика показала, что правовая система России вполне успешно интегрируется в многополярное мировое юридическое пространство. Однако это сопряжено с трудностями: необходимо обеспечить гармонию между внутренним законодательством и общепризнанными принципами международного права. Согласно Конституции Российской Федерации, «общепризнанные принципы и нормы международного права» являются частью отечественной правовой системы. При этом в случае конфликта между договором и законом приоритет отдается договору (ст. 15, ч. 4). Установленные международно-правовые ценности (справедливость, добросовестное выполнение обязательств и пр.) провозглашаются неотъемлемой основой российского права.
В контексте многополярного мира особую актуальность обретает идея верховенства международного права над правом отдельных государств. В этой связи необходимо подчеркнуть важность сохранения существующего международного правопорядка, установленного решениями союзников по итогам Второй мировой войны, и неукоснительного соблюдения Устава ООН, поскольку попытки некоторых государств заменить международное право собственными «национальными нормами» (например, объявлять резолюции ООН необязательными) представляют серьезную угрозу устойчивости мирового порядка. В условиях политической нестабильности международного общения государства стали критически претензионно придерживаться договоренностей (Ялта, Хельсинки и др.), а также аксиом международного права, сформулированных Нюрнбергским трибуналом и закрепленных резолюциями ООН.
Сохранение баланса между интересами государств подчеркивается и в философии права: Кантом было положено начало тому, чтобы международные отношения регулировались «силой права нравственного закона» и силой дипломатии. Это означает, что, несмотря на наличие конфронтационных тенденций, разрешать конфликты следует не только с помощью силы (как учили реалисты), а главное — путем соблюдения юридических норм и универсальных ценностей. В правовой аксиологии это выражается в приоритете принципа справедливости и достоинства человека над политическими интересами государств.
С другой стороны, многополярность требует признания разнообразия правовых моделей и ценностных традиций. В новой системе международных отношений концепция законности остается центральной, но ей придается расширенное значение: это не только соответствие властных решений тексту закона, но и соразмерность их нравственным критериям цивилизационного развития.
Россия и новый мировой правопорядок: позиции и приоритеты
С аналитической точки зрения Россия занимает специфическую позицию в формирующемся новом миропорядке. После распада СССР и «победы демократии» Россия оказалась в ситуации, когда многие считали однополярный мир установленным фактом. Но Россия последовательно выступала за многополярность и уважение национальных особенностей. Драматические события конца XX ― начала XXI в. (распад Советского Союза, «цветные революции», региональные войны) явились причиной переосмысления незыблемых основ мирового права.
В отечественной правовой традиции подчеркивается роль государственной мощи в защите собственных интересов, но при этом исходят из необходимости следовать общим международно-правовым установкам. В этом смысле реакция на западные проекты «экспорта демократии» отражала стремление России найти баланс между модернизацией и сохранением своей правовой культуры. В резолюциях ООН и заявлениях российских лидеров подчеркивается, что реформы и внутренние изменения должны происходить внутренним эволюционным путем.
Расширение НАТО на Восток и государственный переворот на Украине в 2014 г., названные «прикрытием защиты народа от фашизма», по своей сути стали источником дестабилизации и угрозы безопасности, которую пришлось сдерживать в рамках международного права и в соответствии с Уставом ООН.
Существенный момент и отличительные реалии международных отношений заключаются в отсутствии конституированной верховной власти, стоящей над субъектами международных отношений в его соотнесении с внутригосударственными отношениями, регулируемыми национальным правом, где верховную власть осуществляет само государство. Вследствие этого, поскольку суверенитет есть неотъемлемый признак государств, их права в международном общении имеют свою действительность в особенной воле этих государств. Следовательно, реализация принципов международного права, определенных в качестве всеобщего, юридически относится к сфере долженствования и в отличие от обязательств, конкретно зафиксированных в международно-правовых актах, принадлежит скорее к сфере общечеловеческой морали как долг. Именно поэтому феномены доброй воли и доверия между государствами имеют особое значение в международном общении.
Онтологическую основу международного права составляют его так называемые базовые принципы ― основополагающие общепризнанные нормы международного права, рассматриваемые доктринально как всеобщее, имеющее высшую юридическую силу, которому должны соответствовать иные международно-правовые акты, а также международно-значимые действия субъектов1 .
Всеобщее, как философская категория и как момент, сторона предмета или явления, в своей логической определенности диалектически раскрывается лишь в триаде «единичное–особенное–общее». В диалектическом учении Гегеля общее (всеобщее) определяет единство отдельных единичностей. Категория особенного имеет значение способа и меры объединения единичных явлений в целостности общего и определяет иерархию политико-правовых феноменов, играющую ведущую роль в регулировании отношений [6]. Особенное, в качестве которого в международном праве можно рассматривать волю отдельного суверенного государства по реализации и охране его национальных интересов, надлежит рассматривать как единство единичного и общего, при этом общее выступает как относительно устойчивая совокупность свойств и признаков конечного множества отдельных явлений. Поэтому наличное бытие всеобщего как объекта действительности отличается от своего понятия2. Существенно, что границы между единичным, особенным и общим являются подвижными [7, с. 197]. Это означает, что единичное и общее составляет взаимодействующее единство посредством особенного, которое в международном праве находит свое выражение в согласованности отдельных международно-правовых актов с общими принципами международного права.
Как отмечает Гегель, «принцип международного права как всеобщего, который в себе и для себя должен быть значимым в отношениях между государствами, состоит, в отличие от особенного содержания позитивных договоров, в том, что договоры, на которых основаны обязательства государств по отношению друг к другу, должны выполняться. Однако, так как взаимоотношения государств основаны на принципе суверенности… названное всеобщее определение остается долженствованием, и состояние между государствами колеблется между отношениями, находящимися в соответствии с договорами и с их снятием» [6, с. 366]. Отсутствие конкретной детерминированности отношений между государствами соглашениями есть проявление различий между гносеологическим и эпистемологическим аспектами межгосударственных связей. Гносеологический анализ имеет в качестве объекта международные отношения, проистекающие из самого факта действительности государства независимо от суверенных воль. И, как следствие, международные договоры, субъективные по своему происхождению, являются объективными по своему содержанию. Объект эпистемологического подхода ― это знания о международном общении, и поэтому они отличаются от первых своим способом существования, а именно: если международные отношения как гносеологический объект международного права существуют независимо, то знания о них не существуют независимо от субъекта познания.
Важным аксиологическим моментом является признание Россией универсальности определенных норм. Приверженность России идее справедливости, выраженной в защите интересов населения Донецкой и Луганской народных республик, следует рассматривать как «объективный фактор» специальной военной операции, соответствующий основному принципу права на гуманность. Вместе с тем Россия продолжает настаивать на необходимости реформирования мировой системы через многосторонний диалог (БРИКС, ШОС и др.), где будут учтены ценности разных народов. Таким образом, позиция страны формулируется как сочетание уважения национальных интересов и приверженности международно-правовым аксиомам.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Перестройка глобального порядка на основе многополярности порождает новые аксиологические задачи для права. Для сохранения стабильности и справедливости необходимо, чтобы правовые системы разных стран опирались на общие ценности: верховенство закона, защиту прав личности и равенство государств. Формирование многополярного мира идет через сочетание конкуренции и кооперации, и международное право призвано служить ориентиром в этой реорганизации. Россия, в свою очередь, подчеркивает необходимость гармонизации национальных законов с международными нормами и готова участвовать в выработке новых глобальных правил, основанных на принципах справедливости и согласия.
Перспективными направлениями развития международного права на современном этапе можно обозначить следующие:
- Укрепление международной защиты прав человека. Дальнейшее развитие международного права должно опираться на приоритет человеческого достоинства и гарантий свободы. Расширение правового пространства для защиты фундаментальных свобод (гражданских, политических, экономических и социальных) может осуществляться через усиление механизмов международного контроля и подотчетности (например, расширение мандата международных неправительственных организаций, укрепление системы докладов и резолюций ООН, более строгие обязательства по ратификации конвенций). Такая динамика отвечает базовым ценностям международного права: права человека являются универсальными и неотчуждаемыми, что закреплено в Уставе ООН и документах ее правопреемников, а также в многосторонних пактах ООН. Как подчеркивается во Всеобщей декларации прав человека, каждый человек имеет право на такой международный порядок, при котором могут быть реализованы все его права. Укрепление этих гарантий будет способствовать развитию глобальной солидарности и справедливости.
- Укрепление международного правопорядка и верховенства права. Важнейшее направление ― это обеспечение верховенства международного права, т. е. соблюдение обязательств всеми участниками системы и мирное разрешение споров на основе законности. Согласно Венской конвенции, споры, касающиеся договоров, и вообще международные споры «должны разрешаться только мирными средствами и в соответствии с принципами справедливости и международного права». Это аксиологическое требование предполагает расширение престижа и эффективности международных судов и арбитражей (Международный уголовный суд, Международный арбитраж и т. д.), а также разработку новых процедур правоприменения. Укрепление правопорядка повышает ценность справедливости (правосудия) как атрибута международной системы и обеспечивает предсказуемость и стабильность в отношениях между государствами и другими субъектами международного права.
- Сохранение мира и безопасности: укрепление системы коллективной безопасности. Одно из ключевых направлений развития международного права ― это развитие гарантий безопасности и механизмов предотвращения конфликтов. Учредительные ценности Устава ООН и последующие договоры делают приоритетом укрепление мира, например, через контроль над вооружениями, правила неприменения силы и расширение миротворческих операций. Прагматически это может выражаться в активизации коллективных действий на основе международного права (резолюции Совета Безопасности ООН, договоры о разоружении) и развитии новых норм, регулирующих использование инновационных видов вооружений (например, кибервойны или автономных систем). Данный подход аксиологически обосновывается ценностью человеческой жизни и общей безопасности: преамбула Венской конвенции прямо указывает на достижение целей Устава ООН ― поддержание мира и международной безопасности и развитие дружественных отношений. Обеспечение безопасности в мирных условиях укрепляет доверие между народами и создает условия для справедливого международного правопорядка [8].
- Балансировка принципа суверенитета и международной ответственности. Необходимо переосмыслить традиционную аксиому «суверенное государство = неприкосновенное государство» с учетом современных гуманитарных вызовов. С точки зрения юридической аксиологии важно подчеркнуть как ценность государственности (суверенитета и национального самоопределения), так и ценность международной ответственности (в т. ч. международных обязательств по защите основных прав на территориях государств). Международное право должно эволюционировать в сторону гибридных конструкций, позволяющих одновременно уважать суверенные права народов (как установлено в нормах Устава ООН о равноправии государств) и защищать ценность человеческой жизни там, где возникают преступления против человечности или геноцид. Это соответствует принципу «ответственности за защиту», отраженному в ряде резолюций ООН, где гуманитарные ценности уравновешиваются с суверенными ― обеспечение безопасности граждан признается высшей целью государственного устройства.
- Интеграция принципов устойчивого развития и международной экономической справедливости. В современную ценностную парадигму международного права должны войти принципы экологии и социальной справедливости. Это означает развитие правовых норм, направленных на защиту окружающей среды, борьбу с бедностью и неравенством, а также обеспечение равных возможностей развития для всех стран. Международные соглашения в области климата и устойчивого развития (так называемый «новый консенсус») уже утверждают, что ответственные действия государств в сфере экологии ― это моральный и правовой императив ради будущих поколений. Развитие экономических норм (например, справедливые торговые соглашения, новые формы развития помощи) также подчеркивает ценность солидарности и равенства. Такой аксиологический сдвиг отражает понимание того, что устойчивое благополучие человечества зависит от справедливого распределения ресурсов и защиты планеты.
- Реформа международных институтов и расширение многосторонности. Необходимость институциональной модернизации также вытекает из ценностных ориентиров. Эффективность международного права зависит от легитимности и представительности его институтов (ООН, специализированных агентств, региональных объединений). В перспективе следует развивать более демократичные механизмы принятия решений на глобальном уровне (например, реформа Совета Безопасности ООН) и усилить роль гражданского общества и негосударственных акторов. Это направлено на реализацию аксиоматики равноправия и участия (демократических ценностей) в глобальном управлении, что согласуется с идеей мирного сотрудничества народов. Важнейшая ценность здесь ― доверие и ответственность (accountability): преобразование механизмов взаимодействия, основанное на общепринятых нормах и честном представительстве, укрепит международную законность и позволит более полно реализовать другие ценности.
Таким образом, новый многополярный мир с точки зрения правовой аксиологии характеризуется сохранением фундаментальных правовых ценностей и одновременным признанием многообразия правовых культур. Парадигма будущего мирового порядка должна включать равноправное взаимодействие цивилизаций и устойчивый правовой диалог. Инициативы международного сотрудничества и дальнейшие исследования в области правовой теории будут ключевыми для разработки эффективных механизмов взаимодействия в условиях многополярности, где правовые нормы продолжат эволюционировать под воздействием новых исторических реалий.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Вклад автора. Г.М. Азнагулова ― разработка концепции, сбор, анализ и обобщение литературы, написание черновика, пересмотр и редактирование рукописи. Автор одобрил рукопись (версию для публикации), а также согласился нести ответственность за все аспекты настоящей работы, гарантируя надлежащее рассмотрение и решение вопросов, связанных с точностью и добросовестностью любой ее части.
Источники финансирования. Отсутствуют.
Раскрытие интересов. Автор заявляет об отсутствии отношений, деятельности и интересов за последние три года, связанных с третьими лицами (коммерческими и некоммерческими), интересы которых могут быть затронуты содержанием статьи.
Оригинальность. При создании настоящей работы автор не использовал ранее опубликованные сведения (текст, иллюстрации, данные).
Генеративный искусственный интеллект. При создании настоящей статьи технологии генеративного искусственного интеллекта не использовали.
Рассмотрение и рецензирование. Настоящая работа подана в журнал в инициативном порядке и рассмотрена по обычной процедуре. В рецензировании участвовали два внутренних рецензента.
ADDITIONAL INFO
Author contribution: G.M. Aznagulova: conceptualization; investigation; writing—original draft, writing—review & editing. The author approved the version of the manuscript to be published and agrees to be accountable for all aspects of the work, ensuring that questions related to the accuracy or integrity of any part of the work are appropriately investigated and resolved.
Funding source: No funding.
Disclosure of interests: The author has no relationships, activities or interests for the last three years related with for-profit or not-for-profit third parties whose interests may be affected by the content of the article.
Statement of originality: The author did not use previously published information (text, illustrations, data) to create this paper.
Generative AI: Generative AI technologies were not used for this article creation.
Provenance and peer review. This work was submitted to the journal on its own initiative and reviewed according to the usual procedure. Two reviewers participated in the review.
1 Лукашук И.И. Международное право. Общая часть: Учебник. 3-е изд. перераб. и доп. Москва: Волтерс Клувер, 2005. 432 с.
2 Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. Т. 1. Наука логики / Отв. ред. Е.П. Ситковский. Москва: Мысль, 1975. 456 с.
Об авторах
Гузель Мухаметовна Азнагулова
Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации
Автор, ответственный за переписку.
Email: agm09@mail.ru
ORCID iD: 0000-0001-7265-2399
SPIN-код: 8893-6030
д-р юрид. наук
Россия, МоскваСписок литературы
- Kant I. Metaphysics of morals. In: Kant I. Essays in 6 volumes. Vol. 4. Moscow: Mysl’; 1965. (In Russ.)
- Kant I. Towards eternal peace. Moscow: Moskovskii rabochii; 1983. 77 p. (In Russ.)
- Machiavelli N. The sovereign. Moscow: EKSMO; 2014. 672 p. (In Russ.)
- Abashidze AKh, Goltyaev AO. Universal mechanisms for the protection of human rights. 2nd ed. Moscow: UNITY-DANA; 2012. 135 p. (In Russ.)
- Aznagulova GM. Russia and the new world order. In: Zapesotskii AS, Il''inskaya EA, Feigin G.F., et al. editors. Global conflict and the contours of the new world order: XX International Likhachev scientific readings on June 9–10, 2022. Saint Petersburg: SPbGUP; 2022. P. 548–550. (In Russ.) EDN: PDWAAM
- Hegel GVF. Philosophy of law. Moscow: Mysl’, 1990. 524 p. (In Russ.)
- Kerimov DA. Methodology of law: The subject, functions, and problems of the philosophy of law. Moscow: Publishing house of SSU; 2008. 521 p. (In Russ.)
- Martens FF. Modern international law of civilized nations. In 2 volumes. Vol. 2. Moscow: Zertsalo-M; 2018. 432 p. (In Russ.)
Дополнительные файлы