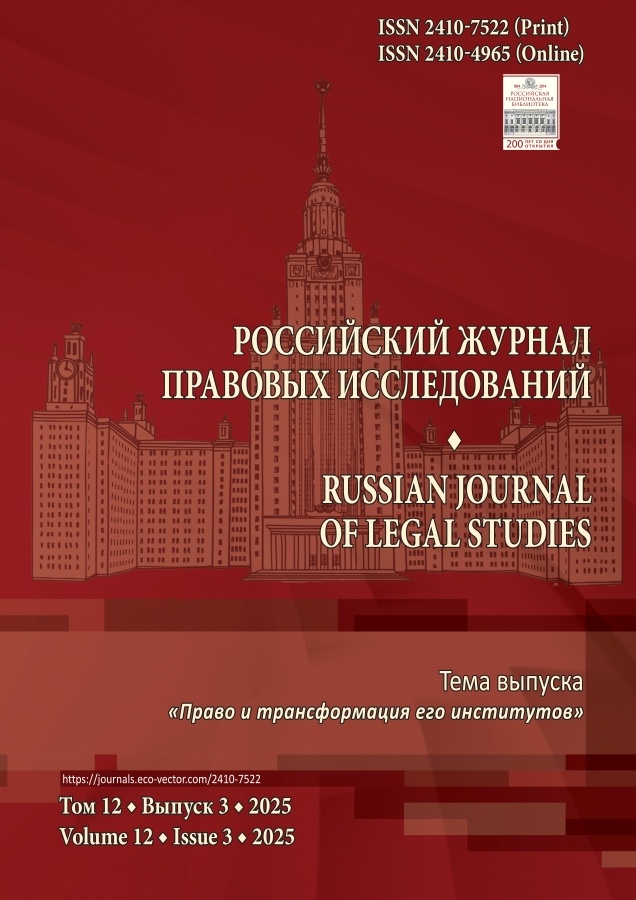Институт экстрадиции в российском и международном праве
- Авторы: Пономарев С.Е.1
-
Учреждения:
- Прокуратура Омской области
- Выпуск: Том 12, № 3 (2025)
- Страницы: 81-87
- Раздел: Уголовно-правовые науки
- Статья получена: 16.09.2025
- Статья одобрена: 24.09.2025
- Статья опубликована: 29.09.2025
- URL: https://journals.eco-vector.com/2410-7522/article/view/690498
- DOI: https://doi.org/10.17816/RJLS690498
- EDN: https://elibrary.ru/CNEJDG
- ID: 690498
Цитировать
Полный текст
Аннотация
В статье рассмотрены вопросы становления института экстрадиции в российском и международном праве, выявлены недостатки в правовом регулировании, сформулированы предложения о разработке и включении в Европейскую конвенцию о выдаче понятия политического преступления. Проведенное исследование показало, что правовое регулирование вопросов, связанных с направлением запросов о выдаче Российской Федерации лиц для уголовного преследования и исполнения наказания, является недостаточным, вследствие чего следователи нечетко представляют себе алгоритм действий в случае возникновения ситуации, требующей экстрадиции обвиняемого, не владеют техникой составления необходимых уголовно-процессуальных документов. Сформулировано предложение о разработке и принятии закона «Об экстрадиции». Такая законодательная инициатива позволит устранить правовые пробелы, обеспечить унификацию процедуры подачи запросов, закрепить перечень необходимых документов и полномочий следственных органов. Актуальной представляется задача законодательного определения перечня составов преступлений, предусмотренных уголовным законодательством Российской Федерации, при наличии которых совершившее их лицо, скрывающееся на территории иностранного государства, может быть предметом экстрадиционного запроса. Отмечается необходимость коррекции нормативных норм в части ограничения политических мотивов для отказа в выдаче, а также введения механизма ответственности за несоблюдение международных договоров. Укрепление правовой базы будет способствовать повышению эффективности взаимодействия правоохранительных органов и снижению случаев отказов в экстрадиции по необоснованным причинам.
Полный текст
ВВЕДЕНИЕ
Борьба с преступностью всегда требовала объединения усилий различных государств, о чем наглядно свидетельствуют нормы, касающиеся выдачи преступников, в памятниках древнейшего права. Согласно ст. 14 Договора Руси с Византией 911 г., «если злодей не возвратится на Русь, то пусть русские жалуются греческому царскому величеству, и он да будет схвачен и возвращен насильно на Русь. То же самое пусть сделают и русские грекам, если случится такое же (с ними)». С.С. Беляев, Р.М. Валеев, В.М. Волжанкина и другие авторы связывают с этим нормативным правовым актом «начало истории экстрадиции преступников в России»1. Следует отметить, что в Древнерусском государстве, в отличие от стран Древнего мира, где вопросы экстрадиции решались в основном в отношении лиц, совершивших государственные преступления, политиков, чьи действия не одобрялись населением тех или иных стран, выдаче подлежали лица, совершившие общеуголовные преступления [1].
Однако как в праве стран Древнего мира, так и в праве стран раннего Средневековья институт выдачи преступников был урегулирован в самом общем виде, что объясняется, в первую очередь, неразвитостью международных отношений и связей, из-за чего экстрадиция была крайне редким явлением.
В XVIII в. процессы индустриализации, активно развивающиеся в странах Западной Европы, появление новых видов транспорта инициировали перемещение значительных масс населения из одних стран в другие, перед правоохранительными органами встала проблема борьбы с кражами, грабежами и разбоями, совершаемыми на железных дорогах, в связи с чем правоохранители начали уделять больше внимания сотрудничеству в сфере борьбы с трансграничной преступностью. Взаимодействие осуществлялось в рамках заключения двусторонних договоров о выдаче преступников2.
Впервые термин «экстрадиция» был введен в юридический оборот во Франции декретом от 19.02.1791 «Об ограничении числа революционных комитетов», регламентировавшим отдельные процедуры выдачи преступников [2]. В первой трети ― второй половине XIX в. в ряде европейских государств были приняты законы об экстрадиции, причем уже первый такой закон, принятый в Бельгии в 1833 г., содержал не только нормы, регламентирующие порядок выдачи преступников, но и регулировал вопросы, связанные с предоставлением политического убежища.
Вместе с тем отсутствие единого подхода к определению понятия и условий экстрадиции снижало эффективность данного института. До настоящего времени четкое определение порядка и процедуры экстрадиции отсутствует, что нередко приводит к нарушению обязательств, взятых государствами при ратификации международных и двусторонних договоров об экстрадиции, и влияет на борьбу с преступностью, делая невозможной реализацию принципа неотвратимости наказания. Так, по данным Генерального прокурора Российской Федерации И.В. Краснова, в 2023 г. иностранные государства отказали России в удовлетворении 114 ходатайств о выдаче лиц для уголовного преследования, из них в 38 случаях по политическим мотивам. И.В. Краснов по этому поводу отмечает, что, руководствуясь политическими мотивами и нарушая международно-правовые акты, регламентирующие вопросы, связанные с экстрадицией, эти государства создают проблемы для своих граждан, оставляя «у себя убийц, контрабандистов, насильников, мошенников и других обвиняемых в совершении преступлений. Очевидно, что более безопасными эти государства не стали»3.
Полагаем, что причины неудовлетворения ходатайств об экстрадиции заключаются в недостатках в правовом регулировании экстрадиции как нормами международного права, так и нормами российского законодательства.
ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКСТРАДИЦИИ
Институт выдачи преступников с момента его зарождения носил международно-правовой характер, поскольку для выдачи лица, совершившего преступление на территории одного государства и укрывшегося на территории другого государства, необходимо добровольное содействие органов власти данного государства. «Первоначальная» экстрадиция осуществлялась в рамках заключения двусторонних договоров о выдаче преступников. С развитием внутреннего законодательства совершенствовался и институт экстрадиции, в двусторонние договоры стали включать нормы, запрещающие выдачу собственных граждан, а также граждан иных государств, преследуемых за совершение политических преступлений.
В начале XIX в. государства начали объединять усилия в борьбе с преступностью и заключать многосторонние договоры по вопросам, связанным с сотрудничеством в этой сфере, которые включали и нормы об экстрадиции. Первым таким договором является Амьенский договор о выдаче 1802 г., заключенный Великобританией, Голландией, Испанией и Францией, предусматривавший выдачу преступников, совершивших такие преступления, как убийство, умышленное банкротство и фальшивомонетничество [3].
В 1889 г. в Монтевидео Уругваем, Аргентиной, Боливией, Парагваем и Перу была заключена конвенция по международному и уголовному праву, часть норм которой была посвящена экстрадиции, в период с 1902 по 1928 г. странами Северной и Южной Америки был заключен еще ряд международных конвенций, касающихся выдачи преступников.
В 1952 г. Лигой арабских государств была принята Конвенция о взаимной правовой помощи в уголовных делах, предусматривающая в том числе и выдачу преступников.
В середине XX – начале XXI в. Организацией Объединенных Наций (далее ― ООН) принят ряд конвенций, помимо прочего регламентирующих и вопросы экстрадиции. К ним относятся: Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 09.12.1948; Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны от 12.08.1949; Конвенция о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов, от 14.09.1963; Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов от 16.12.1970; Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации, от 23.09.1971; Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов, от 14.12.1973; Европейская конвенция о пресечении терроризма от 27.01.1977; Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности от 15.11.2000 и ряд других, предусматривающих международное сотрудничество в сфере борьбы с преступлениями против мира и безопасности человечества, организованной преступностью, терроризмом, незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, коррупцией, отмыванием денежных средств, сексуальным насилием в отношении детей, фальшивомонетничеством и другими. Особенностью этих конвенций является то, что они предоставляют возможность участникам конвенции требовать выдачи преступников даже в отсутствие двустороннего соглашения по вопросам экстрадиции, при условии, что оба эти государства ратифицировали соответствующую конвенцию.
Помимо конвенций, регламентирующих вопросы уголовной ответственности и выдачи преступников за совершение отдельных видов преступлений, в Париже была принята Европейская Конвенция о выдаче4. Комментируемая конвенция достаточно детально регулирует процедуру выдачи преступников, определяет преступления, служащие основанием для выдачи (ст. 2), особенности оформления отказа в выдаче своих граждан (ст. 6), сроки давности (ст. 10), а также регламентирует процедуру выдачи, а именно: подачу просьбы, сопроводительные документы (ст. 12), право запрашиваемой стороны потребовать предоставления дополнительной информации (ст. 13), обязанность запрашиваемой стороны указать причины полного или частичного отказа в выдаче (ст. 18) и др.
Отметим, что Конвенция о выдаче содержит ряд норм, на наш взгляд, препятствующих эффективному сотрудничеству в сфере борьбы с преступностью, а именно запрет на выдачу лиц, совершивших политические преступления (ст. 3), при этом четкого определения политических преступлений она не содержит. В.А. Чиркин отмечает, что в международном уголовном праве понятие «политическое преступление» отсутствует, однако исходя из смысла международных конвенций, содержащих термин «политическое преступление», под таковым следует понимать «особое общественно-опасное деяние, запрещенное действующим законодательством, совершаемое индивидуальными или коллективными субъектами, направленное против основ государственного строя, государственных органов власти и их руководителей, политических общественных объединений и их лидеров по национальным, расовым, этническим, религиозным признакам или политическим убеждениям» [4]. Соглашаясь в принципе с мнением автора, тем не менее заметим, что убийство или попытка убийства главы государства или членов его семьи Конвенцией о выдаче не рассматривается в качестве политического преступления (ст. 3).
А.В. Зорин предлагает определять политические преступления как деяния путем обмана и/или применения насилия, совершенные в сфере политики субъектами политики, направленные на достижение политических целей [5]. Представляется, что данное определение вряд ли можно признать отражающим сущность политических преступлений и позволяющим классифицировать как таковые конкретные деяния, содержащие признаки преступления.
Полагаем, что именно отсутствие четко определенного понятия «политическое преступление» является одной из причин отказа в выдаче преступников, поскольку подобный подход позволяет «расценивать в силу соответствующих интересов властей любое деяние в виде политического акта. <…> Оценочный подход широко используется и в качестве политических спекуляций, когда лицо, привлекаемое к уголовной ответственности за реально совершенное преступление, утверждает, что над ним производится политическая расправа. Таким образом, многие политики и государственные деятели, уличенные в коррупции и других должностных преступлениях в своей стране, уезжают в другую страну и оправдывают себя тем, что их якобы преследуют по политическим мотивам, хотя некоторые их противоправные действия вполне очевидны» [6].
Исходя из того, что «при решении вопросов о выдаче преступника большое значение имеет иерархический коллизионный принцип, согласно которому нормы международного права имеют преимущество над национальным» [7], полагаем, что в теории международного уголовного права необходимо уделить внимание разработке четких критериев отнесения тех либо иных деяний к политическим преступлениям», этими критериями следует дополнить текст Европейской конвенции о выдаче.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКСТРАДИЦИИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Институт экстрадиции в Российской Федерации урегулирован нормами различных отраслей права, как вышеназванными международными конвенциями, так и нормами российского конституционного, уголовного и уголовно-процессуального права. Однако единый нормативный правовой акт, посвященный вопросам выдачи преступников, в настоящее время в законодательстве России отсутствует. Это нередко приводит к ошибкам в правоприменительной практике, на что обратил внимание Верховный Суд Российской Федерации (далее ― ВС РФ), дав разъяснение по этому вопросу5.
Вместе с тем одним из памятников русского права является закон «О выдаче преступников по требованиям иностранных государств», который был издан в конце декабря 1911 г. и вступил в законную силу с января 1912 г., обобщив генезис института экстрадиции в русском праве в XIX в. [1]. Во второй половине XIX в. Российская империя активно сотрудничала с зарубежными государствами в вопросах выдачи преступников. Как указывает К.С. Родионов, в этот период времени было заключено 24 двусторонних соглашения с 17 странами мира, в их число входили не только европейские, но и северо- и южноамериканские, африканские, восточноазиатские государства [8].
Закон «О выдаче преступников по требованиям иностранных государств» содержал нормы, регламентировавшие как принципы экстрадиции, так и ее процедуру. Согласно закону выдаче подлежали лица, обвиняемые в совершении общеуголовных либо политических преступлений, при этом на основе заключенных договоров или на условиях взаимности; они не могли быть выданы иностранному государству, если до предъявления требования о выдаче они уже были подданными Российской империи. Вопросы, связанные с выдачей, рассматривали министры правительства Российской империи, если они считали, что предъявленное требование обосновано, оно передавалось для исполнения министру внутренних дел, дававшему распоряжение об установлении местонахождения лица, подлежащего выдаче, и его задержании. Если обоснованные требования о выдаче одного и того же лица заявляли несколько государств, лицо передавалось государству, в котором было совершено преступление.
Требования о выдаче Российской империей лиц, обвиняемых в совершении преступлений, иностранными государствами направлялись через Министерство внутренних дел.
Отметим, что согласно примечанию двусторонние договоры по вопросам выдачи, заключенные после принятия закона, не могли содержать норм, противоречащих закону. Если же выдача осуществлялась на основании договоров, заключенных ранее его принятия, действовали нормы и процедуры, предусмотренные соответствующими договорами.
Несомненное достоинство данного закона, на наш взгляд, заключается в том, что он был включен в качестве приложения в Устав уголовного судопроизводства.
В настоящее время нормы, определяющие процедуру экстрадиции, включены в ст. 460–468 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее ― УПК РФ). Однако законодательное определение выдачи преступника для уголовного преследования или исполнения приговора, как и определение экстрадиции, в нем отсутствует. Вопросы, связанные с определением вышеназванных понятий, рассмотрены в юридической литературе.
А.Е. Косарева предлагает рассматривать выдачу лица для уголовного преследования или исполнения приговора как «совокупность уголовно-процессуальных действий и решений компетентных органов запрашиваемого государства, в связи с рассмотрением, разрешением и фактическим исполнением просьбы запрашивающего государства о принудительном возвращении на его территорию лица, подозреваемого, обвиняемого, либо осужденного за совершение преступления, для осуществления в отношении указанного лица уголовного преследования или исполнения приговора» [9].
Соглашаясь в принципе с предложенным определением выдачи лица для уголовного преследования и исполнения приговора, тем не менее, отметим, что в науке уголовного процесса сформулировано мнение о необходимости более широкого подхода к выдаче и рассмотрения ее в рамках экстрадиции, поскольку последняя включает в себя не только выдачу лица для уголовного преследования и исполнения приговора, но и комплекс процессуальных и следственных действий, направленных на «розыск, задержание, заключение под стражу и передачу лица иностранному государству (или международному трибуналу, международному уголовному суду) на основании и в порядке, установленном международными договорами Российской Федерации и национальным законодательством, либо на основе принципа взаимности с целью осуществления уголовного преследования, отправления правосудия или приведения в исполнение вступившего в силу приговора суда» [10].
Институт выдачи лица для уголовного преследования и исполнения приговора в уголовно-процессуальном праве регламентирует не только собственно выдачу лица по запросу иностранных государств, но и направление запросов об оказании правовой помощи и выдаче Российской Федерации лиц, обвиняемых в совершении преступлений на ее территории.
Проведенные в процессе подготовки статьи исследования показали, что следователи нечасто сталкиваются с ситуациями, требующими экстрадиции, не владеют навыками составления уголовно-процессуальных документов, необходимых для направления запроса, считают уголовно-процессуальную регламентацию в данной сфере недостаточной.
Представляется, что совершенствование уголовно-процессуального законодательства в данной сфере требует введения в уголовно-процессуальное право самого термина «экстрадиция», закрепления конкретного перечня документов, необходимых для обоснования запроса об экстрадиции. Статья 460 УПК РФ содержит нормы, регламентирующие форму запроса Российской Федерации, направляемого иностранному государству для выдачи находящегося на ее территории лица для уголовного преследования и исполнения приговора, однако уголовно-процессуальное законодательство не регламентирует действия следователя, столкнувшегося с ситуацией, требующей экстрадиции, форму и содержание процессуального документа, который должен составить следователь и направить в прокуратуру для решения вопросов об экстрадиции.
Кроме того, ни Уголовный кодекс Российской Федерации (далее ― УК РФ), ни УПК РФ, не содержат перечня двусторонних договоров, а также международных конвенций, ратифицированных Российской Федерацией, на основании которых может быть осуществлена выдача лица для уголовного преследования и исполнения приговора. Ранее такой перечень содержался в приложении к Постановлению Пленума ВС РФ от 14.06.2012 № 11 «О практике рассмотрения судами вопросов, связанных с выдачей лиц для уголовного преследования или исполнения приговора, а также передачей лиц для отбывания наказания», однако в настоящее время он исключен6.
Также полагаем целесообразным разработать перечень составов преступлений, предусмотренных УК РФ, наличие которых в действиях лиц, совершивших преступление на территории Российской Федерации и укрывшихся на территории иностранных государств, дает основание требовать их выдачи.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Институт экстрадиции прошел длительную историю становления и развития. Уже в праве стран Древнего мира он носил характер международного, поскольку нормы, посвященные выдаче преступников, содержались в двусторонних договорах государств. В начале XIX в. государства стали объединять усилия в борьбе с преступностью и заключать многосторонние договоры, включавшие в числе прочего нормы, посвященные экстрадиции преступников.
В 1957 г. была принята Европейская конвенция о выдаче, действующая до настоящего времени. Данная конвенция регламентирует отказ от выдачи лиц, преследуемых по политическим мотивам, однако не определяет понятия «политическое преступление», что позволяет, с одной стороны, лицам, совершившим общеуголовные преступления, требовать политического убежища, с другой ― дает основания государствам-участникам необоснованно отказывать в выдаче таких лиц, руководствуясь сиюминутными политическими интересами.
В Российской Федерации институт экстрадиции урегулирован нормами международного, конституционного, уголовного и уголовно-процессуального права. Недостатком уголовно-процессуального регулирования является отсутствие в законе четких указаний, закрепляющих действия следователя при возникновении в процессе расследования ситуации, требующей принятия решения об экстрадиции. Таким образом, необходима разработка и принятие закона «Об экстрадиции» и включение в него в качестве приложения перечня двусторонних и международных договоров Российской Федерации по вопросам экстрадиции.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Вклад автора. С.Е. Пономарев — определение концепции, сбор, анализ и обобщение литературы, написание черновика, пересмотр и редактирование рукописи. Автор одобрил рукопись (версию для публикации), а также согласился нести ответственность за все аспекты настоящей работы, гарантируя надлежащее рассмотрение и решение вопросов, связанных с точностью и добросовестностью любой ее части.
Источники финансирования. Отсутствуют.
Раскрытие интересов. Автор заявляет об отсутствии отношений, деятельности и интересов за последние три года, связанных с третьими лицами (коммерческими и некоммерческими), интересы которых могут быть затронуты содержанием статьи.
Оригинальность. При создании настоящей работы автор не использовал ранее опубликованные сведения.
Генеративный искусственный интеллект. При создании настоящей статьи технологии генеративного искусственного интеллекта не использовали.
Рассмотрение и рецензирование. Настоящая работа подана в журнал в инициативном порядке и рассмотрена по обычной процедуре. В рецензировании участвовали два рецензента.
ADDITIONAL INFO
Author contribution: S.E. Ponomarev: conceptualization; investigation; writing—original draft, writing—review & editing. The author approved the version of the manuscript to be published and agrees to be accountable for all aspects of the work, ensuring that questions related to the accuracy or integrity of any part of the work are appropriately investigated and resolved.
Funding source: No funding.
Disclosure of interests: The author has no relationships, activities or interests for the last three years related with for-profit or not-for-profit third parties whose interests may be affected by the content of the article.
Statement of originality: The author did not use previously published information to create this paper.
Generative AI: Generative AI technologies were not used for this article creation.
Provenance and peer review: This work was submitted to the journal on its own initiative and reviewed according to the usual procedure. Two internal reviewers participated in the review.
1 Договоры Руси с Византией, заключенные в Х веке. Режим доступа: https://docviewer.yandex.ru/ Дата обращения: 25.08.2025.
2 Анализ международных договоров и российского законодательства в сфере передачи осужденных и экстрадиции: учеб. пос. / А.В. Степанов [и др.]. Пермь: ФКУ ВПО Пермский институт ФСИН России, 2014. С. 6–7.
3 Призываю иностранных коллег к совместной борьбе с терроризмом. Блиц-интервью Игоря Краснова // Сайт «Коммерсантъ». Режим доступа: https://www.kommersant.ru/doc/6595064 Дата обращения: 18.08.2025.
4 Европейская конвенция о выдаче ETS N 024 (Париж, 13.12.1957), ратифицирована Федеральным законом РФ от 25.10.1999 № 190-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».
5 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14.06.2012 № 11 «О практике рассмотрения судами вопросов, связанных с выдачей лиц для уголовного преследования или исполнения приговора, а также передачей лиц для отбывания наказания» // СПС «КонсультантПлюс».
6 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.05.2025 № 2 «О внесении изменений в отдельные постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации по уголовным делам» // СПС «КонсультантПлюс».
Об авторах
Сергей Евгеньевич Пономарев
Прокуратура Омской области
Автор, ответственный за переписку.
Email: s.e.ponomarev@mail.ru
ORCID iD: 0009-0004-8450-9732
Россия, 644043, Омск, ул. Ленина, д. 1 / ул. Тарская, д. 4
Список литературы
- Goncharenko AI. To the question of the primary source of the institute of extradition in Russia. Society and Law. 2014;(4):64–66.
- Nagdaliev KhZ. Modern features of extradition regulation in international law [dissertation abstract]. Moscow; 2016. (In Russ.)
- Karimov O. The formation and development of the institution of extradition of criminals in the system of international criminal law. Society and innovations. 2021;(9):131–137. (In Russ.) EDN: YXHHHA doi: 10.47689/2181-1415-vol2-iss9/s-pp131-137
- Chirkin VA. The main approaches to the definition of "political crime" in the history of legal thought. Pravovaya politika i pravovaya zhizn'. 2019;(4):109–114. EDN: RRDVYT
- Zorin AV. Political crime: a criminological analysis [dissertation abstract]. Saint Petersburg; 2018. (In Russ.) EDN: EKVOLD
- Kvon DA. Theoretical and methodological approaches to the study of political and legal phenomenon «political crime». Moscow economic journal. 2019;(7):39. EDN: YTPOJC doi: 10.24411/2413-046X-2019-17002
- Golikova OA. The formation the institute for the extradition of criminals in tsarist Russia. Vestnik Kuzbasskogo instituta. 2015;(4):149–154. EDN: VCMUHR
- Rodionov KS. The law of Russian Empire 1911 on extradition. State and Law. 2003;(7):80–85. EDN: OPUVUJ
- Kosareva AE. Extradition of a person for criminal prosecution or execution of a sentence in Russian criminal proceedings [dissertation abstract]. Saint Petersburg; 2005. (In Russ.) EDN: NIMAYR
- Stroganova AK. Extradition in criminal proceedings of the Russian Federation [dissertation abstract]. Moscow; 2004. (In Russ.) EDN: NHTTRT
Дополнительные файлы