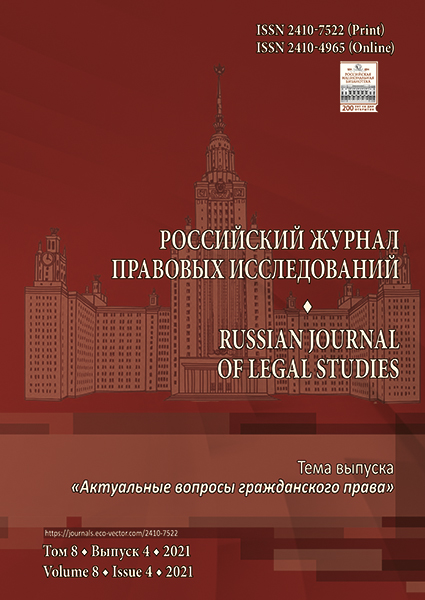Право цифрового общества: актуальные проблемы и пути развития (окончание)
- Авторы: Разуваев Н.В.1
-
Учреждения:
- Северо-Западный институт управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы РАНХиГС при Президенте РФ
- Выпуск: Том 8, № 4 (2021)
- Страницы: 33-48
- Раздел: Теория и история государства и права
- Статья получена: 21.08.2021
- Статья одобрена: 23.08.2021
- Статья опубликована: 18.01.2022
- URL: https://journals.eco-vector.com/2410-7522/article/view/78579
- DOI: https://doi.org/10.17816/RJLS78579
- ID: 78579
Цитировать
Аннотация
В заключительной части статьи рассматривается цифровизация правопорядка как важнейшая тенденция развития постсовременного общества. Автор полагает, что попытки противопоставить общество постмодерна цифровому обществу являются научно несостоятельными по ряду причин. Во-первых, согласно принятому в литературе консенсусу, «постсовременное (или постиндустриальное) общество» представляет собой стадию социокультурной эволюции, когда высокие, в том числе информационные, технологии начинают играть ведущую роль, определяя дальнейшее направление развития человеческой цивилизации. Во-вторых, культурная, социальная и политико-правовая неопределенность эры постмодерна не только не разрешается, но в какой-то мере усугубляется в ходе цифровизации общества и правопорядка. Таким образом, по мнению автора, право цифрового общества развивает те тенденции, которые в целом присущи цивилизации постмодерна, и выступает ее закономерным проявлением.
Как показано в работе, право цифрового общества представляет собой стадию развития правовой коммуникации, характеризующейся большей (в сравнении с предшествующими стадиями) общезначимостью знаковых средств, к числу которых относятся цифровые носители информации, а также их дальнейшим обособлением от объектов, выступающих референтами соответствующих знаков. Как следствие, цифровое конструирование правопорядка порождает ряд проблем, пока не получивших адекватного решения.
К числу важнейших проблем такого рода относятся деперсонификация субъектов правовых взаимодействий (прежде всего, государства и юридических лиц, но отчасти и лиц физических), а также развеществление объектов, по поводу которых эти отношения складываются. Указанные тенденции порождают кризис доверия участников коммуникации, являющийся ключевой проблемой постсовременного правопорядка. В целях преодоления такого кризиса автор предлагает реконструкцию правопорядка на основе прав и свобод человека, выступающих основополагающими знаковыми средствами, обеспечивающими стабильность и когерентность правовой реальности.
Полный текст
Переосмысление субъект-объектной оппозиции и возникновение новых субъектов права
Бытие права как регулятора поведения связано с принципиальной спонтанностью, недетерминированностью этого последнего внешними факторами, проистекающей из таких метафизических характеристик человеческого существа, как свобода и автономия воли [1], которые отличают юридически релевантное поведение людей от деятельности иных участников правового общения, включая организации и публично-правовые образования. Тем не менее следует констатировать, что в цифровую эпоху тенденции к деперсонализации затронули и поведение физических лиц, создавая у некоторых ученых представление о принципиальной возможности задать это поведение посредством ограниченного набора алгоритмов, формируемых в том числе с помощью компьютерных программ.
В последние годы был предпринят ряд шагов в указанном направлении. Речь идет о так называемых смарт-контрактах1, представляющих собой компьютерные программы, используемые для заключения и исполнения договоров в цифровой среде [2, c. 184]. Уже сейчас такие контракты достаточно активно применяются в финансовой сфере, например для зачисления денежных или иных средств на специальный эскроу-счет [3–5]. О распространенности указанных отношений позволяет судить хотя бы то обстоятельство, что договоры счета эскроу получили нормативное закрепление в ст. 860.7 ГК РФ.
Этому способствует то, что эскроу-счет, во-первых, является, безотносительно к реалиям цифровизации имущественного оборота, достаточно гибким и действенным средством регулирования обязательственных отношений, сочетающим в себе элементы доверительного управления имуществом (ст. 1012 ГК РФ) и независимой гарантии (ст. 368 ГК РФ). Во-вторых, в условиях цифровой трансформации эскроу приобретает новые свойства, позволяющие аккумулировать на нем не только реальные денежные средства, но и цифровые активы, что, на наш взгляд, может способствовать виртуализации оборота финансовых средств, распространяя на него законы символического обмена, исследованного Жаном Бодрийяром [6, c. 73–79].
Технологические характеристики смарт-контрактов, прежде всего, алгоритмизированность действий, совершаемых сторонами во их исполнение, дали основание отдельным исследователям утверждать, что таким контрактам присуща «самоисполняемость», позволяющая свести к минимуму либо вообще исключить волевой момент из динамики соответствующего договорного отношения [7, c. 11]. Отсюда делается вывод о том, что развитие системы смарт-контрактов в различных сферах хозяйственной деятельности со временем будет означать радикальную трансформацию договорного права как такового. Так, по словам В.А. Савельева: «В „умном“ контракте воля сторон выражается единожды: в момент его заключения. Впоследствии компьютерная программа сама исполнит все запрограммированные условия такого контракта. Никаких действий по исполнению договора, никаких дополнительных распорядительных сделок от сторон договора не требуется. Это означает исчезновение понятия „обязательства“ в том смысле, как оно понимается еще со времен римского права» [8, c. 48].
Нетрудно заметить, что такие выводы представляют собой своеобразные вариации технократических постмодернистских иллюзий о «смерти субъекта», справедливость которых является сомнительной. В самом деле, формирование новой правовой реальности создает предпосылки для возникновения качественно новых фактических жизненных ситуаций и отношений, не вписывающихся в сложившуюся картину и обусловливающих ее семантическую, онтологическую и эпистемологическую неопределенность [9, c. 33]. Не только познание, но и совершение юридически значимых действий (реализация субъективных прав, исполнение обязанностей, соблюдение запретов, осуществление полномочий) в ситуации неопределенности представляют собой процесс активного социального творчества, в целом исключающий автоматизм поведения субъектов.
В числе прочего неопределенность правовой картины мира, требующая нестандартных решений, связана с неоднократно констатировавшимся размыванием базовых категорий и дихотомий, таких, прежде всего, как бинарные оппозиции субъектов и объектов, действий и вещей, материального и нематериального, имущественного и неимущественного и т.п., на которых основывалась правовая реальность эпохи модерна. При этом следует отметить относительность и контекстуальную обусловленность подобных оппозиций в культурно-историческом плане.
Так, противопоставление лица и вещи, с которой логически связана бинарная оппозиция субъектов и объектов прав, получило свое окончательное признание и законодательное закрепление лишь в эпоху модерна, под влиянием философии Просвещения, утвердившей идею самоценности и автономии человеческой личности. Как известно, развернутое выражение данная идея получила у Дж. Локка, а затем у И. Канта в предложенной им формулировке категорического императива, гласящей: «…поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в своем лице, и в лице другого только как к цели и никогда не относился бы к нему как к средству» [10, c. 270]. Между тем для большинства правопорядков прошлого данная идея не была характерна. Даже в таком высоко развитом правовом порядке, каким являлось римское частное право, четкая градация между лицами и вещами зачастую отсутствовала, что с необходимостью вытекало из культурных, социально-экономических и политических характеристик античного общества Древнего Рима.
Это, разумеется, не означало, что лица, подпадавшие под действие соответствующего правопорядка, не осознавали себя субъектами, личностями и т.п., а полагали, что они являются вещами. Напротив, каждый человек, на сколь бы ранней стадии развития ни находилась та культура, к которой он принадлежит, осознает себя личностью и, следовательно, субъектом складывающихся в сфере жизненного мира релевантных взаимодействий [11]. Однако эта имманентно присущая всякому индивиду субъектность, равно как и экзистенциальная свобода, необходимо с ней связанная, вступали в непреодолимое противоречие с тем объемом социальной свободы, который предоставлял им соответствующий правопорядок, что, со своей стороны, порождало острые социальные и правовые конфликты (вплоть до активных столкновений), подрывавшие устойчивость любого традиционного общества и государства.
В римском частном праве использовались различного рода технические (в частности, лингвистические) приемы, необходимые для придания рабскому статусу юридической необратимости [12, c. 141]. Наиболее распространенным из таких приемов являлось приравнивание обращения в рабство к смерти [13, p. 270], выводившее человека из круга правового общения в качестве лица и сосредоточивавшее все его свойства в чистой телесности, то есть фактически превращавшее личность раба в вещь. Сходным образом приравнивались к вещам и подвластные члены патриархальной римской семьи [14, c. 21] с той лишь разницей, что рабский статус, по общему правилу, являлся неизменяемым (для наделения раба свойством правосубъектности требовалось волеизъявление господина, формализованное в процедуре манумиссии), тогда как подвластные дети автоматически становились лицами своего права со смертью домовладыки.
В цифровую эпоху открытия в технологической сфере, в том числе создание искусственного интеллекта, сделали возможным участие последнего в целом ряде социальных отношений, что, в свою очередь, стимулирует ведущиеся среди юристов дискуссии о правосубъектности кибернетических организмов [15; 16; 17, c. 367]. Так, ряд авторов выделяют признаки искусственного интеллекта (такие как автономность, субстантивные свойства, способность к спонтанному поведению на основе обработки получаемой информации и т.п.), позволяющие рассматривать его в качестве особого субъекта права, обладающего право- и дееспособностью и, что самое важное, деликтоспособностью. Последнее обстоятельство позволяет ставить вопрос о возможности юридической ответственности искусственного интеллекта.
Между тем, согласно принятому в действующем законодательстве и правовой доктрине подходу, последние представляют собой базы данных, то есть объекты прав. Так, согласно ст. 1334 ГК РФ, базы данных являются объектами исключительных прав их создателей, каковыми правами создатели баз данных могут распоряжаться по своему усмотрению и в своих интересах. Таким образом, легальный подход состоит в том, что базы данных, включая и цифровые базы, подобные искусственному интеллекту, не обладают волевыми свойствами, необходимыми и достаточными для наделения их правосубъектностью, в частности способностью нести юридическую ответственность. Пересмотр данной позиции влечет за собой радикальную трансформацию представлений не только о природе сознания и воли, но и о мире вещей и иных объектов прав.
В диахронной ретроспективе подобные трансформации не являются уникальными: всякий раз они, стимулируя видоизменение устоявшейся картины правовой реальности, стимулировали переход правопорядка к новой стадии эволюционного развития. Так, в римском частном праве, где рабы, не обладавшие в теории правоспособностью, не были способны выступать и субъектами юридической ответственности, именно признание за ними возможности отвечать по обязательствам господина стало, в составе сложного комплекса иных условий, одним из факторов, под влиянием которых наметилась трансформация классического античного рабства и переход от античности к феодализму в начале европейского Средневековья (III–IV вв.), подробно рассмотренные Перри Андерсеном в его классическом исследовании [18, c. 77–80]2. С другой стороны, возложение на господина обязанности в ряде случаев нести субсидиарную ответственность по обязательствам рабов [19, c. 120–121] способствовало признанию (разумеется, в известных пределах) формального юридического равенства рабов и господ как участников правового общения. Согласно известному мнению В.С. Нерсесянца, именно это послужило важным стимулом прогресса, состоящего в расширении круга лиц, на которых распространяется действие права как всеобщего масштаба и равной меры свободы [20, c. 15].
Следует констатировать, что в настоящее время такое переосмысление происходит под влиянием цифровизации, повлекшей за собой, в частности, утрату многими вещами, составляющими неотъемлемую часть нашего повседневного обихода, ранее принадлежащего им признака телесности и целого ряда связанных с этим функций [21, c. 36]. Указанное обстоятельство проницательно отметил на заре цифровой эпохи французский философ Ж. Бодрийяр, по словам которого: «Нынешние вещи наконец стали кристально прозрачны в своем функциональном назначении. Таким образом, они свободны в качестве объекта той или иной функции, то есть обладают свободой функционировать и (в случае серийных вещей) практически не имеют никакой иной свободы» [22, c. 21–22].
Естественно, что вещи, утрачивая свою предметную сущность и переходя в цифровое пространство, приобретают способность коммуницировать с анонимными субъектами, превращающимися в наборы знаков, каковыми, в свою очередь, становятся и сами объекты. Возникает когерентное поле знакового обмена, ярким свидетельством чему выступает так называемый Интернет вещей, который представляет собой, возможно, наиболее яркую примету постсовременной социальной реальности [23]. Суть данного феномена состоит в возможности создания «умных вещей» (становящихся необходимой составляющей как производства, так и повседневного быта), которые не только могут коммуницировать с человеком, но и взаимодействовать друг с другом при выполнении ряда операций, например изготовлении технологически сложных объектов, а также выполнении измерений высокой степени точности.
Иными словами, Интернет вещей может быть с известной долей условности охарактеризован как сфера коммуникации объектов, становящейся возможной благодаря соединению нейронных цепей с электронными сетями, внутри которых, собственно, «живут» умные вещи. Не случайно Маршалл Маклюэн, исследуя возможность появления подобных синтетических образований, видел в них не что иное, как расширение нервной системы человека до вселенских масштабов [24, c. 5]. Это, по мнению некоторых авторов, будет способствовать устранению человека от совершения действий, с одной стороны, требующих особой точности и технологичности, а с другой стороны, имеющих, в условиях современной цифровой экономики, достаточно рутинный характер [25].
Создание пространства Интернета вещей, будучи закономерным результатом развития постиндустриального информационного общества, бесспорно, актуализирует онтологическую суть человека как экзистенциально свободного индивида в системе социального общения, способствуя тем самым преодолению эффекта отчуждения, в котором еще К. Маркс небезосновательно усматривал главную ловушку индустриальной цивилизации [26, c. 96–97]. Цифровизация экономики, следовательно, становится новой ступенью эволюции хозяйства, главной закономерностью которой выступает вовлечение все большего числа вещей в сферу интеллектуальных и физических возможностей человека, способствующее дальнейшей универсализации человеческой субъектности в его хозяйственной деятельности, о чем недвусмысленно, при всей содержательной невнятности, в целом присущей русской религиозно-философской мысли, озабоченной совершенно иной проблематикой, писал С.Н. Булгаков [27, c. 144–146].
Одновременно устранение человека, с присущими ему чувствами, мышлением и волей, из сферы производства может создавать предпосылки для дегуманизации этой последней, где отныне будут царить искусственный разум и цифровые алгоритмы, способные создавать материальные и нематериальные блага без посредства (и, следовательно, без учета насущных потребностей) человека как их конечного адресата и единственного возможного потребителя. Тем самым создаются предпосылки для антагонизма экзистенциальной человеческой сущности и техногенной цифровой среды, представляющей собой ту отчужденную реальность, где ведется игра внешних сил, на кону в которой стоит свобода бытия индивидов.
В своем предельном выражении подобный антагонизм способен вылиться в диктатуру техники, куда более сложной и совершенной, чем те индустриальные автоматы, в засилии которых видели угрозу человеческой личности Г. Уэллс, А. Замятин, О. Хаксли, Дж. Оруэлл и другие авторы антиутопий минувшего столетия. Так, в век постмодерна, на новой стадии эволюционного развития, воспроизводятся, естественно, в совершенно ином качестве, те же социально-антропологические конфликты, которые были присущи индустриальной эпохе, когда, по словам Л.И. Спиридонова, «общество как система вещных отношений еще в большей степени, чем раньше, противопоставила себя человечеству. Противоречие между конкретной жизнедеятельностью людей и абстрактной социальной формой ее осуществления усугубилось до предела. Человек, достигнув небывалых успехов в борьбе с природой, вместе с тем оказался отчужденным от нее, ибо и природа — частная собственность» [28, c. 136–137].
Представляется, что ошибкой Л.И. Спиридонова, следовавшего, в силу условий времени, своеобразно переосмысленной марксистской традиции, являлась попытка связать отчуждение индивида с отношениями частной собственности. Между тем именно эта последняя как неотъемлемый атрибут жизненного мира субъектов выступает той частью материальной реальности, которая рассматривается ими в качестве «своего», естественного продолжения личности, гарантии личной свободы, противопоставляемой неосвоенной природе как «чужому», где индивид, утрачивая человеческие свойства, предстает перед самим же собой в качестве вещи. В цифровую эпоху дематериализация вещей, образующих предметную основу права собственности и его знаковую референцию, приводит к распаду устоявшихся структурных субъектно-объектных связей и, тем самым, к дегуманизации самого индивида.
В этом смысле позволим себе предположить, что именно постиндустриальной эпохе во многом присущи те тенденции, которыми марксисты наделяли коммунистическую формацию как логически и исторически реализованную идею обобществления любой частной собственности, а значит, и упразднения человеческой личности [29, c. 43; 30, c. 398; 31, c. 308–312; 32, c. 20]. На первый взгляд, это свидетельствует о справедливости алармистских концепций, сторонники которых предрекают в качестве закономерного итога рост энтропии, ведущий к своеобразной «тепловой смерти» социальной и правовой вселенной, в соответствии со Вторым началом термодинамики [33], преломленным сквозь призму эволюционных законов. Представляется, тем не менее, что подобные утверждения едва ли справедливы, учитывая неизменное присутствие человеческого начала в культуре, которое делает необходимыми частную собственность и иные институты, обладающие бесконечной способностью к саморазвитию. Последнее же обеспечивает эволюционную динамику общества, правопорядка и государства, выводящую перспективу «конца истории» [34] и торжества обезличенных техногенных структур за пределы серьезного научного обсуждения.
Метаморфозы средств знакового конструирования правовой реальности на современном этапе эволюции семиотических систем
Очевидно, что ключевое значение в условиях цифровой трансформации имеет проблема знаковой коммуникации, решение которой проливает свет в том числе и на перспективы правового развития общества постмодерна. В самом деле, будучи полем коммуникативных взаимодействий, социальная и правовая реальность на каждой ступени эволюции конструируется знаковыми средствами коммуникации, трансформация которых, на наш взгляд, выступает главной движущей силой эволюции общества, права и государства, в том числе в век постмодерна. Следовательно, видоизменения субъектно-объектного измерения правопорядка, о которых велась речь ранее, обусловлены ситуацией, складывающейся в сфере знаковой коммуникации, которая не только предоставляет участникам социального действия возможности для обмена информацией, но и конструирует ту реальность, в рамках которой им приходится действовать, а также взаимодействовать, обеспечивая когерентность социального пространства и правопорядка как его неотъемлемой составляющей.
Как показывал еще М. Вебер, взаимодействия, образующие структуру социального пространства, имеют смысловой характер, будучи релевантно ориентированы на Другого и предполагая, в свою очередь, его ответную осмысленную реакцию [35, c. 83]. По мысли ученого, далеко не всякое массовое действие является социальным, в строгом значении данного понятия. Так, если множество людей, проходя по улице, одновременно раскроют свои зонты под дождем, то такое поведение, при всем его массовом характере, не может считаться социальным, поскольку в нем будет отсутствовать смысловая взаимосоотнесенность действий каждого из участников [36, c. 362]. Таким образом, социальные действия индивидов, в силу своей смысловой релевантности и взаимной соотнесенности, всегда являются актами коммуникации, представляющими собой не только взаимообмен смыслами социального общения, но и передачу известной информации, фиксация которой нуждается в определенных знаково-символических средствах, развитие которых в исторической ретроспективе выступает важным аспектом эволюции правопорядка.
Это смысловое измерение, на наш взгляд, присутствует в структуре любых знаков, означивающих объекты реальности (денотаты) и одновременно конструирующих эти объекты на основе различных культурных релевантностей, проявляется в знаковой структуре, описываемой при помощи семиотического треугольника Ч. Огдена и А. Ричардса [37, S. 25–50; 38]. И хотя ряд семиотиков видит в знаке простое соотношение внешнего акустического выражения (означающего) и психического образа (означаемого), отстаивая двухэлементную концепцию знака [39, c. 69; 40, c. 62], нам, со своей стороны, представляется значительно более продуктивной трехэлементная модель, включающая в семиотическую структуру, наряду с означающим и означаемым, коммуникативную релевантность (смысл) знаков, которая определяет способы его прагматического употребления в общении. Указанный аспект знаковой структуры обусловливает, в частности, многообразие лексикодов, обеспечивающих контекстуальное использование тех или иных знаков, в окказиональных значениях, отличных от основного, словарного значения. Согласно утверждению У. Эко, «в то время как исходные денотативные значения устанавливаются кодом, созначения зависят от вторичных кодов, присущих не всем, а какой-то части носителей языка» [40, c. 71].
Прагматический смысл любых знаков, в отличие от их семантики и синтаксиса, обусловлен не только внутренней логикой структурной организации знаковой системы или конкретными особенностями коммуникативных ситуаций, но и общими социально-историческими и культурными закономерностями эволюции человеческого общения, конструирующего социальное и правовое пространство. Об этом свидетельствует, в частности, то обстоятельство, что на определенных этапах эволюции даже столь абстрактные знаки, как математические числа (а точнее, обозначающие их цифры), наполнялись предметным содержанием, способствующим их соозначиванию базовым концептам, присущим той или иной культуре.
Так, по словам профессора К. Меннингера, многим религиозным культурам прошлого (таким, в особенности, как библейская, христианская, индусская и т.п.) была присуща глубокая убежденность в том, что «люди или вещи, сумма букв в именах которых одинакова, мистически связаны между собой. В Средние века, например, люди „вычисляли“, каков будет результат дуэли или поединка, произвольно складывая буквы в именах противников; считалось, что, у кого сумма больше, тот и победит… „Присвоение чисел буквам“ и „присвоение букв числам“ относилось к искусству изопсефии…, и люди относились к ней со всей серьезностью» [41, c. 327–328]. Наглядное, хотя и во многом ироничное, описание таких языковых игр приводит аргентинский писатель Х.Л. Борхес в своем рассказе «Фунес, чудо памяти», персонаж которого, по имени Иринео Фунес, создал и попытался реализовать проект замены чисел словами, соответствовавшими в своем предметном значении одному из ряда натуральных чисел [42, c. 365].
Результат, как и следовало предположить, оказался плачевным, ибо любые числа, не говоря уже об их бесконечности в ряду, имеют нулевые знаковые референты, не отсылая ни к каким объектам материальной реальности. Лишь для самого примитивного мышления, привыкшего видеть одни только конкретные факты и соотносить их между собой прямым либо ассоциативно связанным образом, число непосредственно указывает на один или несколько предметов, подлежащих исчислению. С другой стороны, всякое слово имеет в качестве означаемого некий класс явлений или объектов, который, при всей его абстрагированности, невозможно обособить от той эмпирической реальности, необходимой частью которой выступают эти объекты или явления.
Вот почему, говоря языком математиков, мощность множества натуральных чисел, не говоря уже о множествах вещественных и комплексных чисел, заведомо превосходит мощность лексического состава всех языков на Земле, несмотря на то что некоторые лингвисты приписывают естественным языкам неограниченные возможности словообразования, т.е. знако- и смыслопорождения [43]. Более того, согласно доказательству знаменитой теоремы Евклида о простых числах, бесконечным является не только множество натуральных чисел, но и каждое из его подмножеств, в частности множество простых чисел. Точно так же обстоит дело с иными числовыми множествами, включая множество комплексных чисел, которые не только являются бесконечными, но и включают в себя бесконечные подмножества (например, подмножество кватернионов и т.п.).
И поскольку из утверждения о равномощности любого подмножества, входящего в множество всех математических чисел, следует логический вывод об их равномощности этому последнему, суммарная (колмогоровская) сложность математических множеств превосходит суммарную сложность лингвистических множеств [44, c. 24–40]. Это объясняется, в частности, тем, что над бесконечными математическими множествами возможна операция объединения (суммирования), тогда как единственно возможными операциями над лексическими единицами различных по составу естественных языков являются их включение и пересечение.
Данный аргумент, на наш взгляд, служит достаточно весомым опровержением гипотезы Э. Сэпира и Б.Л. Уорфа об относительности языковых картин мира [45, c. 242–243; 46, c. 162]3. Это означает, что универсальный метаязык математики в значительно большей степени приспособлен к преодолению информационной энтропии (являющейся неизбежным следствием многообразия семиотических средств), чем естественные языки, использующие в силу ограниченности своих когнитивных и конститутивных возможностей сходные семиотические средства для обозначения одинаковых предметных референтов. Таким образом, в отличие от универсального языка математики, в самом деле, располагающего количественно неисчерпаемыми знаковыми средствами (буквами алфавита, а также их различными сочетаниями), необходимыми для конструирования любых видов реальности, а также каких угодно предметных пространств [47, c. 10], естественные и иные культурные языки пользуются ограниченным набором знаковых конструкций.
Это предполагает стандартность и взаимозаменяемость последних в различных культурных контекстах. Указанное обстоятельство позволяет оспорить утверждения о том, что все элементы культуры (включая право как одну из наиболее важных в практическом плане сфер культурного бытия) имеют всецело относительный и контекстуально детерминированный характер. Так, нельзя согласиться с мнением о неуниверсальности категории прав и свобод, подкрепляемым ссылкой на то, что само слово «свобода» не входит в лексический состав ряда языков, а в тех языках, где это слово присутствует, оно имеет нетождественную семантику. Подобная точка зрения фактически означает, что встречаются правопорядки, в которых не существует никаких субъективных прав, а есть только обязанности и запреты, что едва ли возможно себе представить. Бесспорно, концептосфера различных естественных языков, а следовательно, и связанных с ними культур [48; 49, c. 250; 50, c. 75], на каждой стадии исторической эволюции последних, включает в себя разнородный комплекс специфичных только для соответствующей культуры понятий, в данный момент не имеющих аналогов в других языках [51].
Вместе с тем имеются достаточные основания утверждать, во-первых, что специфичность бытования лингвистических и культурных знаков в том либо ином сообществе носителей имеет не абсолютный, а лишь относительный характер [52, c. 5]4, учитывая активные процессы культурного обмена и заимствования, особенно наглядно проявляющие себя именно в понятийной сфере. Так, например, интернациональными являются такие используемые в действующем российском законодательстве и правовой доктрине специальные юридические термины, как синаллагма (греч. σύναλλαγμη, взаимность, обоюдность), реституция (лат. restitutio, восстановление), астрент (фр. astrente, денежное взыскание, штраф), оферта (англ. offer, предложение) и т.п. Во-вторых, смысловое ядро большинства культур, включающее в себя базовые культурные концепты, которые существенным образом детерминируют поведение носителей соответствующих культур, имеет тождественный характер, в целом не зависящий от различий исторических и социальных условий. Причем в таких специальных сферах, как правовая коммуникация, на заимствование понятий влияет не только ситуация двуязычия, представляющая собой, по мнению исследователей, универсальную предпосылку лексических заимствований [53, c. 61], но и общие потребности коммуникации. Именно они, на наш взгляд, обеспечивают восприятие иноязычной лексики в целях регулирования отношений, освоенных правопорядками, ранее уже достигшими более высокой ступени исторического развития (как, в частности, то же римское частное право, чей лексико-семантический состав был активно заимствован обществами, не имевшими близких культурных контактов с латинской цивилизацией Древнего Рима).
Более того, суть культурного прогресса (одним из закономерных проявлений которого выступает эволюция права) состоит именно в расширении прагматической сферы употребления культурных универсалий, обусловливающего универсализацию знаковой коммуникации. Представляется, что одним из факторов указанного процесса выступает все более активно реализуемая цифровая трансформация коммуникативных взаимодействий, способствующая известному видоизменению знаковых средств социального и юридического общения. Иными словами, результат подобной трансформации предопределен в равной мере эволюцией как знаковых средств естественного языка, так и развитием математических символов, на каждом новом этапе достигающих способности конструировать все более сложные и предметно не реферируемые феномены реальности.
Данное обстоятельство отмечал еще О. Шпенглер, ошибочно связывавший историко-стадиальную динамику математического конструирования реальности с цивилизационными особенностями культуры [54, c. 88 и след.]. Между тем в любых цивилизациях, стоящих на одной ступени эволюционного развития, математическое познание походит одни и те же этапы, характеризующиеся абстрагированием знаков (а именно чисел) от их предметного содержания, позволяющим оперировать указанными знаками для освоения новых сфер конструирования действительности. Неизбежным результатом прогресса подобного конструирования является возможность использования математических знаков для конструирования не только природных, но также социальных и даже культурных феноменов, что, в свою очередь, обусловливает цифровую трансформацию этих последних.
Одним из последствий подобной ситуации становится изменение правовых текстов, специфической особенностью которых, как известно, всегда являлось стремление максимально полным, исчерпывающим образом описать все юридически релевантные варианты поведения [55] адресатов правовых перформативов [56]. Указанная особенность юридических текстов, на наш взгляд, обусловлена стоящей перед ними задачей минимизации информационной энтропии, что является особенно важным в плане конструирования правовой реальности [57, c. 25–27]. Вместе с тем попытка минимизировать неопределенность, присущую правовому поведению индивидов, парадоксальным образом затрудняет восприятие правовых тестов адресатами, вступая в противоречие с задачами правового регулирования. Преодолению указанного противоречия призваны были способствовать разнообразные проекты разработки универсального юридического языка и математизации правовых знаков, реализация которых стала доступной в условиях цифровизации всех сфер общественной жизни, включая, как мы видим, и правовую реальность.
Таким образом, сама принципиальная возможность взаимозамены букв числами и, следовательно, прагматического употребления указанных знаков в одних и тех же культурных контекстах есть результат эволюции знакового конструирования, сделавшей неизбежной ту ситуацию цифровой трансформации языков, а значит, культурной и социальной реальности, с которой человечество столкнулось на современном этапе развития. Не случайно, по мнению ряда исследователей, в киберпространстве на смену нормативному регулированию правовой коммуникации приходит алгоритмизация последнего, осуществляемая при помощи информационных кодов и иных семиотических средств, не имевших аналогов в предшествующие эпохи [58].
Кризис доверия — ключевая проблема цифровой эпохи и способы ее решения
Цифровизация правопорядка не только раскрывает потенциальные возможности его дальнейшего эволюционного развития, но и порождает новые вызовы, преодоление которых приобрело особую актуальность на современном этапе. Среди этих вызовов центральное место занимает делегитимизация правопорядка, обусловленная рассмотренной выше утратой правовой коммуникацией присущей ей формальной (и содержательной) определенности в результате внедрения знаково-символических средств в цифровую среду. Как известно, признак формальной определенности, означающий простоту, понятность и точность применяемых норм [59, c. 51–52], считался теоретиками одной из наиболее важных характеристик права как нормативного образования, отражающих его существенные свойства в условиях правопорядка индустриального общества.
В ситуации, когда усложнились юридические отношения, совокупность которых охватила собой практически все сферы социальной действительности (причем сами эти последние сделались весьма многообразными)5, казуальное регулирование, использовавшееся в относительно простых аграрных сообществах, продемонстрировало свою недостаточную эффективность. Согласно широко распространенному мнению, в условиях современного правового порядка ответом на изменение социальных условий в правовой сфере становится возникновение новых средств знаковой коммуникации, а именно общезначимых юридических норм, обладающих присущими им характеристиками, в том числе свойством формальной определенности, обусловленным такими особенностями нормативного регулирования, как всеобщность действия и системность, то есть логическая взаимосвязанность всех компонентов.
Указанные свойства, как часто полагают, выступают необходимым атрибутом законотворческой деятельности государства, а именно приемов и средств, используемых для придания внешнего выражения содержанию правовых предписаний [61, c. 144; 62, c. 267–268; 63, c. 213, 64; 65, c. 57]. Не случайно юристы эпохи модерна, следовавшие принятой в данную эпоху рационалистической парадигме, с одной стороны, видели в формальной определенности правил необходимое требование, предъявляемое к правовой коммуникации. Так, по словам И.А. Покровского: «Индивид, поставленный лицом к лицу с обществом, государством, имеет право требовать, чтобы ему было этим последним точно указано, чего от него хотят и какие рамки ему ставят. Логически это право на определенность правовых норм есть одно из самых неотъемлемых прав человеческой личности, какое только себе можно представить; без него, в сущности, ни о каком „праве“ не может быть речи» [66, c. 89].
С другой же стороны, основная (если не единственная) предпосылка формальной определенности и, следовательно, эффективности правового регулирования виделась в отработанности приемов и средств юридической техники. Соглашаясь в целом с высказанными суждениями, приходится, тем не менее, сделать важную оговорку, что в условиях неопределенности, сопровождающей скачкообразный переход социокультурной (в том числе правовой) реальности на новую ступень эволюционного развития, когда, как мы видели, даже сами средства общения претерпевают радикальную трансформацию, ни о какой формальной определенности нормативного регулирования зачастую не может вестись речи. Более того, примечательная особенность постсовременного правопорядка состоит в том, что релятивизации подвергаются не только общезначимые суждения, каковыми являются правовые нормы, но и субъективные права (то есть конкретные деонтические высказывания о фактических обстоятельствах). Далеко идущим последствием сказанного становится утрата формальной определенности не только самих субъективных прав, но также и действий по реализации соответствующих прав, а также исполнению обязанностей и соблюдению запретов.
Отметим, что в «нормальной» ситуации, характеризующей любой правопорядок, формальная определенность, то есть типизированность, является важным признаком любых юридически релевантных действий, обеспечивающим сходное поведение различных субъектов прав в тождественных фактических ситуациях. Именно типизация правового поведения является одним из показателей прогресса в сфере юридической коммуникации. Как справедливо отмечает Л.А. Чеговадзе, «действия физических и юридических лиц… — это уже не простая действительность, а фактическая составляющая довольно специфических процессов. И для целей формальной квалификации содеянного юридическая сущность происходящего должна быть типизирована, т.е. понятийно определена и выражена. Следовательно, гражданско-правовое регулирование должно опираться на формальное определение действий гражданско-правового значения и нормативное определение признаков, присущих каждому их виду» [67, c. 83].
Такая схема (применимая не только к гражданскому праву, но и к любой иной отрасли права) работает в стабильном правопорядке, где сложившиеся правоотношения, равно как и права и обязанности их участников, характеризуются устойчивостью, обеспечивающей типизированность действий субъектов по реализации субъективных прав, исполнению обязанностей и соблюдению запретов. Каждое такое действие участниками может быть спрогнозировано и воспроизведено примерно сходным образом. Ситуация, однако, меняется в точках бифуркации, когда социальный порядок претерпевает своего рода «рекурсивное самопреобразование», суть которого состоит в радикальной перестройке общественного организма, появлении принципиально новых, не имеющих аналогов, фактических ситуаций и взаимодействий. Легко видеть, что устойчивость субъективных прав и обязанностей оказывается крайне проблематичной, равно как и эффективность юридико-технических приемов, с помощью которых обеспечивается формальная определенность средств конструирования правового порядка.
Все сказанное ранее заставляет обратиться к рассмотрению более глубокой, психологической предпосылки формальной определенности права, в качестве которой выступает взаимное доверие субъектов правовой коммуникации, легитимирующее правопорядок как таковой. Мы видим, что в условиях цифровой трансформации постсовременного общества наблюдается кризис доверия, требующий новых средств легитимации права, на основе которых может происходить реконструирование правопорядка. Одна из важнейших причин данного кризиса, на наш взгляд, состоит в деперсонализации большинства правовых акторов (прежде всего, государства), порождающей у других субъектов сомнения в реальности существования последних.
Полагаем, что на практике кризис легитимации и утрата взаимного доверия субъектами правового общения проявляется на всех уровнях конструирования правовой реальности. Но, прежде всего, он подрывает устойчивость субъективных прав, образующих базовый (первопорядковый) уровень правовой реальности. Речь идет, в первую очередь, об основных правах и свободах человека и гражданина, закрепленных в Конституции. Представляется, что их делегитимации, в числе прочего, способствует «постмодернистская» идеология, утверждающая неуниверсальность основных прав и свобод человека и гражданина, их зависимость от социально-исторического и цивилизационного контекстов.
Между тем, согласно ст. 2 Конституции Российской Федерации, высшими ценностями правового государства являются человек, его права и свободы6. Еще в XVIII в. (в трудах Дж. Локка, Ш. Монтескье и других европейских мыслителей) была разработана концепция основных прав и свобод, которые имеют естественный неотчуждаемый характер и принадлежат человеку от рождения. В 90-х гг. прошлого века эта концепция была воспринята российскими юристами и конституционным законодательством. Созданию условий для реализации и защиты основных прав и свобод человека и гражданина служит и система организации публичной власти, а именно разделение властей, система сдержек и противовесов, независимость судей и т.п.
Идеология постмодерна предполагает отказ от идеи неотчуждаемых естественных прав индивида (поскольку все естественное, природное стало рассматриваться в качестве разновидности социального и культурного) и провозглашение приоритета групповых и социальных прав. Как следствие, трансформируются природа публичной власти и система государства. Речь, в частности, идет о выделении, по преимуществу доктринальном, «нетипичных» ветвей власти, к числу которых относят президента, прокуратуру, иные контрольно-надзорные органы государственной власти и т.п. [68].
Характерной особенностью ситуации «новой реальности» является качественное преобразование правового порядка и политической системы, появление новых сфер регулирования и отношений, не имеющих аналогов в современном обществе. Речь идет, в частности, о цифровизации большинства сфер жизни общества (экономической, политической, правовой) и о внедрении виртуальных объектов в качестве необходимой составляющей повседневной жизни. Под влиянием указанных факторов социальные взаимодействия охватывают все более широкий круг субъектов, причем те отношения, которые ранее требовали непосредственного участия (например, трудовые отношения, гражданские договоры и т.п.), теперь переносятся в виртуальную сферу. Одновременно распадаются межличностные контакты, ранее составлявшие фундамент общественного порядка. Взаимодействия, в том числе политические и правовые, становятся обезличенными, что, в свою очередь, создает неопределенность, обусловленную отсутствием обратной связи субъектов социального общения. Правовыми и политическими последствиями «новой реальности» становятся нарастание нестабильности, перманентность чрезвычайных ситуаций, в которых девиантное поведение приобретает широкое распространение, создавая угрозу выживанию общества [69].
В середине прошлого века, по итогам двух мировых войн сформировался своеобразный идейный консенсус, цель которого состояла в том, чтобы предотвратить возможность возрождения тоталитарных диктатур, приведших человечество к катастрофе. Суть данного консенсуса состояла в признании субъектности как человека, так и государства. Человек в юридических документах, принятых после Второй мировой войны (прежде всего, во Всеобщей декларации прав человека 1948 г. и ряде принятых на ее основе международно-правовых актов), рассматривался не в качестве члена сообществ, но как автономная личность, обладающая свободной волей, самостоятельностью и неотчуждаемыми правами7.
В свою очередь, и государство как структура политической власти, обладая свойствами субъектности, включая правосубъектность, взаимодействовало с индивидами как участник политического и правового общения. Именно на признании субъектности личности и государства основывалась их взаимная ответственность. Трансформация социальных связей, а также деперсонификация указанных субъектов в эпоху постмодерна породили их отчуждение и дефицит обоюдного доверия. Задача (в том числе научного познания) состоит, следовательно, в возрождении доверия на новой основе и налаживании диалога государства и личности.
Цифровизация средств знаковой коммуникации в информационном обществе открывает новые перспективы для достижения консенсуса и создания эффективных механизмов принятия решения, базирующихся на учете мнения и соблюдения прав каждого из субъектов. Несовершенство способов формирования и выражения воли индивидов в рамках коллективных образований (будь то частное сообщество, юридическое лицо, муниципальное образование или государство) являлось сложной и трудно разрешимой проблемой политических и правовых систем — от античности до эпохи Нового времени. Данная проблематика находилась в центре внимания политических философов прошлого, а также современных авторов, прежде всего таких, как Ю. Хабермас [70, S. 367–453].
Развитие цифровых средств связи, достоинства и недостатки которых особенно наглядно проявили себя в условиях пандемии Sars-CoV-2, способствует выработке новых способов и форм правовой коммуникации, вовлекающей все более широкий круг субъектов. Становление институтов электронной демократии, а также цифровизация взаимодействий (договорных, судебных и т.п.) в сфере частного права, с одной стороны, позволяют вовлечь в сферу принятия решений каждого члена общества, способного внятно выразить свою волю. С другой стороны, появляются новые способы манипуляции общественной и индивидуальной волей, инструменты противодействия которым на данный момент не апробированы. Данная проблема приобретает особую актуальность и служит предметом дискуссии.
Следствием социальной неопределенности эпохи постмодерна становится релятивизм, проистекающий из контекстуальной обусловленности правовых и политических понятий (в том числе таких фундаментальных для современного общества, как демократия, свобода, права человека и проч.). Сторонники правового релятивизма выдвигают лозунг неуниверсальности данных понятий, которые в различных обществах реализуются различным, принципиально неоднозначным образом. Отсюда следует вывод о том, что правовые универсалии представляют собой не что иное, как абстракции, которые, в зависимости от контекста, наполняются неодинаковым и даже неоднозначным содержанием. Господствующие в ту или иную эпоху представления о праве объявляются итогом консенсуса, согласования позиций членов общества по принципиальным мировоззренческим позициям.
Такой подход, на первый взгляд, кажется плодотворным, поскольку способствует признанию равноценности любых точек зрения и стимулирует диалог по вопросам, имеющим принципиальное значение для правопорядка. С другой же стороны, отрицание универсальных ценностей и базовых закономерностей правового и социального развития контрпродуктивен, с научной точки зрения, и создает угрозы в практическом плане, лишая общество ориентиров устойчивого развития. Задача познания состоит, следовательно, в выявлении пределов контекстуальной обусловленности политико-правовой коммуникации и в описании системы универсальных категорий, значимых в любых конкретных социально-исторических условиях.
Со своей стороны, мы полагаем, что единственный способ преодоления утраты доверия, характерной для социокультурной ситуации эпохи постмодерна, состоит в переоформлении правопорядка на тех началах, которые при любых условиях сохраняют свою релевантность для всех участников правовой коммуникации. Представляется, что важнейшим из таких начал является неизменная онтологическая сущность человека как свободного и автономного существа, на основе которой конституируются все иные социально-юридические феномены, прежде всего, иные правовые акторы, не обладающие личностными свойствами и способностью к самостоятельному формированию и выражению воли.
Собственно, и само право, как в объективном, так и в субъективном смыслах, в его онтологическом измерении представляет собой способ организации универсально-всеобщей и индивидуальной свободы коммуницирующих индивидов. Только человек является как экзистенциально, так и социально свободным индивидом. Иначе говоря, в отличие от иных субъектов, чья способность к действованию представляет собой конкретное проявление той меры свободы, которая характеризует правопорядок, человек экзистенциально свободен в смысле его независимости от внешних обстоятельств8, а потому любые действия человека обладают «произвольностью», собственно, и предопределяющей возможность и необходимость права как способа социальной регуляции. Именно с этой экзистенциальной свободой связана и свобода социальная, представляющая собой необходимое условие для обоюдного признания индивидов как членов сообщества и участников правового общения, гарантирующего их от произвола носителей публичной политической власти [71, c. 9–18].
Именно по этой причине не только человек выступает исторически первичным и естественным субъектом любых отношений, складывающихся в рамках правопорядка, но и неизменно присущая ему свобода является той основой, на которой субъектами правового общения конструируется правопорядок на любом конкретно-историческом этапе эволюции последнего. Прежде всего, «по образу и подобию» человека правопорядком создаются юридически релевантные личности, которые, с точки зрения естественной установки, не наделены субъектностью. История свидетельствует о том, что на каждой последующей стадии эволюции права круг таких субъектов расширяется: в разные эпохи правовой субъектностью наделялись коллективы людей (общины, корпорации и т.п.), юридические лица и, наконец, государство, не позднее XVIII в. обособившееся от физической личности монарха и ставшее позднее абстрактным деперсонифицированным субъектом.
В цифровую эпоху, когда возникают предпосылки для наделения свойствами субъектов права кибернетических организмов, компьютерных программ и иных сущностей, ранее относившихся к числу объектов, вновь встает вопрос о взаимном признании свободы участников правового общения и качественном переформатировании правопорядка на основе такого взаимного признания. Думается, что именно в этом состоит источник легитимации постсовременного правопорядка и, следовательно, условие преодоления утраты доверия, о которой идет речь.
Заключение
Право цифрового общества представляет собой новую стадию эволюции права, в полной мере воплотившую в себе проблемы и противоречия эпохи постмодерна и являющуюся ответом на эти вызовы. Представляется, что сама неопределенность постмодерна в значительной мере способствовала цифровизации и системы субъективных прав. В самом деле, поскольку субъективные права участников юридического общения, образующие основу правопорядка, представляют собой выражение их воли, а формирование этой последней становится затруднительным в условиях неопределенности, возникает потребность в средствах, делающих возможной максимально полную и недвусмысленную реализацию любого субъективного права, будь то право публичное или частное. Именно указанной потребностью во многом определяется использование цифровых средств коммуникации в правовых взаимодействиях, ставшее предпосылкой цифровизации постсовременного правопорядка.
Несложно заметить, что внедрение цифровых технологий в сферу юридического общения стало закономерным этапом эволюции знаковых средств связи, для которого характерно увеличение скорости обмена информацией между коммуникантами и увеличение числа этих последних. Более того, существует прямая корреляция между стадиальным развитием семиотических систем как одним из аспектов культурной эволюции и появлением новых участников знаковой коммуникации. Одновременно и сами знаково-символические средства приобретают способность к означиванию, наряду с конкретными объектами, различных их классов, увеличивающую объем передаваемой информации. Так, одной из важнейших тенденций эволюции средств коммуникации является, на наш взгляд, абстрагирование смысла знаковых сигнификатов и утрата ими непосредственной связи с предметными референтами, что дает возможность использовать одни и те же знаки для передачи информации о различных объектах, напрямую не связанных между собой.
Аналогичная тенденция имеет место в естественных языках, в которых с переходом на новую стадию преобразуются как синтаксические структуры, так и семантика средств семиотического выражения на всех системных уровнях. Что касается синтаксических структур, то, как показал Э. Ауэрбах, по мере развития языков в диахронной ретроспективе, гипотаксис хотя и не занимает место паратаксиса в качестве основного средства структурной организации текстов (подобное утверждение было бы заведомо поверхностным и ненаучным), но, по крайней мере, становится превалирующей синтаксической структурой [72]. Так, если в ранних литературных текстах, таких как Ветхий Завет, Одиссея, Песнь о Роланде и т.п., безусловно преобладали паратаксические синтаксические связи, то современная литература активно применяет паратаксис и гипотаксис в их различных соотношениях. Это позволяет современной художественной литературе максимально полно отображать, а точнее — конструировать, действительность, воплощая ее существенные, скрытые от непосредственного наблюдения свойства.
Сходные эволюционные процессы можно констатировать и в семантическом плане. На ранних этапах эволюции знаки, опосредствующие социокультурную, в том числе правовую, коммуникацию, отсылали к конкретным предметам внешнего мира, при этом связь между этими последними обеспечивалась исключительно ассоциативно-образными средствами. Важнейшими из таких средств были риторические фигуры, а именно синекдоха, являвшаяся исходным в историческом плане семантическим приемом, а также производные от нее метафора, метонимия и иные тропы, предметность которых в полной мере соответствовала конкретике архаического мышления, обеспечивавшего когерентность социокультурной реальности.
В эпоху Нового времени средства знаковой коммуникации приобретают общезначимость, проявляющуюся во всех сферах культурного общения, от математики до художественной литературы. Знаки языка (будь то язык чисел или слов) обособляются от конкретных объектов и приобретают абстрактный характер. Яркой иллюстрацией сказанному служит развитие математических идей, а именно движение от наглядности античной (евклидовой) математики, оперировавшей конкретностью геометрических фигур, к операциям с классами объектов, детально разработанным в трудах математиков XVIII столетия, таких как П. Лаплас, Ж. Лагранж, Л. Карно, Л. Эйлер и др. Достижения математики и иных видов культурного творчества эпохи Нового времени стали возможными исключительно благодаря унификации и нормированию культурных языков, включая языки не только математики, но и права.
Цифровизация культуры и социального пространства повлекла за собой дальнейшее абстрагирование средств знаковой коммуникации от предметной реальности. Цифра, опосредствуя процессы общения, распредмечивает любые объекты и анонимизирует участников последнего. Данное обстоятельство в полной мере влияет на правопорядок, представляющий собой упорядоченную систему правовых отношений, на основе которых конструируется правовая система общества. Под влиянием цифровизации эти отношения трансформируются во всех своих аспектах, а именно в плане субъектов, объектов, субъективных прав и обязанностей. Как было показано в настоящем исследовании, субъекты правовой коммуникации виртуализируются, утрачивая естественно присущие им свойства.
Речь идет, прежде всего, о таких сконструированных образованиях, как юридические лица и государство. Мы видели, что перевод данных конструкций в цифровую сферу стал непосредственной причиной утраты ими большинства тех признаков, которыми они традиционно обладали в век модерна. Так, государство в постсовременном мире, лишаясь привязки к определенной территории, верховенство публичной власти над которой оно осуществляет, трансформируется в сетевую структуру, состоящую как из вертикальных, так и из горизонтальных связей. При этом в трансграничном пространстве виртуального (цифрового) государства данные связи становятся всепроникающими.
Субъекты политического общения, участвующие в игре, тотально вовлечены в данные процессы, становясь при этом все более обезличенными и неуловимыми. Сходные трансформации претерпевают юридические лица, которые ранее были персонифицированными имущественными комплексами. По мере цифровизации имущества юридические лица утрачивают свою субъектность, становясь анонимными участниками отношений, складывающихся в виртуальной сфере. Таким образом, деперсонализация в цифровую эпоху затронула практически всех субъектов правоотношений, становясь непосредственной предпосылкой кризиса доверия, характеризующего правопорядок.
Все ранее сказанное свидетельствует о необходимости восстановления тех связей, которые составляли основу правопорядка и распад которых был предопределен основными тенденциями, о которых шла речь в настоящей статье, а именно анонимизацией субъектов и развеществлением объектов прав. В этих условиях, как представляется, основной предпосылкой преодоления кризиса доверия, характеризующего цифровое общество, является неуклонное соблюдение прав и свобод человека. Именно они выступают теми знаковыми средствами, которые лежат в основе конструирования правопорядка и обеспечивают его когерентность в ситуации неопределенности цифровой эпохи.
1 Szabo N. Smart Contracts. URL: https://www.fon.hum.uva.nl/rob/Courses/InformationInSpeech/CDROM/Literature/LOTwinterschool2006/szabo.best.vwh.net/smart.contracts.html (дата обращения: 19.12.2021).
2 Стоит, однако, отметить, что, поскольку свои эпохи античности существовали и в иных культурно-исторических условиях, аналогичные переходы происходили и там (например, в Индии VI в., в Китае IV–V вв., в Империи Сасанидов и на Ближнем Востоке накануне арабского завоевания), на что автор, руководствуясь марксистской парадигмой, особого внимания не обращает.
3 Думается, что, не будучи профессиональным лингвистом, Б. Уорф неверно интерпретировал идеи Сэпира, сформулированные весьма осторожно и имеющие под собой серьезные основания, придав им тот гипертрофированный смысл, который сам основоположник «гипотезы лингвистической относительности» вовсе не подразумевал.
4 Вопреки ошибочному утверждению Ю.С. Степанова, полагающего, что даже базовые категории мышления и языка (такие, в частности, как причинность), имеют культурную детерминацию. Это соблазнительное и самоочевидное, на первый взгляд, суждение не находит подтверждений на всем массиве фактического материала [52, c. 5].
5 Руководствуясь наглядной, хотя и не вполне корректной, органической метафорой, совокупность правовых связей в любом человеческом сообществе можно сравнить с кровеносной системой, пронизывающей все его органы и ткани. Отсюда следует, что развитие общества и возникновение новых сфер социальной коммуникации неизбежно приводит к появлению новых видов правовых отношений, не имевших аналогов ранее. Отметим, что, несмотря на сомнительность «органической метафоры», ее эвристические возможности использовал и Л.И. Спиридонов, говоря о социальном организме (целостности), в обеспечении объективных предпосылок существования которого состоит генеральная функция государства [60, c. 10, 47].
6 Конституция Российской Федерации: Принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе всенародного голосования 01.01.2020 // СЗ РФ. 2020. № 11. Ст. 1416.
7 Всеобщая декларация прав человека. Принята Генеральной ассамблеей ООН 10.12.1948 // Российская газета. 1995. № 67.
8 Под независимостью от внешних обстоятельств здесь, естественно, подразумевается не полная безотносительность к ним, но опосредствованность естественных стимулов в поведении сознанием и свободной волей человека. Лягушка ловит муху не потому, что таково осознанно принятое ею решение (например, под влиянием голода или иных мотивов, хотя бы и физиологического характера), но потому, что появление мухи в поле зрения лягушки, побуждаемой голодом, автоматически порождает соответствующую реакцию организма. Напротив, поведение человека, сколь бы «рефлекторным», на первый взгляд, оно ни было, всегда предопределяется сложным комплексом волевых, ментальных, социокультурных и иных факторов, позволяющих хотя бы в известных, крайне ограниченных, пределах делать осмысленный выбор из нескольких вариантов поведения даже в тех случаях, когда на него воздействуют естественные, в том числе очень сильные, стимулы, подобные голоду, страху и т.п.
Об авторах
Николай Викторович Разуваев
Северо-Западный институт управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы РАНХиГС при Президенте РФ
Автор, ответственный за переписку.
Email: nrasuvaev@yandex.ru
доктор юридических наук, доцент
Россия, Санкт-ПетербургСписок литературы
- Рено А. Эра индивида. К истории субъективности. СПб.: «Владимир Даль», 2002. 474 с.
- Родионова О.М. Гражданско-правовая природа последствий заключения смарт-контрактов // Пробелы в российском законодательстве. 2017. № 6. C. 184–187.
- Чураков Р.С. Эскроу-счет по российскому праву // Закон. 2007. № 8. С. 27—34.
- Буркова А.Ю. Эскроу-счета: перспективы в российском законодательстве // Законы России: опыт, анализ, практика. 2009. № 1. С. 53–56.
- Дубнова Д.К. Эскроу счет в российском праве // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2016. № 5 (112). С. 83–86.
- Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М.: Добросвет, 2000. 387 с.
- Талапина Э.В. Право и цифровизация: новые вызовы и перспективы // Журнал российского права. 2018. № 2. С. 5–15.
- Савельев В.А. Договорное право 2.0: «умные» контракты как начало конца договорного права // Вестник гражданского права. 2016. № 3. C. 32–60.
- Честнов И.Л. Правовая коммуникация в контексте постклассической эпистемологии // Известия высших учебных заведений. Правоведение. 2014. № 5 (316). С. 31–41.
- Кант И. Основы метафизики нравственности // Кант И. Соч. В 6 т. Т. 4. Ч. 1. М.: «Мысль», 1965. 543 с.
- Разуваев Н.В. Размышления о личностном самосознании в античной литературе // Платон. История, право, политика. 2017. № 2. С. 20–33.
- Смирин В.М. Сравнение со смертью в языке римских юристов («Рабство мы обыкновенно сравниваем со смертью») // Вестник древней истории. 1996. № 1. С. 136–141.
- Morabito M. Les réalités de l’esclavage d’après le Digeste. Besançon; Paris: Université de Françe-Comte; Les Belles-Lettres Alub, 1981. 367 p.
- Культура Древнего Рима / Отв. ред. Е.С. Голубцова. Т. II. М.: «Наука», 1985. 397 с.
- Solaiman S.M. Legal personality of robots, corporations, idols and chimpanzees: a quest for legitimacy // Artificial Intelligence and Law. 2017. Vol. 25. № 2. P. 155–179.
- Понкин И.В., Редькина А.И. Искусственный интеллект с точки зрения права // Вестник РУДН. 2018. Т. 22. № 1. С. 91–109.
- Худякова Е.А. К вопросу о правовом статусе искусственного интеллекта // Вопросы российской юстиции. 2020. № 5. С. 366–373.
- Андерсон П. Переходы от античности к феодализму. М.: ИД «Территория будущего», 2007. 282 с.
- Римское частное право / Под ред. И.Б. Новицкого, И.С. Перетерского. М.: КНОРУС, 2014. 608 с.
- Нерсесянц В.С. Право — математика свободы. Опыт прошлого и перспективы. М.: Юристъ, 1996. 157 с.
- Кухта М.С. Дизайн в информационном обществе: исчезающая функция вещи // Труды Академии технической эстетики и дизайна. 2014. № 2. С. 36–38.
- Бодрийяр Ж. Система вещей. М.: «Рудомино», 2001. 168 c.
- Van Kraenkenburg R. The Internet of Things. A Critique of Ambient Technology and the All-Seeing Network of RFID. Amsterdam: Institute of Network Culture, 2008. 60 p.
- Маклюэн Г.М. Понимание медиа: Внешние расширения человека. М.; Жуковский: «Канон-Пресс-Ц», «Кучково поле», 2003. 464 c.
- Ashton K. That “Internet of Things” Thing // RFID Journal. 2009. № 22 (7). P. 97–114.
- Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 года // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2 изд. Т. 42. С. 41–174.
- Булгаков С.Н. Философия хозяйства // Булгаков С.Н. Соч. В 2 т. Т. 1. Философия хозяйства. Трагедия философии. М.: «Наука», 1993. 603 c.
- Спиридонов Л. И. Избранные произведения по теории права. СПб.: Знание, 2010. 523 c.
- Маркс К., Энгельс Ф. Манифест коммунистической партии. М.: Политиздат, 1982. 63 c.
- Ленин В.И. О задачах Наркомюста в условиях новой экономической политики // ПСС. Т. 44. С. 396–400.
- Троцкий Л.Д. Военный коммунизм // Троцкий Л.Д. Соч. Т. XII. Основные вопросы пролетарской революции. М.; Л.: Госиздат, 1925. С. 308–312.
- Алексеев В.П. Становление человечества. М.: Политиздат, 1984. 462 с.
- Второе начало термодинамики: Сади Карно, В. Томсон-Кельвин, Р. Клаузиус, Л. Больцман, М. Смолуховский. М.: Гостехиздат, 1934. 311 с.
- Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. М.: АСТ, 2010. 588 с.
- Вебер М. Хозяйство и общество: очерки понимающей социологии. Т. 1. Социология. М.: Изд. дом Высш. школы экономики, 2016. 448 с.
- История теоретической социологии. В 4 т. / Отв. ред. Ю.Н. Давыдов. Т. 2. М.: «Канон+», ОИ «Реабилитация», 2002. 553 с.
- Frege G. Über Sinn und Bedeutung // Zeitschrift für Philosophie und Philosophische Kritik. 1892. № 100. S. 25–50.
- Ogden C.K., Richards I.A. The Meaning of Meaning. New York: Harcourt, Brace & World Inc., 1923. 576 p.
- Соссюр Ф. Курс общей лингвистики. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 1999. 425 с.
- Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. СПб.: Symposium, 2006. 574 с.
- Меннингер К. История цифр. Числа, символы, слова. М.: ЗАО Ценрполиграф, 2013. 543 с.
- Борхес Х.Л. Соч. В 3 т. Т. 1. Эссе. Новеллы. М.: Изд-во «Полярис», 1997. 607 с.
- Гринберг Дж. Антропологическая лингвистика. Вводный курс. Изд. 2-е. М.: Едиториал УРСС, 2009. 224 c.
- Верещагин Н.К., Успенский В.А., Шень А. Колмогоровская сложность и алгоритмическая случайность. М.: Изд. МЦНМО, 2013. 576 c.
- Сэпир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. М.: Изд. группа «Прогресс», 2001. 656 с.
- Уорф Б.Л. Отношение норм поведения и мышления к языку // Языки как образ мира. М.; СПб: ООО «Изд-во АСТ», Terra Fantastica, 2003. С. 157–201.
- Мартин-Лёф П. Очерки по конструктивной математике. М.: «Мир», 1975. 136 с.
- Лихачев Д.С. Концептосфера русского языка // Известия РАН. Сер. литературы и языка. 1993. Т. 52. № 1. С. 3–9.
- Лотман Ю.М. Семиосфера. СПб.: «Искусство – СПб», 2000. 704 с.
- Прохоров Ю.Е. К проблеме «концепта» и «концептосферы» // Язык, сознание, коммуникация. Вып. 30 / Отв. ред. В.В. Красных, А.И. Изотов. М.: МАКС Пресс, 2005. С. 74–94.
- Гачев Г.Д. Ментальности народов мира. М.: Алгоритм, Эксмо, 2008. 544 с.
- Степанов Ю. С. Концепт «причина» и два подхода к концептуальному анализу языка — логический и сублогический // Логический анализ языка. Культурные концепты. М.: Наука, 1991. С. 5–14.
- Хауген Э. Языковой контакт // Новое в лингвистике. Вып. VI. Языковые контакты. М.: «Прогресс», 1972. С. 61–80.
- Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. Т. 1. Образ и действительность. Мн.: ООО “Попурри», 1998. 668 с.
- Ушаков А.А. Очерки советской законодательной стилистики. Пермь: Изд. Пермск. гос. ун-та, 1967. 206 с.
- Остин Дж. Слово как действие // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVII. Теория речевых актов. М.: «Прогресс», 1986. С. 22–129.
- Режим законности в современном российском обществе / Под науч. ред. И.Л. Честнова. СПб.: ИВЭСЭП, Знание, 2004. 150 с.
- Lessig L. Code and Other Laws of Cyberspace. New York: Basic Books, 1999. 320 p.
- Бошно С.В. Норма права: свойства, понятие, классификация и структура // Право и современные государства. 2014. № 4. С. 49–60.
- Спиридонов Л.И. Теория государства и права. М.: «Проспект», 2001. 304 с.
- Нашиц А. Правотворчество. Теория и законодательная техника. М.: «Прогресс», 1974. 256 c.
- Алексеев С.С. Общая теория права. Курс в 2 томах. Т. II. М.: Юрид. лит., 1982. 360 c.
- Тихомиров Ю.А. Теория закона. М.: Наука, 1982. 257 c.
- Керимов Д.А. Культура и техника законотворчества. М.: Юрид. лит., 1991. 160 c.
- Кочубей А.Г., Болдырев С. Н. Законодательная техника в юридической науке: теоретико-правовые особенности // Философия права. 2015. № 1 (68). С. 56–60.
- Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права. М.: Статут, 1998. 353 с.
- Чеговадзе Л.А. О формальной определенности действий субъектов гражданского права // Законы России: опыт, анализ, практика. 2012. № 11. С. 82–88.
- Голубева Л.А. Нетипичные ветви государственной власти // Ученые записки. СПб.: РГПУ им. А. И. Герцена, 2008. С. 96–105.
- Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну. М.: Прогресс-Традиция, 2000. 384 с.
- Habermas J. Theorie des kommunikativen Handelns. Bd. 1 Handlungsrationalität und gesellschaftliche Razionalizierung. Frankfurt am Main: Zurkampf, 1981. 534 S.
- Поляков А.В. Коммуникативный смысл действительности права, его признания и идеи справедливости // Правовая коммуникация государства и общества: отечественный и зарубежный опыт. Воронеж: Изд. «Наука-ЮНИПРЕСС», 2020. С. 9–18.
- Ауэрбах Э. Мимесис. Изображение действительности в западноевропейской литературе. М.: ПЕР СЭ; СПб.: Университетская книга, 2000. 512 с.
Дополнительные файлы