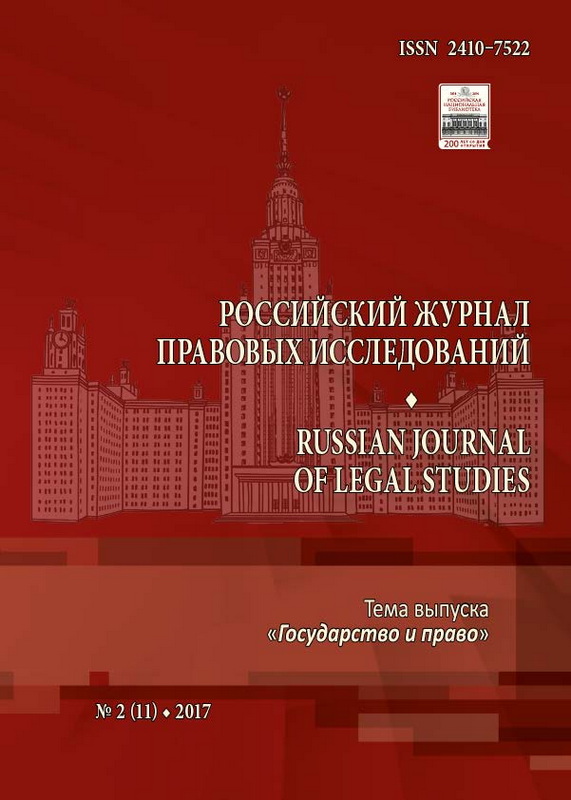Realizatsiya printsipa samoopredeleniya narodov i nalogovoe pravo: opyt Gruzii
- 作者: Shepenko RA1
-
隶属关系:
- 期: 卷 4, 编号 2 (2017)
- 页面: 81-90
- 栏目: Articles
- ##submission.dateSubmitted##: 03.12.2019
- ##submission.datePublished##: 15.06.2017
- URL: https://journals.eco-vector.com/2410-7522/article/view/18314
- DOI: https://doi.org/10.17816/RJLS18314
- ID: 18314
如何引用文章
全文:
详细
Колониальная политика, войны и сопутствующие процессы оказали влияние на развитие права в целоми на налоговое право в частности. Под их влиянием действию правовых норм в пространстве придавался расшири-тельный или ограничительный эффект. Сегодня в налоговом праве можно выделить две составляющие ограничения дей-ствия норм в пространстве: внутреннюю и внешнюю. Основанием для такого ограничения может выступать реализа-ция некоторых правовых принципов. В настоящей статье рассматриваются отдельные вопросы реализации принципасамоопределения народов и связанные с этим последствия для налогового права Грузии.
全文:
Право, будучи регулятором общественных отношений, представляет собой достаточно непростое явление нашей жизни. Подтверждением тому может служить известная, но не всегда верно понимаемая максима «закон - не есть право». Сложность права выражается и в его действии. Нормативные акты имеют временные, пространственные и субъективные пределы своего функционирования. От того, когда вступает в действие нормативный акт, на какую территорию он распространяется, в определенной степени зависит эффективность юридических норм, достижение целей правового регулирования. Признано, что для каждой отрасли права проблема оптимизации «пространства» в праве имеет сугубо самостоятельное значение и свои особенности протекания. Вопрос действия правовой нормы в пространстве актуален и для налогового права, хотя российскими исследователями больше внимания уделяется действию правовой нормы во времени. В налоговом праве можно выделить две составляющие действия нормы в пространстве: внутреннюю и внешнюю. Внутренняя составляющая заключается в том, что ограничено действие нормативных актов политических единиц государства или территории. Так, в п. 2 и 3 ст. 3 Закона Грузии 2009 г. «О нормативных актах» провозглашено, что нормативные акты автономной республики и нормативные акты местного самоуправления действуют и обязательны для исполнения на всей территории автономной республики и местной самоуправляющейся единицы, соответственно, кроме случаев, определенных законом. В п. 4 ст. 5 Органического закона Грузии 2014 г. «Кодекс местного самоуправления» закреплено, что полномочия органов местного самоуправления не распространяются на свободные индустриальные зоны. Внешняя составляющая заключается в том, что ограничено действие нормативных актов государства или территории. Колониальная политика, войны и сопутствующие процессы оказали влияние на развитие права в целом и на налоговое право в частности. Под их влиянием действию правовых норм в пространстве придавался расширительный или ограничительный эффект. Интересная особенность состоит в том, что в XII-XIII вв. Грузия и Армения были политически объединены под скипетром грузинской ветви Багратидов, действовали общие налоговая система и денежное обращение. В Свод законов Российской Империи (изд. 1835 г.) не включались многие законы, действовавшие на отдельных территориях российской империи - в Прибалтике, Польше, Финляндии, на Кавказе. В Грузии некоторое время после принятия протектората России продолжали руководствоваться обычаями и Уложением царя Вахтанга VI. Такие особенности действия правовой нормы в пространстве существуют и сегодня. Достаточно иллюстративными примерами являются отношения между КНР, Гонконгом и Макао. Основанием для ограничения действия норм налогового права в пространстве может выступать реализация отдельных правовых принципов. В качестве примера, который обычно не ассоциируется с налоговым правом, можно указать на реализацию принципа самоопределения народов. Право на самоопределение довольно единодушно признано в международном праве, но, тем не менее, имеет место полемика о последствиях, которые могут быть связаны с ним. Проблема заключается в том, что право на самоопределение не стоит особняком, а должно реализовываться с учетом принципа территориальной целостности. Собственно говоря, эти два принципа считаются правовой антиномией, которая не может быть легко согласована. Помимо правового вопроса о соотношении принципов существует и проблема искажений и вопрос действительного содержания отдельных требований. Это указывает на особый статус принципа самоопределения народов среди других принципов международного права и, одновременно, на его сложность. В середине 90-х годов XX в. это иногда даже озадачивало студентов на экзаменах по международному публичному праву, поскольку многие из них приехали из республик Советского Союза и знали действительное положение не по декларациям и учебникам. Принцип самоопределения народов часто связывается с именем В.И. Ленина. Стандартный тезис советской литературы заключался в следующем: «Ленин определил путь решения национального вопроса в России на базе самоопределения народов в соответствии с принципами пролетарского интернационализма». Неудивительно, что данный принцип фигурирует в п. 4 гл. III Конституции РСФСР 1918 г. и в последующих документах. По мнению Э. Геллнера, недооценка национализма - это общая слабость двух традиций - марксистской и либеральной, и в этом заблуждении они единодушны. В двух величайших войнах нашего столетия никому не удалось обнаружить ни буржуазного, ни пролетарского интернационализма. К.С. Гамсахурдия еще в мае 1922 г. писал Ленину: «Насколько русский коммунизм противостоит идеологии Антанты, настолько коммунистическая Россия должна понять, что в XX столетии игнорировать национальные штрихи и нюансы невозможно… Скажите и напишите тифлисским политиканам, которые оказывают медвежью услугу коммунистической России: все можно отнять у личности и народа, но его национальное самосознание - никогда». Национальные вопросы оказались среди важных факторов, разваливших СССР, что подтверждается опытом некоторых республик, включая государства Балтии и Грузию, которые заявили о независимости еще до этого развала. К этому следует добавить и поспешные обещания: в ст. I Договора между Демократической Республикой Грузия и РСФСР (Москва, 1920 г.) было заявлено, что Россия безоговорочно признает независимость и самостоятельность Грузинского государства, отказывается добровольно от всяких суверенных прав, кои принадлежали России в отношении к грузинскому народу и земле. Этот договор упоминают при каждом удобном случае как грузинские юристы, так и политики. Утопии непрофессионалов, отдельные из которых еще и к власти пришли, обернулись в скором времени людскими трагедиями. Как скажет позднее В.В. Путин, крушение Советского Союза было крупнейшей геополитической катастрофой века. Для российского же народа оно стало настоящей драмой. Десятки миллионов наших сограждан и соотечественников оказались за пределами российской территории. Многие были вынуждены покинуть родные места. Так, в первый период независимости (1991-1996 гг.) из Грузии выехало навсегда 1,1-1,3 млн человек. В отличие от Курильских островов, Латвии, Литвы, Тувы, Эстонии и Южного Сахалина, Грузия не упоминалась наряду с СССР в американском списке государств и районов под коммунистическим контролем, использовавшемся в том числе для целей поправки Джексона-Вэника. Однако она стала второй республикой (после Литвы), вышедшей (или выведенной) из состава СССР, но признано, что она первая объявила о своей независимости. По личным впечатлениям, Грузинская ССР была ярко выраженной многонациональной республикой, но с заметным превалированием по языковому принципу титульной нации. Правда, не без исключений. Так, во второй половине 80-х годов XX в., расположенное на границе с Турцией село Цхалтбила было населено армянами, и поговаривали, что только пекарь был грузином. По данным иностранных источников, в это время население Грузии составляло 5,2 млн человек, из них грузины - 68,8%, армяне - 9%, русские - 7,4%, азербайджанцы - 5,1%, осетины - 3,2%, абхазы - 1,7%. Известно, что, выступая летом 1988 г. в Москве на пятом заседании Всесоюзной конференции КПСС, первый секретарь ЦК Компартии Грузии Д.И. Патиашвили отмечал: «Нельзя не отдать должного нашим успехам в подъеме национального самосознания, культуры всех наций и народов. Только в Грузии обучение ведется на восьми языках. Газеты, журналы, книги выходят на шести, на семи ведутся радиопередачи. Нам действительно есть чем гордиться перед цивилизованным миром». К тому моменту некоторые национальные движения наравне с чисто демократическими уже выдвинули узко-националистические лозунги, требуя закрыть все негрузинские школы, ликвидировать автономные образования и принять специальный акт о независимости Грузии и выходе ее из состава СССР. Сын начал доказывать правоту слов отца, адресованных вождю мирового пролетариата, а на торжествах стал обязательным тост за Грузию. Явной точкой отсчета стало 9 апреля 1989 г., когда был разогнан митинг в Тбилиси у Дома Правительства против так называемого «Лыхненского обращения» в ЦК КПСС с требованием вывода Абхазии из состава Грузинской ССР и включения ее в состав СССР на правах союзной республики. Хотя, конечно, началось все задолго до этого события. Стандартным описанием начала объединения России и Грузии можно считать следующее: «На Кавказе Грузия, теснимая своими соседями, с запада - Турцией, с востока - Персией, сближается с Россией; по договору с ней 1783 г. царь Восточной Грузии Ираклий II вступил под покровительство России; окончательное присоединение Грузии к России происходит, однако, лишь в 1801 г.»; естественно, в годы Грузинской ССР признавалось прогрессивное значение объективных результатов Георгиевского трактата. Практически сразу же проявляются обратные негативные процессы. В сборнике Р.Р. Орбели представлено описание труда Б. Багратиони о восстании 1820 г. против русского царизма в Имерети, Мегрелии и Гурии; такие противостояния нашли отражение и в художественной литературе. Известно также, например, что 11 марта 1907 г. в передовице газеты «Грузинская мысль» М. Церетели, участник Женевской учредительной конференции социалист-федералистской революционной партии, ссылаясь на то, что с учреждением Думы Россия стала правовым государством, призывал власти империи восстановить автономию Грузии, основываясь на положениях Договора о признании Карталинским и Кахетинским Ираклием II покровительства и верховной власти России (Георгиевская крепость, 1783 г.). Эти процессы обрели новое дыхание и получили документальное подкрепление на гребне продукта внешнего влияния под названием «Октябрьская революция»: в 1918 г. принимается первый Акт о независимости Грузии, а 1921 г. - Конституция, к которым стали активно апеллировать спустя 70 лет. В свою очередь, то же обращение в ЦК КПСС с подписями, собранными на митинге в абхазском селе Лыхны, указывает на непростые отношения и внутри самой Грузии. Еще до этого, о непростых отношениях с той же Абхазией рассказывали представители старшего поколения, но в годы Советского союза суть проблемы не очень была понятна молодежи Грузии. По мнению исследователей, исходной точкой противоречий был вопрос национального языка, что признается и иностранными учеными. Исторически, имели место и проблемы в налоговой сфере. Так, еще при Александре I наблюдалось противостояние между грузинскими феодалами и населением Южной Осетии, которое было столь острым, что в одной из стычек, происшедшей при сборе податей, дворянин Унтелов из князей Эристави был зарублен осетинскими крестьянами. Можно указать также на запрос 1919 г. группы депутатов Народного Совета Абхазии в Совет по вопросу о введении тяжелого поземельного налога в Абхазии меньшевистским правительством. Когда союз стал распадаться, этот процесс не остановился на масштабе республик. Чем-то эта ситуация схожа с разделом Британской Индии, в результате которого возникла проблема Кашмира. Национальный акцент в качестве принципа автоматически создал «меньшинства» как в Советском Союзе в целом, так и в каждой из входящих в него республик. Под занавес существования СССР на уровне документов последовали, в частности: - решение чрезвычайной XII сессии Совета народных депутатов Юго-Осетинской автономной области XX созыва 1989 г. «О повышении статуса Юго-Осетинской автономной области»; - постановление внеочередной XIII сессии ВС Грузинской ССР 1990 г. «О гарантиях защиты государственного суверенитета Грузии»; - постановление ВС Грузинской ССР 1990 г. «О создании правового механизма восстановления государственной независимости Грузии»; - Декларация «О государственном суверенитете Абхазской Советской Социалистической Республики», принятая на Х сессии ВС Абхазской АССР XI созыва 1990 г.; - постановление Президиума ВС Грузинской ССР 1990 г. «О решениях Верховного совета Абхазской АССР от 25 августа 1990 г.»; - постановление ВС Республики Грузия 1990 г. «О принятых Советом народных депутатов Юго-Осетинской автономной области решениях об изменении статуса области», и т.д. Еще до Декларации Совета республики ВС СССР 1991 г. № 124-Н, которой констатировано, что Союз ССР как государство и субъект международного права прекращает свое существование, принимаются: - Закон Грузии 1990 г. «Об объявлении переходного периода в Республике Грузия», которым в Конституцию (Основной закон) Грузинской ССР 1978 г. вносятся многочисленные изменения, и слова «Грузинская Советская Социалистическая Республика» и «Грузинская ССР» в наименовании и тексте заменены словами «Республика Грузия»; - Акт о восстановлении государственной независимости Грузии 1991 г. В сложившейся ситуации государство, точнее, руководство СССР, показало свою беспомощность, ограничившись фактически только Указом Президента СССР 1991 г. № УП-1286 «О некоторых законодательных актах, принятых в декабре 1990 года в Грузинской ССР». Документы и сопутствующие трагические события получили достаточно всестороннее освещение в литературе, поэтому, наверное, не имеет смысла пытаться ворошить прошлое. Следует согласиться с тем, что конфликт между Грузией и Осетией 1989-1990 годов и боевые действия в Абхазии 1992-1993 годов также не смогли легитимировать отношения Грузии с ее бывшими автономиями и оказались замороженными до лета 2008 г. В Аджарии ситуация развивалась несколько иначе. Из внешних изменений можно указать только на бетонные блоки, которые появились на мосту через реку Челоки перед въездом в Кобулети. Историческое значение Аджарии для Грузии весьма велико. Еще в начале XX в. в докладе делегации Закавказского сейма по ведению переговоров о мире с Турцией отмечалось: «Батум для нас - это то же, что Петроград для России и Смирна [Измир] для Турции». Нахождение Аджарии в современных границах и особый статус сформированы не самой Грузией. В соответствии со ст. 2 Договора между Грузинской Демократической Республикой и Турцией (Батуми, 1918 г.) там, где река Челоки впадает в Черное море, начиналась пограничная линия, разделявшая Оттоманскую империю и Грузию. Турция согласилась уступить Грузии сюзеренитет над портом Батумом и территорией, лежащей к северу от границы, составляющей часть Батумского округа, при условии, что население будет пользоваться широкой местной автономией в административном отношении на основании ст. II Договора между РСФСР и Турцией (Москва, 1921 г.). После этого автономный статус Аджарии находил подтверждение в текстах конституций. В новейшей истории напряженность между Тбилиси и бывшей Автономной ССР была вызвана не сепаратистскими требованиями или конфликтами по поводу национальной принадлежности. В этом отношении были отличия от ситуации в Абхазии и Южной Осетии. Конфликты между центром и периферией в этом случае возникали главным образом из-за отказа председателя Верховного совета Аджарии признать официальную власть Тбилиси; большую роль в финансовом обеспечении аджарского «особого пути» сыграла таможня пропускного пункта «Сарпи» на границе с Турцией. В 2004 г., заручившись поддержкой части населения автономии, новый «революционный» режим смог добиться отставки регионального лидера А.И. Абашидзе и восстановить контроль Тбилиси над Аджарией. Можно констатировать, что в итоге на сегодняшний день на нормативном уровне сложилась достаточно неоднозначная ситуация. В Конституции Грузии 1995 г. провозглашено следующее: - Грузия - независимое, единое и неделимое государство, что подтверждено референдумом, проведенным в 1991 г. на всей территории страны, включая Абхазскую АССР и бывшую Юго-Осетинскую автономную область, и Актом о восстановлении государственной независимости Грузии 1991 г. (ч. 1 ст. 1); - территория грузинского государства определена по состоянию на 21 декабря 1991 г. (ч. 1 ст. 2); - наименование грузинского государства - «Грузия» (ч. 3 ст. 1); - статус Аджарской Автономной Республики определяется Конституционным законом Грузии (2004 г.) «О статусе Аджарской Автономной Республики» (ч. 2 ст. 3). В Конституции Абхазии 1994 г. провозглашено следующее: - Республика Абхазия (Апсны) - суверенное демократическое правовое государство, исторически утвердившееся по праву народа на свободное самоопределение (ст. 1); - Республика Абхазия состоит из исторических земель Садз, Бзып, Гума, Дал-Цабал, Абжуа, Самырзакан, на которых расположены районы (Гагрский, Гудаутский, Сухумский, Гулрыпшский, Очамчырский, Ткуарчалский, Галский) и города (Гагра, Гудаута, Новый Афон, Сухум, Очамчыра, Ткуарчал, Гал) (ст. 4). В Конституции Южной Осетии 2001 г. провозглашено следующее: - Республика Южная Осетия - суверенное демократическое правовое государство, созданное в результате самоопределения народа Республики Южная Осетия (ст. 1); - Республика Южная Осетия состоит из пяти административно-территориальных единиц: города Цхинвал, Дзауского, Знаурского, Ленингорского и Цхинвальского районов (ч. 2 ст. 3). Неоднозначность ситуации не ограничена только конституционными нормами. В результате реализации принципа самоопределения на территориях Абхазии и Южной Осетии сформированы собственные налоговые системы. Их правовые основы образованы законами, составленными по модели налогового законодательства России и международными договорами с Российской Федерацией. Согласно ст. 2 Закона Грузии 2008 г. «Об оккупированных территориях» территории Абхазской Автономной Республики и Цхинвальского региона (территория бывшей Юго-Осетинской Автономной области) признаны оккупированными территориями. Такой же статус имеют внутренние воды и территориальное море, входящие в морскую акваторию вдоль административной границы на юге от реки Псоу на государственной границе Грузии с Россией до места впадения реки Ингури в Черное море, их дно и недра, а также прилежащая зона, особая экономическая зона и континентальный шельф, где Грузия в соответствии со своим законодательством и нормами международного права пользуется, в том числе налоговыми правами. В силу п. 1 двух Указов Президента РФ 2008 г. № 1260 и № 1261 Республика Абхазия и Республика Южная Осетия признаны в качестве суверенных и независимых государств. О признании Абхазии и Южной Осетии заявили еще несколько государств, но список их пока весьма мал, что является подтверждением заявленной ранее сложности принципа самоопределения народов. В этой связи в учебной литературе обращается внимание на крайне непоследовательные и противоречивые позиции ряда государств - членов ЕС относительно признания, с одной стороны, Косово (никогда не было независимым государством), и с другой - не признания Абхазии (Абхазское царство сложилось еще в VIII в.). Отсутствие признания не является определяющим для государства и территории. Как указано в одной из резолюций, признание имеет декларативное значение. Существование нового государства со всеми юридическими последствиями, которое влечет за собой это существование, не затрагивается отказом в признании одного или нескольких государств. Вместе с тем, отсутствие признания имеет практическое значение, в том числе, в контексте налогового права, а именно: - в силу ст. 901(j) тит. 26 Свода законов США зачет не предоставляется в отношении налогов, уплаченных непризнанному государству, государству, с которым разорваны или отсутствуют дипломатические отношения; - Абхазия и Южная Осетия не могут использовать международные договоры СССР и их интересы не представляются другим государством (как это имело место, например, в случае с Гонконгом и Великобританией). Разумеется, образование Абхазии и Южной Осетии, обладающих признаками субъектов международного права, перечисленными в ст. 1 Конвенции о правах и обязанностях государств (Монтевидео, 1933 г.), важно для права Грузии в целом и налогового права в частности. С.С. Алексеев указывал, что пределы действия закона в пространстве очерчены территорией государства и государственным суверенитетом. Д.А. Керимов отмечал тот факт, что у каждого закона есть объективная реальность действия в пространстве. Эта объективная реальность действия закона в конкретно-исторических условиях имеет свои пределы. Отсюда вытекает потребность в корректировке ранее принятых правовых предписаний и норм в связи с развитием как самих объективных закономерностей, так и условий действия правовой материи в социуме. Корректировка ранее принятых правовых предписаний Грузии - это тема, требующая дополнительной проработки. Абстрагируясь от каких-либо симпатий или оценок, представляется, что игнорирование реалий и заявление о том, что налоговое право Грузии действует на территориях Абхазии и Южной Осетии, является тем, что называется юридической неправдой. Соответственно, рассмотрение относящихся вопросов невозможно без поправки на действие норм налогового права Грузии в пространстве. История различных государств и территорий показывает, что одной из причин проблемы самоопределения является неравенство, выражающееся в различных формах. При обсуждении вопросов реализации рассматриваемого принципа могут быть задействованы и вопросы налогообложения. Об этом свидетельствуют не только ранее приведенные исторические примеры о сборе податей в Южной Осетии и введении тяжелого поземельного налога в Абхазии. В этой связи можно привести ряд примеров. Изначальная цель победившей в 2011 г. на выборах в парламент региона Шотландской национальной партии состояла не столько в обретении независимости Шотландии, сколько в так называемой «деволюции макс» - расширении, прежде всего, экономических прав, в том числе, права устанавливать налог на прибыль. Объем передачи государственных функций под самоуправление курдского народа не предусмотрен законом Турции, а зависит от политических переговоров. Большая часть функций фактически уже передана, тем более необходимым становится предоставление финансовой и налоговой автономии. После прекращения огня в Приднестровье был предпринят ряд попыток обсуждения статуса региона. Основным предметом переговоров было предоставление расширенной автономии приднестровскому региону с правами налогообложения, собственного бюджета и т.п. Однако формальное соглашение не было достигнуто. Очевидно, что один из путей решения проблемы самоопределения состоит в предоставлении более широких прав, в том числе, налоговых. Выступая в 2004 г. на 59 сессии Генеральной ассамблеи ООН, Президент Грузии в качестве третьей стадии предложенного им плана урегулирования назвал следующее: «глобальное решение с глобальными гарантиями, что приведет к созданию самой полной и широкой автономии, которое защитит культуру и язык, гарантирует самоуправление, налоговый контроль, значимое представительство и разграничение власти на национальном уровне». Подобных общих заявлений недостаточно для решения вопроса территориальной целостности. Проведенные в Грузии так называемые флэш-мобы в виде нанесения на различные объекты больших надписей «სოხუმი - ჩემი იერუსალიმი» (в пер. с груз. - Сухуми мой Иерусалим) в этом деле тоже не помощники. Когда начался развал государства, вопросы налоговых прав республик не обсуждались, но тезис о том, что выход той же Грузии из Союза ССР повлечет рост благосостояния населения, поскольку все «доходы, которые приходится отдавать Москве», останутся на местах, неоднократно озвучивался. Ознакомление с законодательством государств постсоветского пространства показывает, что вопрос налоговых прав оставлен, почему-то, без внимания. Иногда даже принимались обратные меры, как, например, Закон Республики Грузия 1990 г. «Об упразднении Юго-Осетинской Автономной области». Правда, здесь же надо отметить, что позднее, в отличие от некоторых государств постсоветского пространства, в Грузии были признаны гражданами все, кто обладал гражданством Грузинской ССР, без всяких унизительных статусов; в отношении русского языка не было и нет фобии. Абхазия и Осетия упоминались в ст. 6 НК Грузии 2004 г., в которой дано определение налога. В п. 1 ст. 168 упомянуты и выплаты физическим лицам из бюджетов, в том числе, автономных республик. Сегодня, несмотря на то, что в Конституции и других нормативных актах Грузии упоминаются автономные республики, действующий кодекс не содержит специальных правил о налогообложении на соответствующих территориях, в частности, не выделены налоги автономии; не предусмотрен какой-либо особый налоговый статус автономий. В НК Грузии 2010 г. есть лишь единичные технические упоминания о том, что в Абхазии процедуры, связанные с перемещением товаров по таможенной территории Грузии, оформляются также и на абхазском языке (п. 1 ст. 207.1), об освобождении от НДС и от акцизов с правом на зачет передачи имущества лица (кроме денег) в собственность автономной республики (п. 4 ст. 168, п. 6 ст. 194). Южная Осетия в НК Грузии, равно как и осетинский язык в законодательстве, не упоминается вовсе. Провозглашение чего-либо в правовом акте не является определяющим. Вместе с тем отсутствие, пусть вначале одностороннего, но «нормативного предложения» описания возможной модели правоотношений равно признанию сложившегося положения вещей. Несмотря на ограниченное «нормативное» внимание к проблеме, некоторые последствия реализации принципа самоопределения народов не могли не найти отражения в налоговом законодательстве Грузии. Пример первый. Порядок постановки на учет налогоплательщиков регламентируется ст. 66 НК Грузии. Внимание в ней уделено физическим лицам. При этом в п. 1, 4 и 5 содержится указание на граждан Грузии и лиц, имеющих «нейтральные удостоверения личности» или «нейтральные проездные документы». В комментарии к кодексу разъясняется, что эти удостоверения и документы выдаются лицам, проживающим в Абхазской Автономной Республике и Цхинвальском районе (бывшей Юго-осетинской автономной области). Пример второй. В гл. X НК Грузии содержатся предписания об изменении порядка декларирования и уплаты налогов во время действия особых условий. Санкционировано, что при объявлении военного или чрезвычайного положения министр финансов уполномочен: - продлить установленные законодательством сроки представления налоговой декларации (расчета) (п. 1 ст. 75); - отсрочить уплату налогов по отдельным видам налогов (п. 1 ст. 76); - принять решение об отсрочке обязательства по уплате текущих платежей, установленных НК Грузии (ст. 77). Это не типичные для налогового законодательства государств и территорий узаконения. Обычно военный аспект фигурирует в связи с предоставлением налоговых льгот, но корреспондируется со ст. 359 УК Грузии 1999 г., предусматривающей ответственность за уклонение от уплаты налогов или от службы в военное время. Включение подобных предписаний в НК Грузии можно объяснить тем, что он был принят вскоре после вооруженного конфликта в Южной Осетии в 2008 г., который стал серьезным испытанием и для экономики. Этих норм не было в кодексе 2004 г. Данные примеры показывают, что нерешенные территориальные вопросы влияют на содержание источников правового регулирования налогообложения. Перечень подобных примеров, по всей видимости, не является исчерпывающим. Итак, следует констатировать, что в налоговом праве можно выделить две составляющие ограничения действия норм налогового права в пространстве: внутреннюю и внешнюю. Основанием для такого ограничения может выступать реализация правовых принципов, в частности, принципа самоопределения народов. Один из путей решения проблемы самоопределения состоит в провозглашении нескольких языков официальными и в предоставлении политическим единицам более широких прав, в том числе, налоговых. Отсутствие признания не является определяющим для нового государства, но имеет практическое значение для реализации прав, предоставленных налоговым законодательством. В результате реализации принципа самоопределения народов налоговое право Грузии не действует на территориях Абхазии и Южной Осетии. Нерешенные территориальные вопросы влияют на содержание источников правового регулирования налогообложения.×
参考
- Beato A.M. Newly Independent and Separating States’ Succession to Treaties: Considerations on the Hybrid Dependency of the Republics of the Former Soviet Union // American Un-ty Journal of Intern. Law & Policy. 1994. Vol. 9. Iss. 2.
- Jeffries I. A Guide to the Economies in Transition. N.- Y.: Routledge, 1996.
- McGowan L., Phinnemore D. A Dictionary of the European Union. L.: Europa, 2002.
- Mirzayev F.S. UTI Possidetis v. Self-determination: the Lessons of the Post-Soviet Practice. Thesis … the Degree of Doctor of Philosophy. Un-ty of Leicester, 2014.
- Nationalism, Democracy and National Integration in China / by L.H. Liew, Sh. Wang. N.-Y.: RoutledgeCurzon, 2004.
- Norman P., Topçuoğlu S. Protection of Minorities, Right to Self-determination and Autonomy. On the Legal Basis of a Solution to the Kurdish Question in Turkey. Mezopotamien Verlags- und Vertriebs GmbH, 2014.
- Nußberger A. The War between Russia and Georgia - Consequences and Unresolved Questions // Göttingen Journal of Intern. Law. 2009. Vol. 1. Iss. 2.
- Papuashvili G. A Retrospective on the 1921 Constitution of the Democratic Republic of Georgia // Engage. 2012. Vol. 13. Iss. 1.
- Strayer R. Why Did the Soviet Union Collapse? Understanding Historical Change. N.-Y.: M.E. Sharpe, 1998.
- XIX Всесоюзная конференция Коммунистической партии Советского Союза, 28 июня - 1 июля 1988 г.: Стенографический отчет. В 2 т. Т. 1. М.: Политиздат, 1988.
- Абхазия - документы и материалы (1917-1921 гг.). Сухум, 2009.
- Алексеев С.С. Общая теория права. В 2 т. Т. 2. М.: Юр. лит., 1982.
- Алексеев С.С. Право: азбука - теория - философия: опыт комплексного исследования. М.: Статут, 1999.
- Ананьева Е.В. Референдум о независимости Шотландии: цепная реакция / Сепаратизм в политической жизни современной Европы / под ред. П.Е. Канделя. М.: Ин-т Европы РАН, 2015.
- Блиев М. Южная Осетия в коллизиях российскогрузинских отношений. М.: Европа, 2006.
- Всемирная история / под ред. Л.И. Зубока, А.М. Дубинского, Г.Н. Севостьянова. В 10 т. Т. IX. М.: Изд. социально-экономической лит., 1962.
- Ганковский Ю.В. Интернациональное значение опыта решения национального вопроса в СССР // Советская этнография. 1972. № 4.
- Геллнер Э. Нации и национализм. М.: Прогресс, 1991.
- Государственность и безопасность: Грузия после «революции роз» / под ред. Б. Коппитерса, Р. Легволда / пер. с англ. Кембридж: Американская ак. гуманитарных и точных наук, 2005.
- Грабарь В.Э. Материалы к истории литерат уры международного права в России (1647-1917). М.: Зерцало, 2003.
- Зинков Е.Г. Термин «пространство» в теории права // Общество и право. 2011. № 4(36).
- История современной России: Хроники «эпохи перемен» (1985-1999). В 2 ч. Ч. 1 / под общ. ред. С.М. Шахрая. М.: Фонд современной истории, изд. Московского ун-та, 2012.
- Керимов Д.А. Констит уция СССР и развитие политико-правовой теории. М.: Мысль, 1979.
- Куртов А.А. Пироманы из Закавказья: деятельность политиков Грузии по развалу Союза ССР // Проблемы национальной стратегии. 2011. № 4(9).
- Ку телия Б.Н., Меладзе Г.Г., Цуладзе Г.Е. Эмиграция из Грузии в постсоветский период // Социологический журнал. 1997. № 4.
- Лукашук И.И. Международное право. Общая часть: учебник. 3-е изд. М.: Волтерс Клувер, 2005.
- Майсурадзе Г. О стат усе Армении в составе Грузинской средневековой централизованной монархии (XII-XIV вв.) / Некоторые вопросы истории Грузии в армянской историографии. Тб., 2009.
- Мамулиа Г. Социалист-федералистская революционная партия Грузии в 1906-1914 годах // ХХ век и Россия: общество, реформы, революции. 2013. Вып. 1.
- Маркедонов C. Незамеченные выборы // Страны СНГ. Русские и русскоязычные в новом зарубежье. 2008. № 207.
- Международное право в избранных документах. В 3 ч. Ч. I / отв. ред. В.Н. Дурденевский. М., 1955.
- Международное право: учебник / отв. ред. А.Н. Вылегжанин. М.: Высшее образование, Юрайт-издат, 2009.
- Российский журнал правовых исследований. 2017 ◆ № 2 (11) НАЛОГОВОЕ ПРАВО
- Мендкович Н.А. Цена реформ, или почему у Грузии не получилось? М.: РИСИ, 2012.
- Орбели Р.Р. Грузинские рукописи Ин-та востоковедения. Вып. I. М.-Л.: Изд. АН СССР, 1956.
- Основы государства и права: уч. пособие / под ред. А.В. Малько. М.: КНОРУС, 2005.
- Очерки истории Грузии. В 8 т. Т. V. Грузия в XIX веке / ред. М.М. Гаприндашвили, О.К. Жордания. Тб.: Мецниереба, 1990.
- Платонова М.А. Трансформация национальных интересов Грузии // Вестник Волгоградского гос. унта. Сер. 4. История. 2011. № 1(19).
- Пылин А.Г. Грузия / Вардомский Л.Б., Кузьмина Е.М., Пылин А.Г., и др. Социально-экономическое развитие постсоветских стран: итоги двадцатилетия. М.: ИЭ РАН, 2012.
- Рыбаков В.А. Рецепция права: общетеоретические вопросы. Омск, 2009.
- Силагадзе А. Российско-т урецкое противостояние на Центральном Кавказе в 1918-1921 годах // Кавказ & глобализация. 2009. Т. 3. Вып. 4.
- Уратадзе Г.И. Образование и консолидация Грузинской Демократической Республики. М.: Ин-т по изучению СССР, 1956.
- Чугаенко Ю.А. Грузия - Южная Осетия: исторические первопричины противостояния. Киев: Национальная ак. управления, 2013.
- Шеварднадзе Э. Когда рухнул железный занавес. Встречи и воспоминания / пер. с нем. Г. Леоновой. М.: Европа, 2009.
- Этнический и религиозный факторы в формировании и эволюции российского государства / отв. ред. Т.Ю. Красовицкая, В.А. Тишков. М.: Новый хронограф, 2012.
- পঞডঞমঞদঞ ন., মফঠঞণঞ ত., ম়ঞহঢ ধ., ডঞ য়ণঢটদ. যঞঞমথণঢনফয যঞঠঞডঞযঞ়ঞডফ ধফডঢযদয ধফঢপরঞমদ. দঠপদ বদমণঢনদ. § 1-155. থট., 2012.
补充文件