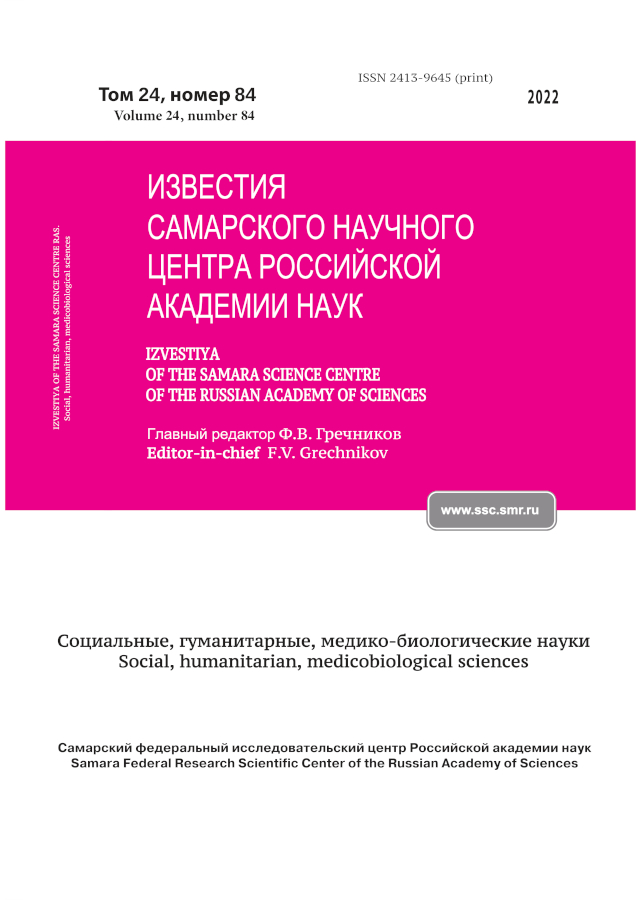The structure and meaning of Pushkin’s dramatic essay «Cherez nedelyu budu v Parizhe nepremenno...» («I will certainly be in Paris next week..»)
- Authors: Zaslavsky O.B.1, Pimonov V.I.2
-
Affiliations:
- V.N. Karazin Kharkiv National University
- GITR Film & Television School
- Issue: Vol 24, No 3 (2022)
- Pages: 115-120
- Section: HUMANITIES SCIENCES
- URL: https://journals.eco-vector.com/2413-9645/article/view/121355
- DOI: https://doi.org/10.37313/2413-9645-2022-24-84-115-120
- ID: 121355
Cite item
Full Text
Abstract
Object of the article: Alexander Sergeevich Pushkin's dramatic essay “Cherez nedelyu budu v Parizhe nepremenno…” ("I will certainly be in Paris in a week...") (1834-35). Subject of the article: structure and meaning of Pushkin's text. Purpose of research: uncovering the hidden meaning of the essay. Research methods: methods of literary research, method of structural-semantic analysis. Results: The authors argue that a hidden motif of false rape allegation hints at a possible death of the hero. That motif is implied by the final scene of the story and separately is encoded by the anagram found in the name of the hero. Foreshadowing of Dorvil’s possible death is also conveyed through the motif of winking; similar use of the winking motif keeps recurring in Pushkin’s other works, in particular, in “Poltava”, “The Captain's Daughter” and “The Queen of Spades”. Field of application: literary criticism, teaching Russian literature of the 19th century. Conclusions: the theme of revenge and motif of duel between the lover and the heroine's husband prefigure the probable outcome of the story. Pushkin's essay belongs to a special type of literary texts that include 1) interrupted narration, 2) hidden meaning (implying the need for a virtual reconstruction of the background),3) possibility of reconstructing both the background and the outcome of the story that is left "behind the scenes".
Full Text
Введение. Речь пойдет о драматической миниатюре Александра Сергеевича Пушкина, известной под условным названием «Через неделю буду в Париже непременно…» (в дальнейшем, «ЧН» - для краткости) [17, с. 418-420]. Приведем пушкинский текст полностью в том виде, в котором он впервые был опубликован в 1903 г. [18, с. 44-45].
Графиня одна, держит письмо.
«Через неделю буду в Париже непременно...» Письмо от двенадцатого, сегодня осьмнадцатое; он приедет завтра! Боже мой, что мне делать?
(Входит Дорвиль).
Д. Здравствуйте, мой ангел, каково вам сегодня? Послушайте, что я вам расскажу — умора... Что с вами? вы в слезах.
Г. Вы чудовище.
Д. Опять! Ну, что за беда? Все дело останется в тайне. Слава богу, никто ничего не подозревает: все думают, что у Вас водяная. На днях все будет кончено. Вы для виду останетесь еще недель шесть в своей комнате, потом опять явитесь в свет, и все вам обрадуются.
Г. Удивляюсь вашему красноречию. А муж?
Дорвиль. Граф ничего не узнает. Мужья никогда ничего не узнают. Месяца через три он приедет к нам из армии, мы примем его как ни в чем не бывало; одного боюсь: он в вас опять влюбится — и тогда...
Г. Прочтите это письмо.
Д. Ах, боже мой!
Г. Нечего глаза таращить. Я пропала — вы погубили меня.
Д. Ангел мой! Я в отчаянии. Что с нами будет!
Г. С нами! с Вами ничего не будет, а меня граф убьет.
Д. Кто его звал? Какая досада.
Г. Досада! вам досадно потому, что вам некуда будет ездить на вечер, пока не заведете себе другой любовницы (баронессы д’Овре, например. Несносная мигушка). (Передразнивает ее.) Видите, что вы чудовище: я гибну, а вы смеетесь.
Д. Я не допущу его до Парижа, я поеду навстречу к графу. Мы поссоримся, я вызову его на дуэль и проколю его.
Г. Какой ужас! Я не позволю вам проколоть моего мужа. Он для меня был всегда так добр. Я перед ним кругом виновата; я могла забыть все свои обязанности, изменить ему... и для кого?.. для изверга, который не посовестился... оставьте меня; говорят вам, оставьте меня.
Д. Поезжайте в свою деревню, в Британию.
Г. Это зачем? Разве граф за мною не поскачет?
Д. Скройтесь в мой замок.
Г. Вот еще! а шум? а соблазн? но, может быть, Вам того и надобно. Вы хотите, чтоб весь свет узнал о моем бесчестии: самолюбие ваше того требует.
Д. Как вы несправедливы! но что же нам делать?
Г. Вот до чего довели вы меня! ах, Дорвиль! я говорила вам, Вы не хотели мне верить; вы поставили на своем; посмотрите, что из этого вышло... Нечего ко мне ласкаться, подите прочь. Дорвиль, Дорвиль! перестаньте. Вы с ума сошли. Ах!.. постойте, какая прекрасная мысль!
Д. Что такое?
Г. Я умру со стыда, но нет иного способа.
Д. Что-ж такое?
Г. После узнаете.
История вопроса. Сведений о «ЧН» совсем немного. Первый публикатор текста отмечает, что «начало как будто напоминает повесть «Арап Петра Великого» (1827). Ибрагима в Париже представляет графине L. молодой Мервиль (ср. нашего Дорвиль) <…> ... они сошлись <...>. Графиня с отчаянием объявила Ибрагиму, что она брюхата. <…> Графиня видела неминуемую гибель и с отчаянием ожидала ее [18, с. 45]. В дальнейшем новорожденного черного младенца «вынесли из дому по потаенной лестнице. Принесли другого ребенка и поставили его колыбель в спальне роженицы <...> Ждали графа. Он возвратился поздно, узнал о счастливом разрешении супруги и был очень доволен» [13, с. 7]. Некоторые другие данные о ЧН изложены в двух академических комментариях [15, с. 688 – 689], [16, с. 1005 - 1006.]. Весьма краткая история изучения текста, по сути, включает в себя всего несколько упоминаний [5, с. 224 – 225], [2, с. 168—187, 180 – 181], [3, с. 284], [4, с. 192], [7, с. 371-381].
Попытки дописывания. Текст «ЧН» традиционно считается незавершенным и публикуется в качестве отрывка или наброска к замыслу, который так и не получил законченного воплощения. Отсутствие традиционной концовки стимулировало попытку дописать «ЧН» с целью угадать «способ», которым могла воспользоваться графиня. Одна из таких попыток строилась на том, что в сцену вводился еще один персонаж – король, которого графиня представляет отцом своего ребенка, с чем мужу приходится смириться [8, p. 319–335]. Как отмечено в современном академическом издании, «”парадный” характер оформления автографа позволяет думать, что данный драматический этюд имел для Пушкина самостоятельное значение <…>, и продолжения работы над этим сюжетом не предполагалось» [16, с. 1005]. Идея о художественной целостности и законченности текста высказана в недавней работе [7, с. 371-381].
Развязка сюжета. Между тем, из текста неясно, что же имела в виду графиня, когда сообщила Дорвилю: «Я умру со стыда, но нет иного способа». На вопрос «Что-ж такое?» графиня загадочно ответила: «После узнаете». Однако ничего «после» читатель не узнает - на этой фразе повествование прерывается. Вопрос о «способе» остается загадкой. Создается впечатление, что в «ЧН» отсутствует важнейший элемент сюжета – развязка.
Методы исследования. Литературоведческий и структурно-семантический.
Цель исследования. Настоящая статья ставит целью попытаться реконструировать отсутствующую развязку сюжета, опираясь на завуалированные в тексте предвестия.
Мотив изнасилования. «Прекрасная мысль» о «способе» избежать скандала («меня граф убьет») возникает у графини в тот момент, когда Дорвиль к ней «ласкается», иначе говоря, совершает действия сексуального характера. Графиня просит его отстать от нее: «Нечего ко мне ласкаться, подите прочь. Дорвиль, Дорвиль! Перестаньте. Вы с ума сошли». Возражения героини против приставаний любовника звучат в тексте и ранее: «оставьте меня; говорят вам, оставьте меня». И вдруг, неожиданно - в самый разгар «ласканий» графиню осенило: «Ах!.. постойте, какая прекрасная мысль!». В любовных домогательствах Дорвиля вопреки желанию графини («перестаньте») выражен мотив сексуального (редуцированного) насилия. В этой связи можно предположить, что «прекрасная мысль» графини заключается в том, чтобы солгать мужу об изнасиловании (для выражения значения «силой обесчестить женщину» в пушкинские времена употреблялись глаголы «изнасильствовать» или «изнасильничать», что отмечено в словаре В.И. Даля). Разыгранное перед мужем признание в том, что она якобы подверглась насилию и была обесчещена, могло бы послужить оправданием супружеской измены и беременности. Такая трактовка позволяет объяснить слова графини «я умру со стыда» (стыдно быть обесчещенной), а также суть того единственного («нет иного») способа, с помощью которого она намерена избежать наказания со стороны мужа.
Анаграмма. Предположение о том, что текст заключает в себе скрытый мотив сексуального насилия, подкрепляется и тем обстоятельством, что имя героя содержит анаграмму: перестановка букв в слове ДОрВИЛЬ дает в результате слово ВИОЛЬ, а viol по-французски означает изнасилование. Таким образом, имя персонажа оказывается «говорящим» и содержит скрытое указание на его роль в сюжете (ср. [9, с. 54-55]).
Лукреция. Завуалированный мотив «посягательства на честь» героини в «ЧН» позволяет провести параллель между этой драматичексой миниатюрой и шуточной поэмой А.С. Пушкина «Граф Нулин». Однако в отличие от Натальи Павловны, выступающей в комически-подражательной роли шекспировской Лукреции, графиня в «ЧН» «не дала пощёчину Тарквинию». Как известно, в «Графе Нулине» А.С. Пушкин пародировал Шекспира: «Перечитывая Лукрецию, довольно слабую поэму Шекспира, я подумал: что, если б Лукреции пришла в голову мысль дать пощечину Тарквинию? быть может, это охладило б его предприимчивость и он со стыдом принужден был отступить?» [12, с. 188]. В эротической поэме Шекспира «Обесчещенная Лукреция» (The Rape of Lucrece, 1594) Тарквиний насилует Лукрецию, которая рассказывает об этом мужу и получает обещание, что преступника настигнет месть. Граждане Рима обрекают Тарквиния на вечное изгнание, что в античной традиции равносильно смерти.
Дуэль. Слова Дорвиля «... я поеду навстречу к графу. Мы поссоримся, я вызову его на дуэль и проколю его») звучат как предвестие предстоящего столкновения любовника с мужем. Исходя из тезиса о структурной симметрии пушкинских текстов [18, с. 167], можно предположить, что неосуществленная угроза Дорвиля вызвать на дуэль графа подразумевает вероятность симметричного ответного действия: граф, узнав о насилии (фиктивном) над женой, вызовет на дуэль Дорвиля и проколет его самого. В этом случе фраза Дорвиля «на днях все будет кончено» обретает смысл невольного предсказания своей собственной смерти.
Мотив мести. Предположение о возможной гибели Дорвиля на дуэли, как оставшейся «за кадром» развязки сюжета, укладывается в рамки сюжета мести. В литературном произведении месть часто осуществляет не сама жертва, а ее символический двойник. В роли двойника может выступать посмертная статуя убитого человека. Схему сюжета мести Аристостель проиллюстрировал на примере «статуи Мития, которая упала и убила виновника смерти этого Мития, когда тот смотрел на нее» [1, с. 128]. В дальнейшем эта модель легла в основу легенды о Дон Жуане, воплощенной А.С. Пушкиным в «Каменном госте», где, как и в истории о Митии, месть осуществляет посмертная статуя убитого персонажа [11, c. 63]. Та же ситуация имплицитно присутствует в ЧН: якобы обесчещенная Дорвилем графиня («Вы хотите, чтоб весь свет узнал о моем бесчестии») собирается отомстить ему не сама, а с помощью «двойника» – своего мужа, который неожиданно возвращается из армии – в символическом смысле с «того света». В возвращении графа верхом на лошади («Разве граф за мною не поскачет?») слышатся отголоски «скульптурного мифа» (как перехода мертвого в живое) [9, c. 18-21], реализованного в «Каменном госте» [19]. [Намек на смерть Дорвиля также содержится в словах графини о «мигушке»: «...вам некуда будет ездить на вечер, пока не заведете себе другой любовницы» (баронессы д’Овре, например. Несносная мигушка). (Передразнивает любовницы» (баронессы д’Овре, например. Несносная мигушка). (Передразнивает ее.). Мотив «мигания» или «подмигивания» сопряжен у Пушкина с образом смерти (мертвой головы): «Топор блеснул с размаху, И отскочила голова. Всё поле охнуло. Другая Катится вслед за ней, мигая» (Полтава II, 424). Пугачев подмигивает Гриневу: «„Ась, ваше благородие?" — сказал он мне подмигивая» (КД 349.1). На «подмигивание» как предвестие казни обратила внимание М.И. Цветаева: «Пугачев, на людях, постоянно Гриневу подмигивает <…> вещь, вся, кончается кивком Пугачева с плахи” (с. 369-83) [17, с. 327-96]. «Прищуривание» (как эквивалент «мигания») мертвой графини в «Пиковой даме» становится предвестием гибели Германна. Ему показалось, «что мертвая насмешливо взглянула на него, прищуривая одним глазом <…> Германн, поспешно подавшись назад, оступился и навзничь грянулся об земь» [13, с. 247] - в символическом смысле умер. За карточной игрой Германну вновь «показалось, что пиковая дама прищурилась и усмехнулась» [13, с. 252]. После проигрыша Герман «сошёл с ума», что эквивалентно смерти. Таким образом, «прищуривание», которое по значению близко «миганию», несёт в себе семантику смерти. Функционально образ «мигушки д’Орве» в «ЧН» перекликается с образом «прищурившейся» графини в «Пиковой даме». Графиня в ЧН «передразнивает мигушку», то есть «мигает» Дорвилю, что может прочитываться как предвестие его смерти].
Результаты исследования. Анализ структуры драматической миниатюры А.С. Пушкина показывает, что завуалированный мотив ложного обвинения в изнасиловании выступает в роли скрытого предвестия будущих событий.
Выводы. Тема дуэли предвосхищает возможную развязку сюжета (смерть персонажа), отсутствующую в тексте. «ЧН» относится к особому типу литературных произведений, которые содержат: 1) прерванное повествование, 2) скрытый смысл, 3) возможность реконструкции концовки сюжета на основе скрытых предвестий.
About the authors
Oleg B. Zaslavsky
V.N. Karazin Kharkiv National University
Author for correspondence.
Email: zaslav@ukr.net
Doctor of Science in Physics and Mathematics, senior researcher
Ukraine, KharkivVladimir I. Pimonov
GITR Film & Television School
Email: ivpet65@mail.ru
Ph.D in Philology, professor emeritus
Russian Federation, MoscowReferences
- Aristotel'. Pojetika (Poetics). Per. M.L. Gasparova Aristotel' i antichnaja literatura. – M.: Nauka, 1978. – 233 s.
- Vol'pert, L. I. Pushkin i francuzskaja komedija XVIII v. (Pushkin and French Comedy of the 18th century) // Pushkin: Issledovanija i materialy / AN SSSR. In-t rus. lit. (Pushkin. Dom). — L.: Nauka. Leningr. otd-nie, 1979. — T. 9. – 536 s.
- Vol'pert, L. I. Pushkin v roli Pushkina Tvorcheskaja igra po modeljam francuzskoj literatury. Pushkin i Stendal' (Pushkin in the role of Pushkin. Creative game based on the models of French literature. Pushkin and Stendhal). – 328 s. Ch. 2, gl. 10. – M.: Jazyki russkoj kul'tury, 1998. – 328 s.
- Dobrodomov, I. G., Pil'shhikov I. A. Leksika i frazeologija «Evgenija Onegina». Germenevticheskie ocherki (Vocabulary and phraseology of "Eugene Onegin". Hermeneutical essays). - M., Jazyki slavjanskih kul'tur. 2008. – 312 s.
- Zagorskij, M. Pushkin i teatr (Pushkin and Theatre). - M.-L. Iskusstvo, 1940. – 334 s.
- Levinton, G. A. K istorii dopisyvanija Pushkina (S.D.Bogdanovskij. Opyt okonchanija dramaticheskogo otryvka A.Pushkina) (On the history of adding to Pushkin (S.D. Bogdanovsky. An attempt to finish a dramatic essay by A. Pushkin) // Russian Literature and the West: A tribute for David M. Bethea. Ed. by Alexander Dolinin, Lazar Fleishman, Leonid Livak (Stanford Slavic Studies. Vol. 35). – Stanford: 2008, part I, p. 319–335.
- Zaslavskij, O. B. Pojetika Pushkina. Opyt strukturnogo analiza (The Poetics of Pushkin. The Structural Analysis). - M.: Flinta, 2022. – 564 s.
- Mann, J. V. «Skul'pturnyj mif» Pushkina i gogolevskaja formula okamenenija (The Pushkin’s “Sculpture Myth” and Gogol’s formula of petrification) // Pushkinskie chtenija v Tartu: Tezisy dokladov nauchnoj konferencii 13-14 nojabrja 1987. – Tallinn: 1987. – Р. 18-21.
- Pimonov, V. I. Sjuzhet mesti: ot Sofokla do Aristotelja (The Revenge Plot: from Sophocles to Aristotle) // Mif ob Jedipe. Struktura – motivy – sjuzhet. - M.: Flinta 2022. - 160 s.
- Pushkin, A. S. Poln. sobr. soch. - M.: Izd. Akademii nauk, 1949. T. 11. – 588 s.
- Pushkin, A. S. Arap Petra Velikogo (The Moor of Peter the Great) // Pushkin A.S. Polnoe sobranie sochinenij: v 16 tomah. – M.; L.: Izd-vo AN SSSR, 1937-1959. T. 8, kn. 1. – 1118 c.
- Pushkin, A. S. Pikovaja dama (The Queen of Spades) // Pushkin A.S. Polnoe sobranie sochinenij: v 16 tomah. – M.; L.: Izd-vo AN SSSR, 1937-1959. T. 8, kn. 1. – 1118 c. - S. 225 – 252.
- Pushkin, A. S. Polnoe sobranie sochinenij. Izd-vo Akademii nauk SSSR. T. 7. Dramaticheskie proizvedenija. Tom 7. - M.: 1935. - 754 s. (Kommentarij Jakubovicha D.P.).
- Pushkin, A. S. Sobranie sochinenij v 20 tomah. - Spb.: 2009. Tom 7. – 1088 s. (Kommentarij N. L. Dmitrievoj).
- Pushkin, A. S. Sobranie sochinenij v desjati tomah. Tom 5. Evgenij Onegin. Dramaturgija (Eugene Onegin. Dramatic works). - L.: Nauka, 1978. - 521 s.
- Turbin, V. N. Pojetika romana A.S. Pushkina «Evgenij Onegin» (The Poetics of Pushkin’s Novel “Eugene Onegin”). - M.: Izd. MGU, 1996. - 232 s.
- Cvetaeva, M. I. Moj Pushkin. Pushkin i Pugachev (My Pushkin. Pushkin and Pugachev) // Cvetaeva, M. I. Sochinenija. 2 tt. T. 2. - M.: Hudozhestvennaja literatura, 1980.
- Shljapkin, I. A. Iz neizdannyh bumag A.S. Pushkina (From Pushkin’s unpublished papares). - SPb.: 1903. - 368 s.
- Jakobson, P. O. Statuja v pojeticheskoj mifologii Pushkina (The Statue in Pushkin’s Poetic Mythology) // Jakobson, R. O. Raboty po pojetike. - M.: Progress, 1987. – 464 s.
Supplementary files