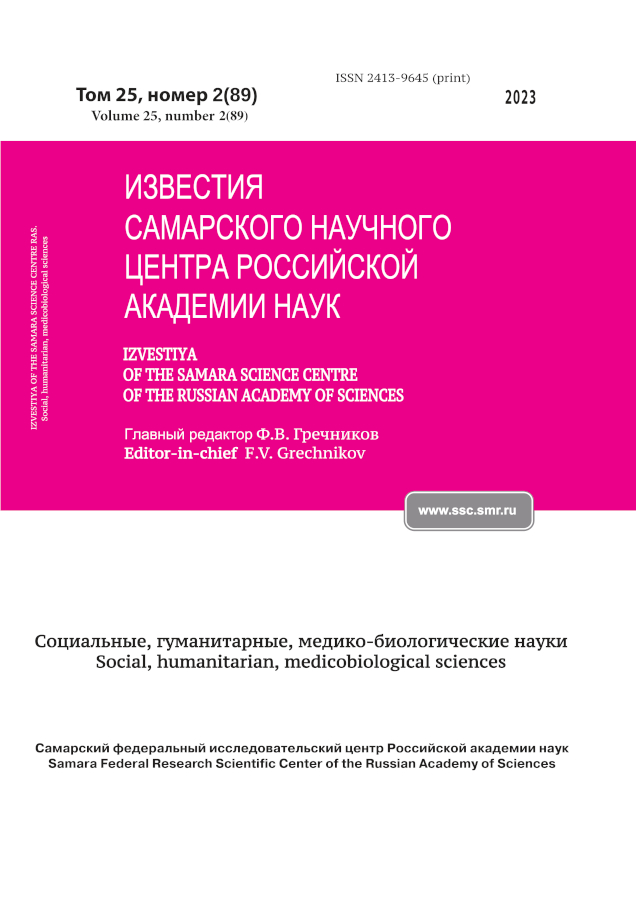Художественное своеобразие современной православной повести («заманчивое предложение для Маргариты» Ю. Шаманской)
- Авторы: Осьмухина О.Ю.1, Гудкова С.П.1, Белоглазова Е.А.1
-
Учреждения:
- Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева
- Выпуск: Том 25, № 2 (2023)
- Страницы: 76-85
- Раздел: ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
- URL: https://journals.eco-vector.com/2413-9645/article/view/321696
- DOI: https://doi.org/10.37313/2413-9645-2023-25-89-76-85
- ID: 321696
Цитировать
Полный текст
Аннотация
В статье представлено научное осмысление православной повести как особой жанровой формы в контексте мощного пласта отечественной православной прозы; обозначены ключевые особенности жанра повести, изучена специфика повести Ю. Шаманской. В ходе исследования было установлено, что современная православная повесть в соответствии с традицией русской классической повести сочетает в себе элементы социально-бытовые, лирико-психологические, «микросреда» для героя – это его ближайшее окружение, действие разворачивается в современности, с которой «прошлое» непосредственно связано, объясняет ее, причем различные аспекты действительности даны не в статике, но в развитии. При этом, в отличие от классической повести, в современной православной повести, во-первых, действие хотя и разворачивается в наши дни, объектом изображения становится современность, но герой уже не равен себе и своему «сюжету»: он изображен в кризисных ситуациях и финальном перерождении; во-вторых, присутствует многослойность (аллюзии к роману М. Булгакова «Мастер и Маргарита», «Преступлению и наказанию» Ф. Достоевского, в связи с чем сюжетное развертывание определяется мотивами двойничества, зеркальности, безумия); в-третьих, ключевую роль играет нравственная проблематика, пафос определят важнейшая идея – служение Богу как высшей Истине.
Ключевые слова
Полный текст
Введение. На рубеже XX–XXI вв. в русской культуре произошло масштабное обращение к православию. Безусловно, это связано с отменой действующего с 1918 г. декрета об отделении государства от церкви, который был объявлен утратившим силу лишь в 1990 г. (ранее почти восемьдесят лет продолжалась кампания по искоренению религиозных взглядов и формированию новой идеологии). В настоящее время наблюдается своеобразный ренессанс христианства: как в кинематографе (П. Лунгин «Остров», «Царь», А. Прошкин «Орда», С. Антонов «Необыкновенные путешествия Серафимы»), так и в литературе (А. Торик «Флавиан», Я. Шипов «Райские хутора и другие рассказы», Т. Шипошина «Полион», М. Кучерская «Современный патерик», Ю. Вознесенская «Звезда Чернобыль» и др.), внимание сосредотачивается на православных традициях, житийных сюжетах, актуализируются попытки осмыслить современность, человека как такового сквозь призму религиозных православных ценностей.
Подчеркнем, что в современной отечественной прозе, репрезентующей православную картину мира и разрабатывающей религиозные сюжеты и мотивику, правомерно, на наш взгляд, выделить две ключевые линии: во-первых, творчество светских писателей, обращающихся к православной тематике в связи с решением индивидуально-авторских художественных задач; во-вторых, собственно православную прозу, создателями которой являются действующие священнослужители и писатели, позиционирующие себя «православными». Художественные опыты православных писателей не так однородны, как это может показаться на первый взгляд, поэтому внутри православной прозы отметим важнейшие составляющие. Воспользуемся классификацией Н.Н. Гордиенко, которая, правда, применительно к современной поэзии выделила две типологические разновидности православной лирики: «православно-созерцательный и православно-воцерковленный типы духовно-поэтического творчества» [5, с. 6]. Эта же типология, на наш взгляд, вполне приложима и к современной православной прозе, в которой к типу «православно-воцерковленному» правомерно отнести произведения православной духовной прозы, «раскрывающие образ автора как деятельного участника церковной жизни, достигшего цельности и полноты религиозного бытия», живущих «внутри духовной традиции». «Доминантой их мировоззрения является не просто религиозное, но церковное сознание, воссоздание самой реальности Церкви как высшей ценности бытия», соответственно характерными особенностями этого типа прозы будут «внутренняя причастность к литургической традиции, духовной практике молитвы, опыту отцов Церкви, использование иконического пространства и литургического времени» [5, с. 9]. Соответственно «правослано-воцерковленный тип» репрезентован в творчестве священнослужителей арх. Тихона (Шевкунова), Н. Агафонова, Я. Шипова, А. Шантаева, А. Дьяченко, С. Михалевича, Алексия Лисняка, А. Торика, А. Мокиевского и др. Творчество же «православно-созерцательного типа» создается приверженцами православной традиции, но не ревнителями, а участливыми наблюдателями и созерцателями ее, жизнь которых протекает не внутри церковной традиции, а вне ее, хотя и в согласии с основными духовными импульсами, порождаемыми ею» [5, с. 7]. К этому типу вполне правомерно отнести прозу Ю. Вознесенской, М. Кучерской, Н. Сухининой, Ю. Шаманской, А. Донских и др.
Актуальность настоящего исследования объясняется необходимостью осмысления православной прозы, прежде всего «православно-созерцательного типа», на материале конкретных писательских практик, репрезентованных различными жанрами (романа, рассказа, повести).
История вопроса. Изначально отметим, что теория жанра повести освещена в многочисленных работах, где литературоведы выделяют ее доминантные признаки, отмечают ее тяготение «к эпичности, к хроникальному сюжету и композиции» [20, с. 15], предлагают различные трактовки жанровой классификации [7; 8; 10; 14; 15; 16], определяют структурные признаки жанра на основе анализа типов сюжетных ситуаций [17]. Согласимся с концепцией В.М. Головко [2–4], согласно которой предметом изображения в повести являются события недавнего прошлого: «в ней “примиряются” актуальность, современность проблематики с “эпической дистанцией” событийного сюжета»; источником ее становится «анализ жизненных процессов в формах уже “случившегося”. В контексте последовательного течения того, как сложилось, сформировалось в итоге то или иное явление»; «отдельные стороны, грани, аспекты действительности воссоздаются в повести не в статике, а в движении, в развитии» [2, с. 75], ее «прошлое» непосредственно связано с современностью, объясняет ее; человек в ней «равен себе, равен своему сюжету», другими словами «завершен» [2, с. 76]. Человек и «микросреда» соотносятся в повести особым образом – это ближайшее окружение героев, их «контекст повседневного бытия» [2, с. 85]. Однако, при всем многообразии исследований, посвященных жанру повести, ни в одном из них не исследуется повесть православная, что и является объектом нашего внимания.
Подчеркнем, что православная повесть в современной отечественной словесности представлена достаточно широко, о чем свидетельствуют «Мои посмертные приключения» Ю. Вознесенской, «Пустынник» К. Певцова, «Заманчивое предложение для Маргариты» Ю. Шаманской, «Птичка в вышине» Н. Смирновой, «Я буду ангелом» Е. Живовой, «Горькая осина» Б. Спорова, «Две повести о любви» И. Денисовой, «Василисса. Записки церковной продавщицы» Н. Кокухина, «Когда рассеется туман» Ю. Шурупова, «Любопытная Варвара» М. Сараджишвили и др. «Средняя» форма, по всей видимости, в наибольшей степени отвечает авторским задачам: повесть концептуально целостна, компактна, визуально обозрима, отличается однородностью дискурса; сюжетное развертывание в ней, как правило, однолинейно, что позволяет обстоятельно и последовательно воплотить ключевую тему, православное мировоззрение и мировосприятие, систему ценностей и идеалов.
Учитывая большой массив образцов этого жанра в современной православной словесности, мы полагаем необходимым сосредоточиться на анализе наиболее примечательной, на наш взгляд, повести Ю. Шаманской, привлекая материал других православных повестей лишь для контекстуальных сопоставлений. Научная новизна состоит в том, что впервые повесть Ю. Шаманской «Заманчивое предложение для Маргариты» вводится в научный оборот и определяется нами в качестве «православной» в связи и с тематикой (на первый план выходят темы, непосредственно связанные с православием, нравственная проблематика и ключевая идея – служение Богу как высшей Истине), и в жанровом отношении (она сочетает в себе элементы социально-бытовые, лирико-психологические, мистические). Цель нашей статьи – научное осмысление особенностей православной повести как особой жанровой формы в контексте мощного пласта отечественной православной прозы.
Методы исследования. В статье использованы сравнительно-исторический, типологический метод, а также метод целостного анализа художественного произведения.
Результаты исследования. В «Заманчивом предложении для Маргариты» Ю. Шаманской действие разворачивается в наши дни, объектом изображения становится современность, но многомерное изображение действительности отсутствует: здесь пафос критического анализа ограничен воссозданием губительного влияния на человека оккультных практик, магии и колдовства, увлечение которыми греховно, противоречит православной вере (сходным образом выстраивается, к примеру, и «Я буду ангелом» Е. Живовой, пронизанная пафосом осуждения абортов).
Главная героиня, оказавшись в большом городе и не поступив в институт, вынуждена зарабатывать на жизнь сама, но ровно до тех пор, пока не встречает окруженного демоническим ореолом тайны покровителя, в которого без памяти влюбляется и который «приобщает» ее к магии: «Он говорил, что избрал Маргариту не в возлюбленные, а для высшего служения. И теперь он нарекает ей новое имя Марго. <…> он хотел сделать ее уникальной ведьмой. В этом высшее служение и заключалось. Уникальной ведьмой она могла стать, только если сохранит девственность. <…> Ярис считал Маргариту своей Галатеей, учил магии, оформил работать в его салон «Фэн-шуй», где в это время было вакантно место ведьмы. <…> Она привыкла не задавать вопросов и жить только его интересами» [22, с. 48-49]. Примечательно, что разрушение родства, отпадение героини от семьи становится началом ее греховного пути (подобный мотив, кстати, традиционен для православной повести и воплощен и в «Звезде Чернобыль» Ю. Вознесенской, и в «Горькой осине» Б. Спорова). Если первоначально ее, воспитанную в селе, скромную и трудолюбивую, город прельщает ровно на столько, чтобы в последствие вернуться на малую родину и открыть частную нотариальную контору, то по мере отдаления от истоков, она уже не помышляет о возвращении домой, обманывает родителей, а преступная связь Маргариты с Ярисом изнутри подтачивает ее целостность. Проникновение «инородного», иноверного начала в ее достаточно замкнутую жизнь, подталкивает ее к греху, вносит разлад не только в ее «внешнее» существование, но и в душу. Ярис предстает враждебным, чужим началом. Его чужеродность, но оттого и привлекательность для юной героини, подчеркивается портретной характеристикой: «Высокий, по-балетному стройный, с тонкими чертами лица и ухоженными черными кудрями – образ, сошедший с обложки глянцевого журнала» [22, с. 48]. Ведущий затворнический образ жизни, всегда сумрачный и одинокий, считающий себя вампиром Ярис, образ которого воссоздан по шаблонам хрестоматийных персонажей-вампиров, окруженных демоническим ореолом и тайной (достаточно вспомнить князя Цепеша из «Дракулы» Б. Стокера или Эдварда Калина из «Сумерек» С. Майер), словно подтачивает изнутри традиционные жизненные устои и предстает началом враждебным, чужим. Он сознательно противопоставляет себя всему миру («людишкам»), верит в собственную исключительность, считает себя «избранным»; чужеродность его приравнивается к сатанинскому началу, которое сначала проявляется в деталях портрета («черные глаза», «горящие холодным огнем» [22, с. 46], мертвенно-бледное лицо, «злобно-страдальческая гримаса» [22, с. 51]), а затем материализуется и в сюжете: он зачат в результате сатанинского обряда, принимает участие в ритуалах с жертвоприношениями «богу дождя», пьет кровь животных. И вышеуказанные детали, и работа Маргариты «ведьмой» – воплощенной нечистой силой – вводит в повествование мистический план: инфернальные существа включаются в «микросреду» и начинают управлять событиями человеческой жизни.
Необходимо отметить очевидную параллель, хотя сниженную, с героями булгаковского романа «Мастер и Маргарита»: если история Мастера и Маргариты – история вечной любви, верности и смерти, сочетающая идиллию и трагедию, то любовь «ведьмы» Марго к Ярису – унизительна в своей односторонности. Пересечений с булгаковскими претекстом множество. Во-первых, имя главной героини полностью совпадает с именем ее литературной предшественницы, что, кстати, осознается влюбленным в нее персонажем: «<…> это Маргарита Николаевна <…>. Маргарита! Ну, конечно! Ее просто не могли назвать иначе!» [22, с. 11]. Во-вторых, равно как и героиня М.А. Булгакова готова на все во имя любимого, даже продать свою душу, так и Марго у Ю. Шаманской «была готова именоваться хоть Марго, хоть Горшком и даже пройти через высшее служение, только бы быть с ним» [22, с. 48], с той лишь разницей, что преданность и любовь булгаковской Маргариты вознаграждаются Воландом, тогда как «современная» Марго не получает желаемого и оказывается пленницей тьмы. В-третьих, любовь обеих героинь жертвенна, именно ради любви обе они стали «ведьмами», но булгаковская Маргарита вынуждена быть настоящей ведьмой «от горя и бедствий» лишь на одну ночь, после чего она воссоединяется с возлюбленным. В «Заманчивом предложении…» Марго «работает ведьмой», она избирает это в качестве своего пути и вскоре понимает, что своему покровителю она не нужна и вместо обретения «возлюбленного» заключает сделку с дьяволом, который, кроме богатства, славы и влияния, ничего не может ей предложить.
Хрестоматийно известные детали булгаковского текста тоже обытовляются, переводятся в пародийно-сниженный план: у М.А. Булгакова героев соединяет, как известно, не только вечная любовь, но и Книга, роман, написанный Мастером, дело его жизни, который Маргарита считает и своим: «Тот, кто называл себя мастером, работал, а она, запустив в волосы тонкие с остро отточенными ногтями пальцы, перечитывала написанное, а перечитав, шила вот эту самую шапочку. <…> Она сулила славу, она подгоняла его и вот тут-то стала называть мастером» [1, с. 409]. Высокая патетика и лиризм претекста у Ю. Шаманской подменяются пошлостью «мистических» обрядов, где «книга» связывает героев для осуществления мелкого колдовства, ибо содержит «рецепты» заклинаний и магические формулы, переписанные от руки, соответственно «книга» является лишь мнимостью, подобием, равно как фикцией оказывается сама «любовь» главной героини с ее «господином»: «Книга была водружена на специальную подставку в углу. Она казалась старинной только сверху, внутри же напоминала обычный студенческий конспект. Заглавия выведены красными чернилами, подзаголовки зелеными, сам текст записан мелким почерком черной шариковой ручкой» [22, с. 18].
Узнаваемы и детали одежды, заимствованные в романе Ю. Шаманской из претекста. Но если у М.А. Булгакова Мастер с гордостью носит шапочку, которую собственноручно изготовила для него возлюбленная («Я – мастер, – он сделался суров и вынул из кармана халата совершенно засаленную черную шапочку с вышитой на ней желтым шелком буквой “М”. Он надел эту шапочку <…> – Она своими руками сшила ее мне, – таинственно добавил он» [1, с. 404]), а его возлюбленная оказывается в черном плаще после бала у Воланда, то в «Заманчивом предложении…» эти детали контаминируются, носят искусственный характер в многократно повторяющейся сцене ритуала с петухом: «Маргарита вынула из шкафа черный балахон и шапочку, расписанную иероглифами. Надела балахон поверх платья, скинула туфли и приблизилась к трону, бормоча заклинания. Она опустилась перед мэтром на колено и протянула ему шапочку» [22, с. 45].
Снижается и образ князя тьмы – Чет (фонетически трансформированное «чёрт») лишен величественности булгаковского Воланда, в отличие от него, не верит в подчинение моральному закону, в то, что люди могут быть и добрыми, и умными. Действия Воланда закономерны, поступки Чета подчинены случаю; он не разоблачает зло, но воплощает его, вынужденно принимает разные обличья, когда героиня пытается сбежать в родительский дом, прибегает к запугиванию и различным посулам, чтобы подписать с ней договор, что сближает его, скорее, с «мелкими бесами». Отчетливая аллюзия возникает, кстати, еще и к «Фаусту» И.-В. Гете, когда Марго после трагедии с клиенткой обнаруживает в своем кабинете хохочущую над ней черную собаку (в гетевской трагедии героя преследует черный пес, облик которого принял Мефистофель; в булгаковском романе трость Воланда венчает голова черного пуделя, а цепь с его изображением будет на шее Маргариты в ночь бала сатаны).
Возвращаясь к характеристике «микросреды», играющей в повести важную функциональную роль, отметим, что микросреда изображается преимущественно в масштабах бытовой сферы, – это образ обстоятельств, все персонажи событийного сюжета изображены фактически в одной плоскости. Она достаточно однородна и воздействует на жизненные закономерности героев и их характеры, что характерно для православной повести в целом («Пустынник» К. Певцова, «Птичка в вышине» Н. Смирновой, «Я буду ангелом» Е. Живовой, «Горькая осина» Б. Спорова, «Две повести о любви» И. Денисовой, «Василисса. Записки церковной продавщицы» Н. Кокухина, «Когда рассеется туман» Ю. Шурупова и др.). Введение фантастических образов в непосредственное «бытовое окружение» персонажей в «Заманчивом предложении…» – наглядная демонстрация разных состояний одной реальности, способных существовать параллельно, причем инициатива всегда принадлежит сверхреальному миру (показательны в этом отношении сцены, когда духи мучают Маргариту, преследования ее Четом и т.д.).
Микросреда героини представлена несколькими хронотопами: салона, ее квартиры, квартиры Владимира, родительского дома. Причем по мере просветления Маргариты пространство вокруг нее расширяется, наполняется светом, меняется его цветовая символика. Первоначально она живет в замкнутом, узком пространстве салона: «Было темно, откуда-то лился красноватый свет. <…> Наверху все было зловещего красного цвета, как в старой фотолаборатории» [22, с. 14], окна в этом темном и мрачном помещении были наглухо закрыты черными портьерами. Очевидно, что в описании и самого салона, и кабинета Марго преобладают черные и бордово-красные тона, что, с одной стороны, соответствует искусственно созданному антуражу «ведьминского» пространства, с другой, символизирует ад: черный цвет в христианской цветовой символике ассоциируется с сатаной, красный – во-первых, с языками адского пламени, которое сжигает, но не дает света, во-вторых, с красным драконом из Откровения (12:3-4): он «лжет и обманывает, губит и разрушает, и свет, исходящий от него, пугает сильнее, чем тьма: он подобен огню преисподней, который сжигает, но не освещает. Этот красный цвет по своей природе – цвет Диавола и демонов» [12, с. 45]. Пространству соответствует и облик героини – в салоне она всегда в длинном бархатном черном платье, и влюбленного в нее Владимира несколько пугает мерцание ее глаз, вызывая в памяти «избитый сюжет фильма про вампиров» [22, с. 14–15]. В квартире, маленькой и тесной, куда она возвращается лишь вечером, периодически гаснет свет, ночью ее одолевают демоны, от которых нет спасенья. И чем больше Марго погружается в мир магии, тем глубже затягивает ее мрачный инфернальный мир.
Примечательно, что тема греха, изнутри подтачивающая органику жизни Маргариты, воплощенная в ее занятиях колдовством и в связи с Ярисом, трансформируется в тему искупления, обусловленной ее встречей с Владимиром, который обликом, образом жизни, всем своим существом противоположен Марго. Не случайно, на наш взгляд, что сближение Владимира и Маргариты происходит на следующий день после ее дня рождения, когда она соглашается поехать на пикник, – 14 октября – это в православной традиции великий праздник Покрова Пресвятой Богородицы. На Покров Богородица предстает как ходатаица перед Богом за всех верующих, на землю сходит ее благодать, перерождающая человека, очищающая его любовью от всего темного и греховного [см.: 9].
Черным тонам ада, согласно средневековой теологии, противостоит свет, который, по бл. Августину, есть «зримость неизреченного». По точному наблюдению М. Пастуро, «свет – единственная часть, которая является одновременно и видимой, и нематериальной. <…> Если цвет – это свет, то он по самой своей природе причастен к божественному, ибо Бог есть свет. А, следовательно, дать цвету больше места – значит оттеснить тьму ради торжества света, то есть Бога» [13, с. 47]. В этой связи отметим, что мраку мирка Марго противопоставлен светлый мир дома Владимира и его семьи: сначала героиня оказывается в загородном доме его старшего брата, перед которым простиралась «залитая солнцем полянка под деревьями» [22, с. 117], на ней был поставлен большой стол, за которым расположились три супружеские пары, Причем «весь вечер Маргариту не покидало чувство, что эти люди какие-то особенные» [22, с. 121]. «Особенность» семьи объясняется достаточно просто – все ее члены верующие, регулярно посещающие храм, исповедующиеся, живущие «по Божьим законам». Любовь, согласие, единение, которые видит героиня, одухотворяют жизнь Володиной семьи, обеспечивают стабильность ее соборного мира. Стремление же Маргариты жить своевольно, греховно, вопреки православным традициям, приводит ее к катастрофе. Примечателен в связи с этим мотив сиротства, характерный для православной прозы вообще («Горькая осина» Б. Спорова, «Пустынник» К. Певцова, «Птичка в вышине» Н. Смирновой, «Я буду ангелом» Е. Живовой, «Две повести о любви» И. Денисовой), но воплощенный здесь специфически. Владимир, оставшийся сиротой после смерти матери, сиротства не ощущает, ибо семья тети, взявшая на себя заботу о нем, принявшая его, стала для него подлинной семьей. Маргарита же, имея полную семью, отпадая от нее, постепенно превращается в сироту духовную, живущую в грехе.
При этом губит свою душу Марго, как ей кажется, постепенно: сначала занимаясь черной магией, затем договариваясь с преследующими ее духами и принося вред нуждающимся в ее помощи клиентам (достаточно вспомнить, к примеру, подростка Петеньку, покончившего жизнь самоубийством, бросившись под трамвай после посещения его матерью Марго, и явившегося в облике призрака к героине, чтобы обвинить ее в погибели его души), и наконец, заключив договор с Четом, губит собственную мать. Однако, когда она признается в своих злодеяниях Владимиру, он отрезвляет ее: «Марго, ты ее продала уже тогда, когда стала заниматься магией. С каждым нашим грехом мы продаем ее. Но пока мы живы, мы можем и должны спастись. Христос поможет» [22, с. 284].
Символика цвета и запаха играет в описании хронотопического пространства немаловажную роль. Мраку салона противопоставлен негасимый свет лампадки в квартире Владимира, который символизирует свет божественной благодати, охраняющий ее праведного хозяина: «Теперь зона кухни освещалась лишь желтым цветом лампады» [22, с. 281]. Образ лампады к тому же есть еще и воплощение Божьего чуда, ибо, как не пытается героиня ее погасить, лампадка продолжает светить, освещая божественным светом истины Марго, словно указывая ей верный путь и предостерегая от неверных поступков.
Постепенно, по мере приближения героини к вере, пространство вокруг нее расширяется. После трагического события в салоне первоначально она оказывается в доме старшего брата Владимира, где царят мир и лад. И не случайно долгий путь Марго к Богу начинается со знакомства с семьей, ибо «русская семья испокон века складывалась как соборная общность. Люди, сопричастные традиционному укладу жизни, родным обычаям и отеческой вере, воссоединялись и освящались ею» [18, с. 17]. В семье Владимира героиня обретает некое успокоение, временно забывает о терзаемых ее душу грехах. Именно семья, чтящая родовые устои и живущая в соответствие с Божьими заповедями, является в повести символом охранительницы веры, средоточием соборной традиции, нравственного опыта русского человека. Затем по наитию, неосознанно, Маргарита сама ищет спасения в храме, несмотря на то что нечистая сила принимает разные обличья и делает все, чтобы не пустить ее туда: «Она знала, куда бежит» [22, с. 166]. Трогательный платочек, который ей велено было надеть в церкви, она оставляет у себя. Более того, после посещения церкви она чувствует, что не хочет возвращаться домой. Образ храма в повести становится ценностным центром, который играет организующую роль в духовном возрождении, точнее, перерождении героини. Это своего рода точка отсчета в духовно значимом пространстве повествования – храм задает нравственный вектор в смутном бытии Маргариты, готовой «переродиться». Как указывал Е. Н. Трубецкой, «храм понимается как то начало, которое должно господствовать в мире» [19, с. 10]
Повторно она оказывается в храме, когда возвращается в родительский дом, который, кстати, находится в селе со знаковым названием Троицево. Здесь в пути героини, в ее отпадении от корней и возвращении на родной порог отчетливо просматривается аллюзия к библейской притче о блудном сыне, тогда как сама Маргарита являет собой тип раскаявшейся грешницы. Заметим, то распахнутые двери деревенского храма отнюдь не случайны – это своего рода метафора возвращения блудной дочери в лоно православия, к истокам: «Воскресная служба еще не отошла, двери были распахнуты. <…> Марго издали перекрестилась, и достала из сумочки платочек матушки. <…> Марго схватилась за притолоку, в глазах потемнело. Она положила голову на резной карниз, украшавший большую икону Богородицы, и прошептала: “Помоги!” Слова, обращенные к образу, возымели действие, девушка <…> почувствовала облегчение. Она вернулась в храм» [22, с. 239–244].
На наш взгляд, образы Маргариты, раскаявшейся грешницы, и Владимира, трепетно любящего ее и пытающегося вернуть ее в лоно православия, вполне сопоставимы с образами Раскольникова и Сонечки из «Преступления и наказания» Ф.М. Достоевского. Параллелью образу смиренной, жертвенной любви в образе Сонечки у Ф.М. Достоевского выступает у Ю. Шаманской Владимир. Так, в «Преступлении и наказании», правда, не говорится о влечении Сони к Раскольникову в физиологическом плане, хотя нет и отрицания естественных чувств женщины к мужчине, однако очевидно, что не из страсти и не из жалости она отправляется за ним на каторгу. Ее чувство, в котором растоплена его гордыня, – это подлинная любовь, которая не навязывает себя, любовь тихая, молчаливая, которая “молча” подносит ему Евангелие, на что Раскольников, потрясенный подобной жертвенной любовью, замечает: «Разве могут ее убеждения не быть теперь и моими убеждениями? Её чувства и стремления по крайней мере…» [6, с. 574]. Владимир также не навязывает Маргарите себя и свои чувства – с момента, как он случайно увидел ее на автобусной остановке и вплоть до того, пока, действительно, не приходится спасать её жизнь. Примечательно, что и Владимир, пытаясь ненавязчиво охранить Марго от темных сил, начинает читать Евангелие: «Он <….> взял в руки Библию. Открыл наугад и стал читать вслух. <…> – Ой мне страшно! – пискнула Марго. – Оно говорит со мной. – Слушай Евангелие и шепчи: “Господи, помилуй!” – повелел Владимир <…> И он снова принялся читать Евангелие, а Маргарита начала шептать молитву» [22, с. 176]. Владимир спасает ее не только тогда, когда квартира Марго подвергается вторжению демонов, но и даже после того, как она попыталась его убить, воплощая в себе идеал христианской любви к ближнему, милосердия, всепрощения. Именно такая любовь становится залогом возрождения героини, ее раскаяния и преодоления ею грехов прошлого. Она, равно как его «способность понимать и прощать» [22, с. 249], особенно ценно и делает Владимира незаменимым для Маргариты.
Спасительной силой предстает и иконописный образ Христа, несколько раз предстающий перед героиней в моменты ее отчаяния: первоначально она обвиняет лик Спасителя в том, что это Он «не защитил» ни ее, ни ее маму, а затем говорит, что «такие, как она» Христу не нужны, после чего ей является чудо: «Она взглянула на лик Спасителя и четко услышала тихий голос, он произнес лишь одно слово: “Нужна!”» [22, с. 285]. «нужность» Спасителю, Его заступничество, Промысел Божий в судьбе Марго, охранительная сила молитвы Владимира и его семьи за отступившую от православия героиню (о силе молитвы говорит и Чет: «Эти люди молятся о тебе» [22, с. 277]) возвращают её в лоно церкви.
Однако, еще не окрепнув в вере, отказавшись от Владимира, который был ее охранительной силой, она вновь оказывается во власти зла, что маркируется, помимо цветовых деталей, мотивами двойничества и зеркальности: «Марго подошла к зеркалу, взяла расческу и замерла, увидев своё отражение. Оно улыбалось улыбкой Чета. Девушка, которую увидела Марго в зеркале, была мало похожа на нее. Она внушала страх и была одета в черную пижаму. Марго взглянула на свою одежду. Пижама на ней была светлая. Со стороны зеркала послышался негромкий зловещий смех. Марго в панике обернулась – ее отражение, девушка-двойник в черной пижаме, стояла рядом с ней! <…> Марго-двойник в черном подошла к матери сзади и крепко ухватила ее за талию. <…> Девушка в черной пижаме молча потянула за поясок на ситцевом халате женщины. Развязав, она быстро накинула его на тонкую шею <…>. Затем отражение-двойник вернулось в зеркало и начало удаляться вглубь зеркального пространства» [22, с. 258; курсив наш].
Зеркало становится своего рода окном в мир мертвых, символической границей земного и потустороннего мира [см.: 11]. В повести оно понимается, как и в фольклоре, непременным атрибутом смерти (двойник героини, убивающий ее мать, появляется именно из зеркала) Но одновременно оно источник власти Чета, сил зла над Маргаритой (самого Чета, как мы указывали выше, можно считать персонажем, символически репрезентующим потусторонний, мертвый, мир). Персонифицированный двойник Марго совершает самое страшное преступление – убивает мать героини, внушая ей, что это сделала она. Зеркало в повести Ю. Шаманской еще и признак самотождества и отсылает к рассказу В. Брюсова «В зеркале» (1902), в котором также посредством зеркала происходит раздвоение сознания героини, расподобление отражения и реальности, причем зеркальное отражение получает власть над оригиналом, что приводит в конечном итоге к сумасшествию. Мотив безумия, непосредственно порожденный зеркальностью, репрезентован и в «Заманчивом предложении…»: после совершенных преступлений Маргарита первоначально оказывается в сумасшедшем доме и лишь усилиями Владимира она переведена в центр для пострадавших от тоталитарных сект при женcком монастыре, где под руководством отца Арсения окончательно исцеляется не только физически, но прежде всего духовно.
Финал являет собой счастливое преображение Маргариты, осознавшей собственную вину, степень нравственного падения, прошедшей через испытания, преступления, пережившей сердечную боль и муки совести, но обретшей цельность соборного сознания и принявшей православную истину. Она принимает предложение Владимира, но в свадебное путешествие предлагает отправиться «по святыням Греции», ибо нельзя «быть далеко от Церкви» [22, с. 295].
Выводы. Таким образом, мы пришли к следующим выводам. Повесть Ю. Шаманской «Заманчивое предложение для Маргариты» являет собой хотя и не единственный, но весьма примечательный образец современной православной повести.
Равно как и классическая русская повесть, она сочетает в себе элементы социально-бытовые, лирико-психологические, но, благодаря обширному аллюзивному слою (отсылки к «Мастеру и Маргарите» М.А. Булгакова, «Преступлению и наказанию» Ф.М. Достоевского), к ним добавляются элементы мистические. Интертекстуальные вкрапления порождают и специфический мотивный комплекс: у М.А. Булгакова заимствуются мотивы двойничества, зеркальности, безумия, у Ф.М. Достоевского идея жертвенной любви, которые синтезируются с типичными для православной повести мотивами греха, искупления, соборности и всепрощения. Действие хотя и разворачивается в наши дни, а объектом изображения становится современность, героиня «Заманчивого предложения…» уже не равна себе и своему «сюжету»: она изображена в кризисных ситуациях и финальном перерождении, которое подчинено центральной идее – служения Господу.
Значимую функциональную роль приобретает микросреда, которая однородна и изображается в масштабах бытовой сферы, все персонажи событийного сюжета изображены фактически в одной плоскости. Введение фантастических образов в непосредственное «бытовое окружение» персонажей – наглядная демонстрация разных состояний одной реальности, способных существовать параллельно, причем инициатива всегда принадлежит сверхреальному миру (сцены мучений Маргариты духами, преследования героини Четом и т.д.). Хронотоп по мере духовного просветления и нравственного очищения героини расширяется, меняется его цветовая символика, что также характерно для православной повести как таковой.
Несмотря на условно-композиционную открытость финала, что свойственно повести как жанру, и сам событийный континуум «Заманчивого предложения…», и концовка адекватны бытийной концепции автора «реального» – это спасительная сила православия. Стремление жить не своевольно, но по воле Божьей, следуя всем православным установлениям, войти в семью, единство которой освящено верой и молитвой, свойственно очистившейся, перерожденной героине в финале повести.
Об авторах
Ольга Юрьевна Осьмухина
Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева
Автор, ответственный за переписку.
Email: osmukhina@inbox.ru
доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой русской и зарубежной литературы
Россия, СаранскСветлана Петровна Гудкова
Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева
Email: sveta_gud@mail.ru
доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры русской и зарубежной
Россия, СаранскЕкатерина Александровна Белоглазова
Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева
Email: e.a.beloglazova@yandex.ru
аспирант кафедры русской и зарубежной литературы
Россия, СаранскСписок литературы
- Булгаков, М. А. Белая гвардия; Мастер и Маргарита: Романы / Предисл. В. И. Сахарова. – Мн.: Юнацтва, 1988. – 670 с.
- Головко, В. М. Историческая поэтика русской классической повести. – М.: Флинта; Наука, 2010. – 280 с.
- Головко, В. М. Поэтика русской повести. – Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1992. – 191 с.
- Головко, В. М. Русская реалистическая повесть: герменевтика и типология жанра. – М.: МГОПУ; Ставрополь: СГПУ., 1995. – 438 с.
- Гордиенко, Н. Н. Русская поэзия рубежа XX–XXI вв. в контексте православной духовной традиции: автореф. дис. … канд. филол. наук. – М., 2008. – 22 с.
- Достоевский, Ф. М. Преступление и наказание // Достоевский Ф. М. Собрание сочинений. В десяти томах / Под общ. Ред. Л. П. Гроссмана, А. С. Долинина, В. В. Ермилова, В. Я. Кирпотина, В. С. Нечаевой, Б. С. Рюрикова. – М.: ГИХЛ, 1957. Т. 5. – 600 с.
- Захаров, В. Н. Система жанров Достоевского: Типология и поэтика. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1985. – 209 с.
- Кузьмин, А. И. Повесть как жанр литературы. – М.: Знание, 1984. – 108 с.
- Митрополит Антоний Сурожский. Проповедь на Покров Божией Матери [Электронный ресурс]. – URL: https://foma.ru/14-oktyabrya-2013-pokrov-presvyatoj-bogorodiczyi.html (дата обращения: 25.11.2022).
- Новикова, Е. Г. Проблема малого жанра в эстетике И. С. Тургенева // Проблемы метода и жанра. – Томск: Изд-во Томского ун-та, 1978. – С. 13–20.
- Осьмухина, О. Ю., Танасейчук, А. Б. Специфика преломления готической традиции в романе Г. Леру «Призрак Оперы» // Вестник Волжского университета имени В. Н. Татищева. – 2019. – №1 (28). – В 2-х томах. – Т. 1 Филология. – С. 76–84.
- Пастуро, М. Красный. История цвета / пер. с франц. Н. Кулиш. 2-е изд. – М.: НЛО, 2022. – 160 с.
- Пастуро, М. Черный. История цвета / пер. с франц. Н. Кулиш. 4-е изд. – М.: НЛО, 2021. – 168 с.
- Русская повесть XIX века: История и проблематика жанра / Под ред. Б. С. Мейлаха. – Л.: Наука: Ленингр. отд-ние, 1973. – 565 с.
- Русская повесть как форма времени [Отв. ред. А. С. Янушкевич]. – Томск: Изд-во Томского ун-та, 2002. – 336 с.
- Синенко, В. С. Русская советская повесть 40-х - 1-й половины 60-х годов: поэтика и типология жанра: дис. ... д-ра фи-лол. наук. – Уфа, 1969. – 643 с.
- Тамарченко, Н. Д. Русская повесть Серебряного века (Проблемы поэтики сюжета и жанра). – М.: INTRADA, 2007. – 255 с.
- Троицкий, В. Ю. Духовность слова: Слово в филологическом образовании и воспитании. – М.: ИТРК, 2001. – 184 с.
- Трубецкой, Е. Н. Три очерка о русской иконе / [Послесл. И. Панкеева]. –Новосибирск: Изд-во «Сибирь XXI век», 1991. – 110 с.
- Утехин, Н. П. Жанры эпической прозы. – Л.: Наука: Ленингр. отд-ние, 1982. – 185 с.
- Флоренский, П. А. Столп и утверждение истины: Опыт православной теодицеи в двенадцати письмах [Репринт]. – М.: Лепта, 2002. –812 с.
- Шаманская, Ю. Заманчивое предложение для Маргариты. Рязань: Зёрна, 2017. – 296 с.
Дополнительные файлы