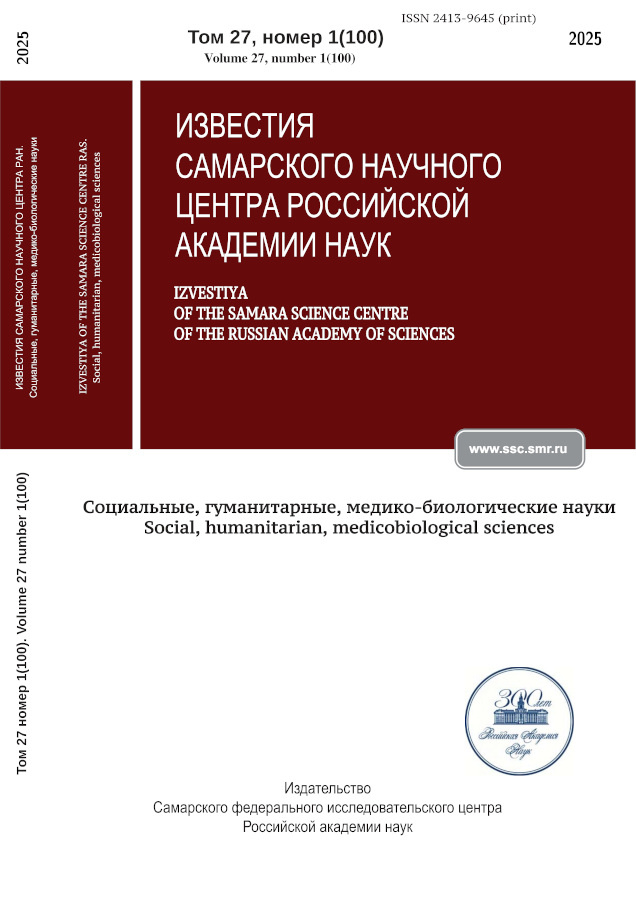The musical code of Varlam Shalamov's poetry
- Authors: Nekrasova I.V.1
-
Affiliations:
- Samara State University of Social Sciences and Education
- Issue: Vol 27, No 1 (2025)
- Pages: 48-55
- Section: PHILOLOGICAL SCIENCES
- URL: https://journals.eco-vector.com/2413-9645/article/view/692468
- DOI: https://doi.org/10.37313/2413-9645-2024-27-100-48-55
- EDN: https://elibrary.ru/XOVVIM
- ID: 692468
Cite item
Full Text
Abstract
The article is devoted to the problem of intermediality, the interaction of literature (poetry) and music in the lyrical heritage of V. T. Shalamov. It is noted that the boundaries and forms of manifestation of the concept of "musicality in literature" are not sufficiently formed in literary and cultural studies. In the poetic heritage of Varlam Shalamov, such vivid manifestations of intermediality as the penetration of musical motifs and images into the lyrical text are found; examples of "musicalization" of poetic texts using sound repetitions, poetic intonation (in particular, using inversion) are considered. The article focuses on the variety of metrical and strophic techniques and forms to create a special musical sound of the poet's poems. The intensity of synthetic trends in the culture of the XXI century It is confirmed in the article by the analysis of the cantata by the modern composer Mikhail Gogolin "Silentium" based on V. Shalamov's poems. The melodic interpretation of the poet's famous and less popular poems fully reflects their musicality, the verbal text is modified through music, and sometimes receives a different interpretation.
Full Text
Введение. Различие литературы и музыки столь же явственно, сколь понятна и генетическая связь этих видов искусства. Известный музыковед прошлого В. Васина-Гроссман в 70-гг ХХ в. опубликовала трехчастное исследование «Музыка и поэтическое слово». Ее мнение таково: основы форм в музыке и в литературе родственны, а иногда вовсе идентичны, но при этом не следует искать прямых аналогий. Надо говорить «об универсальности некоторых основных организующих принципов, которые и определили постоянное взаимопритяжение обоих искусств» [Васина-Гроссман В.А., с. 114].
Методы исследования. В данной статье мировоззренческие, теоретико-литературные, художественные проблемы разбираются при помощи системного метода. Он подразумевает структурность, взаимозависимость объектов рассмотрения и исследования, вариативность выводов. При анализе лирических и музыкальных произведений используется метод описательной поэтики словесных текстов и музыкальных жанров, в частности, кантаты.
Материал исследования: поэтические тексты В. Шаламова, его письма к Ю. Шрейдеру, эссе и статьи по проблемам стиховедения и стихосложения, а также кантата Михаила Гоголина «Silentium» (2015) на стихи В.Шаламова.
История вопроса. В современных исследованиях по проблеме музыкальности поэзии, в том числе диссертационных, слышится многоголосье мнений. Литературоведы рассматривают разные способы «омузыкаливания» стихов, «внедрения», «осуществления» музыкальности в художественном тексте [Абдуллаев Е., Макарова С.А., Шульдишова А.А.]. Коллеги-стиховеды исследуют музыку стиха через анализ фонетических приемов, метрического репертуара, особых мелодических законов лирического синтаксиса, через музыкальные принципы архитектоники на уровне лирических циклов и т. д.
Литературоведы до сих пор не определились насчёт того, чем конкретно считать музыкальность лирики – категорией, качеством, принципом или даже особого рода эффектом, возникающим при чтении.
Цель настоящего исследования – показать истинную музыкальность шаламовской лирики, используя основные содержательные моменты его стиховедческих заметок, писем, эссе, его стихи и кантату на стихи В. Шаламова.
Результаты исследования. Поиск «музыки» в поэзии В. Шаламова связан с рассмотрением особенностей словесного проявления музыкальности. Видимо, в этом случае речь должна идти о т. н. «речевой музыке», которая обнаруживается в категориях фоники, ритмики, в динамике и языковых средствах. Кроме того, о генетической связи двух искусств говорит и использование имплицитной референции – своеобразной «музыкализации» лирического произведения. По мнению автора данного исследования, практически все классификационные способы взаимодействия литературы и музыки, которые выделяют ученые разных гуманитарных областей, представлены в поэзии В. Шаламова.
По воспоминаниям И.П. Сиротинской, Варлам Тихонович говорил ей:
« — То, что я больше всего хотел в детстве — не сбылось. Я хотел быть певцом» [Сиротинская И.П., с. 15]. Ирина Павловна продолжает: «Он сочинял в юности экзотические песни. "У тебя холодные колени..." ("Ориноко"), синеблузные марши, даже исполнял мне их неожиданно высоким и неверным голосом, но — с увлечением» [Сиротинская И.П., с. 15].
Сам В. Шаламов неоднократно говорил (и писал), что музыка и поэзия – очень разные искусства. Из письма Ю. Шрейдеру: «Я избегаю пользоваться музыкальной терминологией - ибо это одна из причин смешения понятий, тормозящая дело. Музыка – абсолютно иное искусство, чем стихи, и пользование ее терминологией только затруднит дело» [Шаламов В., 2004, с. 449]. Ещё одно шаламовское мнение: «Противоречие музыки и поэзии заключается еще и в том, что музыка — интернациональна, тогда как поэзия — глубоко национальна, вся в языке, его особенностях и законах. Столкновение стихов с музыкой дорого обходится поэту. Конечно, стихи Пушкина огрублены музыкой. И дело тут не в том, что что-то потеряно (найдено тут ничего быть не может), а в том, что это другой мир» [Шаламов В., 2004, с. 376]. Но, тем не менее, по отношению к поэзии он использует такие выражения: «рождение трезвучия из смысла», «переход к "смежным тональностям" очень привлекателен для поэта в его звуковом поиске» и подобные.
Хотя все же музыка как мотив, как лирический образ шаламовских стихов нами подмечены.
«Басовый ключ», «гитарный строй», «цыганский перебор», «струнный звон», «гитарные колки», «верная нота» - все это элементы лирического сюжета небольшого стихотворения «Басовый ключ…» [Шаламов В., 2020, Т. 1, с. 102].
О кружеве музыки тоски, о «гибкой волне звука» поет скрипач в одноименном стихотворении [Шаламов В., 2020, Т. 1, с. 151].
В стихотворении «Концерт» [Шаламов В., 2020, Т. 1, с. 185] скрипач другой и скрипка уже иная.
Удивительно шаламовское сравнение песенной мелодии и тишины (в целом, мотив тишины – отдельный у В. Шаламова):
Что песня? — Та же тишина.
Захвачено вниманье
Лишь тем, о чем поет она,
Повергнув мир в молчанье… [Шаламов В., 2020, Т. 1, с. 368]
Оксюморонность сопоставлений звуков и тишины, молчания встречаем в стихах Шаламова часто [Шаламов В., 2020, Т. 2, с. 11, 44, 306]. Удивительное по своей музыкальной насыщенности стихотворение без заглавия стоит привести целиком:
Как мало струн! И как невелика
Земная часть рояля или скрипки,
Но это то, что нас ведет века,
Что учит нас и гневу и улыбке.
Ведь сердце бесконечно, как клавир,
Тот самый строй, куда сумел вместиться
И прошлого и будущего мир,
Трепещущий, как пойманная птица.
И связь искусства с миром так тонка,
Тонка, и все же так неоспорима.
Прикосновенье легче мотылька,
И удаленье торопливей дыма [Шаламов В., 2020, Т. 2, с. 181].
Оно музыкально по своей сути, по сюжету, поэтике. Обращаем внимание на девятый и десятый стихи (выделены курсивом. – И. Н.): дважды повторенное слова «так» и «тонка» требуют достаточной паузы, осмысления, «вслушивания». Подобные интонационные музыкальные находки нередки у В. Шаламова.
Итак, хотя в его стихах нечасты конкретные музыкальные образы и образы музыки, но звуковой и словесный мир его лирических текстов, его «мирослышание» очень мелодичны.
Глубина стиховедческого эссе В. Шаламова «Звуковой повтор – поиск смысла» не раз отмечалась литературоведами. Здесь писатель пытается аргументировать важный для русского стихотворчества фонетический закон. Он пишет: «Стихотворная гармония зависит от сочетания согласных в стихотворной строке» [Шаламов В., 2013, с. 253], использует понятие «опорные трезвучия» и разрабатывает систему «фонетических классов». Эти идеи воплотились в его лирике (см., в частности, стихи «Лиловый мед», «Ручей», «Гроза» и др.).
Важным в этом аспекте представляется и размышление поэта о том, «чтобы гласные и согласные буквы представляли собой кристалл геометрической правильности – повторяемый звуковой узор» [Шаламов В., 2013, с. 254]. Таким образом, проблема звуковой (фонетической) оболочки стихотворений, гармоничная повторяемость звуков (трезвучий), решаемая В. Шаламовым в теоретическом аспекте, проявлена и в его лирике.
Перед обращением к способам «мелодизации» стихотворных текстов В. Шаламов адресуемся к его работе «Поэтическая интонация» [Шаламов В., 1998]. Автор эссе уточняет общепринятое значение этого понятия, называет поэтическую интонацию «литературным портретом поэта», «паспортом поэта» и определяет формы ее проявления в стихотворном тексте.
Это в первую очередь инверсия, которая, как известно, усиливает мелодичность фразы, а также «излюбленный размер». Проявлено ли это теоретическое убеждение в шаламовской лирике?
Прием инверсирования достаточно частотный в поэзии Варлама Тихоновича: «Ты югом нагретые руки протянешь на север ко мне» [Шаламов В., 2020, Т.1., с. 78]; «Холодной кистью виноградной стучится утро нам в окно» [Шаламов В., 2020, Т.1., с. 87]; «Судьбу измеряю я мерой на собственный куцый аршин…» [Шаламов В., 2020, Т.1., с. 257] и др.
Излюбленный шаламовский размер – безусловно, ямб. Об этом говорилось и в предыдущих работах [Некрасова И.В., с. 140]: именно двусложные размеры с преимуществом ямба превалируют в сборниках «Сумка почтальона», «Синяя тетрадь», «Лично и доверительно», «Златые горы» и в других. Но помимо всех размеров силлабо-тоники (в стихах Шаламова нередки дактиль, амфибрахий, анапест), поэт как продолжатель традиций не только золотого века русской лирики, но и века Серебряного, использует метрические орнаменты литературного тонического стиха. Вот, в частности, пример акцентного стиха:
Как говорит цензура, -∪∪-∪-∪
Ада — не надо. -∪∪-∪
Ад — это литература -∪∪∪∪∪-∪
Дантовского склада [Шаламов В., 2020, Т.2., с. 203]. -∪∪∪-∪
Обратим внимание на шаламовский комментарий к стихотворению «В воле твоей» [Шаламов В., 2020, Т.1., с. 321]: «Я полагал, что эти восемь строк — оптимальный, по мнению Пастернака, размер для русского лирического стихотворения — не уступают пушкинскому „Я вас любил“…» [Шаламов В., 2020, Т.1., с. 545] (цитата сокращена. – И. Н.). Из этого признания вытекает читательское ожидание ямба. Но перед нами – вполне органичный, «правильный» дактиль. Он, впрочем, буквально разбивается в первой строфе ритмом 1 и 4 стихов:
В воле твоей — остановить 1-4-6
Этот поток запоздалых признаний. 1-4-7-10
В воле твоей — разорвать эту нить 1-4-7-10
Наших воспоминаний [Шаламов В., 2020, Т.1., с. 321]. 1-6 (выделено мной. – И. Н.)
Так строгая силлабо-тоника превращается, на наш взгляд, в логаэд.
Вернемся к «излюбленному» шаламовскому размеру. Двусложная силлабо-тоника активно использует пиррихии. Этот прием, как известно, придает поэтическому тексту певучесть, гибкость, создает особую ритмическую интонацию и порождает у читателя/слушателя особенный эмоциональный отклик. Пиррихий «размывает» двустопные стихи, эти строчки хочется растянуть, пропеть, замедлить темп чтения.
В двухтомнике В. Шаламова в «Новой Библиотеке Поэта» находим пространный авторский комментарий к стихотворению середины 1950-х гг. «Раковина»: «Каждое мое стихотворение — и „Раковина“ в том числе — представляет собой поиск, вооруженный самыми последними достижениями русской лирики XX века»; а также признание, что это стихотворение «с технической стороны отличается особым ритмическим узором» [Шаламов В., 2020, Т.1., с. 551]. Как же он проявлен? В. Шаламов буквально «играет» со строчными ударениями, допускает их многочисленные пропуски.
Так, в заключительной строфе он ставит подряд три и даже пять безударных слогов:
И пусть не будет обнаружена ∪-|∪ -|∪ ∪ | ∪-| ∪ ∪| 2-4-8
Последующими веками ∪-|∪∪|∪∪|∪-|∪ 2-8
Окаменевшая жемчужина ∪∪|∪-|∪∪|∪-|∪∪ 4-8
С окаменевшими стихами [Шаламов В., 2020, Т.1., с. 347]. ∪∪|∪-|∪∪|∪-|∪ 4-8
Интересный факт: стиховеды признают, что в русском четырехстопном хорее существует такая ритмическая тенденция – использовать пиррихии в первой стопе, а во второй практически никогда, в третьей – редко. У В. Шаламова эта тенденция, как видим, нарушается.
Но есть и противоположные, достаточно редкие образцы.
В составе письма Ю. Шрейдеру, опубликованному впервые в журнале «Вопросы литературы», есть текст позднего, 1975 г., стихотворения В. Шаламова, который, по словам самого поэта, является «вариацией стихотворения» адресата Ю. Шрейдера «Каплет дождь святой водичкой на висок…» [Шаламов В., 1989, с. 227]. Сами по себе рассуждения В. Шаламова по поводу этого текста очень своеобразны и точны. В экспромте-вариации он показывает возможности использования разностопных стихов и демонстрирует практическое отсутствие пиррихиев в хорее.
Стихотворение объемное, в нем 52 стиха, а пиррихии лишь в девятнадцати. Приведем некоторые из них:
Каплет дождь святой водичкой: -∪|-∪|-∪|-∪| 1-3-5-7
Дьявол пьет, -∪|- 1-3
Тычет в лед зажженной спичкой, -∪|-∪|-∪|-∪| 1-3-5-7
Тает лед [Шаламов В., 2020, Т.2., с. 270]. -∪|- 1-3
Здесь, кстати, активно используется В. Шаламовым разностопный метр, который мы считаем довольно репрезентативным «музыкальным» моментом поэзии В. Шаламова. Он нередко использовал и разностопные стихи (сочетание коротких – длинных строк), и просто двух- трехстопные, т. е. очень короткие стихи.
В уже упомянутом мной письме Ю. Шрейдеру Варлам Тихонович написал, что «укороченные строки широко применял Блок», а сочетание четырех- (трехстопных) стихов с одно- двустопными находим в лирике А. Фета [Шаламов В., 1989, с. 238]. В этом случае возникает уникальный четкий темпоритм, который ассоциируется с танцевальной – вальсовой, маршевой, мазурочной и пр. – ритмикой. Некоторые примеры здесь уже приведены.
Заключительные строфы стихотворения «Прихожу я слишком рано…» демонстрируют равномерное использование поэтом полных четырехстопных и двустопных стихов:
Я топчу ногами камень
В нетерпеньи.
В клочья рву цветы руками
В исступленьи.
Я ломаю ветки-метки,
Знаки речи.
Очерчу границы клетки
Человечьей [Шаламов В., 2020, Т.2., с. 211].
В поэзии В. Шаламова используется не только метрическое, но и строфическое разнообразие. Конечно же, в его стихах превалируют четверостишия с традиционной рифмой. Но сегодня нужно отметить приверженность В. Шаламова к суперкоротким строфическим формам, к двух- и трехстишиям, и этот момент заслуживает пристального внимания. В процессе исследования найдены несколько десятков (более сорока) подобных примеров. Они звучат как музыкальные темы, фразы.
Например, двустишия, слышимые как моностихи:
Я выбрал черную дорогу,
Я выбрал черную весну...
Друзья мои все умерли давно,
И я один сражаюсь в одиночку [Шаламов В., 2020, Т.2., с. 280].
Ты ведь знаешь сама:
Тишина — это тьма.
Звуки — света лучи!
О, запой! Закричи!
Постучи в мою дверь,
Постучи хоть теперь [Шаламов В., 2020, Т.2., с. 276].
Не удержал усилием пера
Всего, что было, кажется, вчера.
Я думал так — какие пустяки!
В любое время напишу стихи.
Запаса чувства хватит на сто лет —
И на душе неизгладимый след.
Едва настанет подходящий час,
Воскреснет все — как на сетчатке глаз.
Но прошлое, лежащее у ног,
Просыпано сквозь пальцы, как песок,
И быль живая поросла быльем,
Беспамятством, забвеньем, забытьем… [Шаламов В., 2020, Т.2., с. 248].
В рамках сегодняшней темы отдельного внимания требует кантата Михаила Гоголина «Silentium» (2015) на стихи В. Шаламова. Композитор рискнул объединить средства словесной и музыкальной выразительности в координатах достаточно редкого сегодня жанра кантаты и преуспел в этом. Стихи В. Шаламова, ставшие основой произведения, действительно очень музыкальны, они требуют проговорения, пропевания, они словно рассчитаны на подобную музыкальную интерпретацию.
Вполне ожидаемым стало начало: в первой части композитор использует отрывки из поэмы «Аввакум в Пустозерске». Середина произведения – это музыкальная версия потрясающей «Камеи». За этой частью следует седьмая – «Я беден, одинок и наг…». Пронзительно, практически «а капелла» звучит в исполнении женских сопрано заглавный «Silentium». То есть ожидания тех слушателей, кто знает шаламовскую лирику, вполне удовлетворены. Известнейшие стихотворные тексты В. Шаламова задействованы композитором.
Выбор некоторых других текстов удивил и обрадовал. Можно считать большой удачей композитора оригинальное музыкальное прочтение стихотворения «Моя мать была дикарка…» [Шаламов В., 2020, Т.2., с. 197]. Это вторая часть кантаты М. Гоголина. Здесь, как и в других частях, композитор достаточно вольно обращается с текстами, но такой подход к литературной основе, во-первых, легитимен, во-вторых, оправдан.
Двустишия В. Шаламова в этом произведении помогают музыканту. Он меняет темп исполнения, делает паузы, активно использует повторы двустиший, отдельных стихов, фраз. Номер построен на многоголосии, и это создает впечатление диалога, размышления.
В третьей части нежданно сплетены стихи «Я нищий - может быть, и так…» [Шаламов В., 2020, Т.1., с. 302] и «Так вот и хожу на вершок от смерти…» [Шаламов В., 2020, Т.1., с. 214]. Написанные в разное время, стихи различны по движению лирических сюжетов. Но они близки пафосно. По признанию композитора, объединение в один номер этих двух стихотворений произошло спонтанно.
Обе строфы стихотворения «Я нищий…», а затем и повтор первой строфы, вначале слышится в исполнении солиста-тенора. Звучание очень личностное, доверительное. Второй текст исполняется хором. Здесь использовано хоровое фугато, своего рода «нестрогая» фуга. Она позволяет не только сменить настрой на тревожный, мучительный, но и насладиться многоголосием, столкновением тембров, певческих голосов. Затем следует уже хоровое исполнение всего первого стихотворения в ином – торжественном звучании. А в финале номера вновь звучит теноровое соло – медленно, протяжно, печально.
М. Гоголин почувствовал шаламовскую привязанность к разностопным стихам. Но в лирике этот прием используется для выделения коротких стихов, для концентрации внимания на них.
В музыке же несколько иначе. В части «Я беден, одинок и наг…» композитор музыкально выравнивает разностопность стихотворения. Солист растягивает слова, в буквальном смысле их пропевает. Другой пример находим в заключительном номере кантаты. «Я разорву кустов кольцо, уйду с поляны…» [Шаламов В., 2020, Т.1., с. 167] – стихотворение достаточно лиричное. Но оно поставлено в финал, поэтому здесь слышится мощное форте, эмоционально сильное хоровое исполнение. То есть перед нами вариант преображения словесного текста посредством музыки, его новое толкование.
Выводы. Собранный материал о явной музыкальности поэзии Варлама Тихоновича Шаламова значителен и с трудом вместился бы в рамки данной статьи. В связи с этим позволим себе некий промежуточный вывод. Триединство звука, слова и смысла в поэзии В. Т. Шаламова явлено в том числе посредством ее особой музыки.
Источники:
- Шаламов, В. Звуковой повтор – поиск смысла [Текст]: Шаламов В. Т. Собр. соч. в 6-ти т. + 7 т., доп. Т. 7, дополнительный. – М.: Книжный Клуб Книговек, 2013. – С. 251–267.
- Шаламов, В. Искусство поэзии (письмо Ю. Шрейдеру) // Вопросы литературы. – 1989. – №5. – С. 227.
- Шаламов В. Новая книга: Воспоминания. Записные книжки. Переписка. Следственные дела. – М.: Изд-во Эксмо, 2004. – 1066 с.
- Шаламов, В. Поэтическая интонация [Текст]: Шаламов В. Т. Собр. соч.: В 4-х т. / [Сост., подгот. текста и примеч. И. Сиротинской]. Т. 4. - М.: Худож. лит.: ВАГРИУС, 1998. – С. 304–313.
- Шаламов, В. Т. Стихотворения и поэмы: в 2 томах / вступ. статья, составление, подготовка текста и примечания В. В. Есипова. – СПб. : Издательство Пушкинского Дома; Вита Нова, 2020.
References:
- Shalamov, V. Zvukovoi povtor – poisk smysla (Sound repetition - the search for meaning) [Tekst]: Shalamov V. T. Sobr. soch. v 6-ti t. + 7 t., dop. T. 7, do-polnitel'nyi. – M.: Knizhnyi Klub Knigovek, 2013. – S. 251–267.
- Shalamov, V. Iskusstvo poezii (pis'mo Iu. Shreideru) (The art of poetry (letter to Yu. Shreider)) // Voprosy literatury. – 1989. – №5. – S. 227.
- Shalamov V. Novaia kniga: Vospominaniia. Zapisnye knizhki. Perepiska. Sledstvennye dela (New book: Memories. Notebooks. Correspondence. Investigative files). – M.: Izd-vo Eksmo, 2004. – 1066 s.
- Shalamov, V. Poeticheskaia intonatsiia (Poetic intonation) [Tekst]: Shalamov V. T. Sobr. soch.: V 4-kh t. / [Sost., podgot. teksta i primech. I. Sirotinskoi]. T. 4. - M.: Khudozh. lit.: VAGRIUS, 1998. – S. 304. – 313.
- Shalamov, V. T. Stikhotvoreniia i poemy: v 2 tomakh (Poems and verses: in 2 volumes) / vstup. stat'ia, sostavlenie, podgotovka teksta i prime-chaniia V. V. Esipova. – SPb. : Izdatel'stvo Pushkinskogo Doma; Vita Nova, 2020.
About the authors
Irina V. Nekrasova
Samara State University of Social Sciences and Education
Author for correspondence.
Email: nekrasova-iv@yandex.ru
PhD in Philology, Associate Professor, Associate Professor at Department of Literature, Journalism and Teaching Methods
Russian Federation, SamaraReferences
- Abdullaev, E. Ostanovite muzyku (Stop the music) // Arion. – 2018. – №1. – S. 18-30.
- Vasina-Grossman, V. A. Muzyka i poeticheskoe slovo (Music and the poetic word). – M.: Muzyka, 1978. – 365 s.
- Makarova, S. A. «Muzyka» stikha v estetike A. A. Feta i russkikh simvolistov ("Music" of verse in the aesthetics of A. A. Fet and Russian symbolists). – Tambov: Gramota, 2017. – № 1(67): v 2-kh ch. Ch. 2. – C. 37-41.
- Nekrasova, I. V. Teoreticheskoe nasledie Varlama Shalamovva i ego poeziia: opyt literaturovedcheskogo integrirovaniia (Theoretical heritage of Varlam Shalamov and his poetry: an experience of literary integration) // Poezd Shalamova. Problemy rossiiskogo samosoznaniia: sud'ba i mirovozzrenie V.T. Shalamova (k 110-letiiu so dnia rozhdeniia). – M.: Golos, 2017. – S. 137 – 144.
- Sirotinskaia, I. P. Moi drug Varlam Shalamov (My friend Varlam Shalamov). — M.: B. i., 2006. — 199 s.
- Shul'dishova, A. A. Muzykal'nost' kak fundamental'naia sostavliaiushchaia liricheskogo obraza: na materiale tvorchestva A. Bloka (Musicality as a fundamental component of the lyrical image: based on the work of A. Blok): Diss… kand filolog. n. – Donetsk, 2017. – 350 s.
Supplementary files