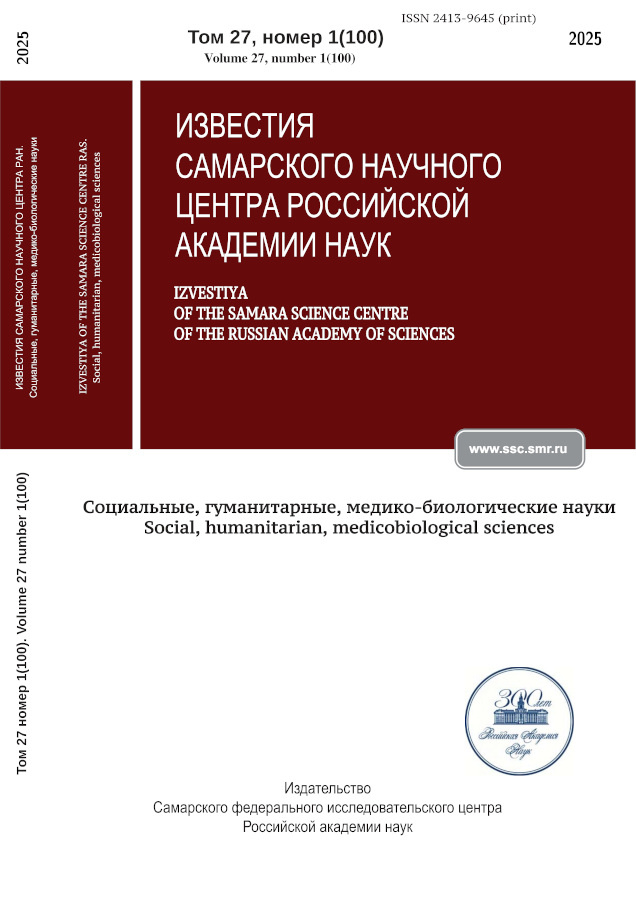Macro-narrative algorithms: 24-element cycle of describing reality (using the novel by L. Tolstoy "Anna Karenina")
- Authors: Denisov D.V.1
-
Affiliations:
- Volga State Transport University
- Issue: Vol 27, No 1 (2025)
- Pages: 81-88
- Section: КУЛЬТУРОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
- URL: https://journals.eco-vector.com/2413-9645/article/view/692487
- DOI: https://doi.org/10.37313/2413-9645-2024-27-100-81-88
- EDN: https://elibrary.ru/UPLTVK
- ID: 692487
Cite item
Full Text
Abstract
The article develops an ontological model in relation to which the narrative is presented as an 8-element cycle, applied to both microstructures (episode) and macrostructures of the narrative (plot). The study is conducted in the context of ancient macroalgorithmic models, which are still popular in the countries of Southeast Asia. In ongoing storytelling, there is periodic application of the 8-element model. Three such cycles are accepted as a narrative cycle, the content of which is a large-scale description of a certain reality. The 24th stage of the narrative is followed by the beginning of the description of a new reality at the 25th/26th stages. The author determines the properties of four levels of the 8-element episode. The obtained characteristics are tested at the micro level of the narrative and at the macro level, represented by eight parts of the novel "Anna Karenina" by L. Tolstoy. It was found that there is a change in socio-political reality upon completion of the 24th stage of narrative, after this stage public opinion acquires greater significance.
Full Text
Введение. Макроалгоритмы редко становятся предметом исследований в западноевропейской гуманитарной науке, в то время как в культурах Юго-Восточной Азии категория числа сохранила свою значимость и по сей день. В Индии традиционная классификационная модель насчитывает 64 элемента: 64 танца Шивы, 64 вида искусства…, а также, согласно трактату «Натья-щастра» (гл. 19, шлоки 12–104) (скр. naatya-Shaastram) Бхараты (II в. до н.э. – II в. н.), – 64-/65 соединительных звеньев пяти элементов сюжета [Mainkar T.G., с. 33–135]. Первые два элемента измеряются в этом трактате 25 соединительными звеньями (скр. samdhyangas) (12 + 13). Краткость изложения может компенсировать обращение к китайской «Книге Перемен» [И-цзин], выделяющей 64 этапа познания и располагающей 3000-летней традицией комментирования. В «Книге Перемен» 24-й этап – самый «мрачный», сопоставимый с точкой зимнего солнцестояния, а первые 30 этапов в целом описывают этапы становления субъекта познания.
Гипотеза исследования состоит в допущении того, что завершение ритмов, действующих в рамках 24-элементного цикла и выступающих носителями смысловых связей, подводит к критическому моменту своего развития и описываемую автором социально-политическую реальность.
Объект настоящего исследования – структура 24-элементного цикла повествования. В метрическом решении, рассматриваемом в настоящем исследовании, композиционные эффекты возникают при объединении трёх периодов повествования, будь то 8-элементных (8 · 3 = 24) или 24-элементных (24 · 3 = 72). Динамическое применение, имеющее место в древнеиндийской концепции познания, – результат качественной разработки четырёх уровней онтологической модели, действующей в мифологической картине мира (например, золотое, серебряное, медное и железное сказочные царства). Длительность стадий в динамической модели уменьшается на четверть при переходе к каждому низшему уровню и прибывает соразмерно во время восходящей фазы: (4,8 + 3,6 + 2,4 + 1,2) · 2 = 24 [Денисов Д.В., с. 61–62 b].
Предмет исследования – смена реальностей при переходе от одного 24-элементного цикла к последующему.
Анализ проводится на материалах романа Л.Н. Толстого «Анна Каренина».
Научная новизна состоит в макроалгоритмическом подходе и в разработке универсальной модели повествования, применимой как к микроуровню, так и к макроуровням повествования.
Методы исследования. Метод моделирования процессов повествования, основной для настоящего исследования, выполняется в рамках онтологического подхода, основывающегося на тезисе о неоднородности пространства, в котором осуществляется повествование. Единая модель принимается для микроуровня повествования, представленного 8-элементным эпизодом, и для макроуровня, составляющего 8-элементный цикл сюжетного развития. Обобщённо же говорится просто о 8-элементном цикле повествования. При продолжающемся повествовании применение 8-элементного цикла становится периодическим.
Как в метрическом, так и в динамическом применениях 8-элементный цикл рассматривается как цикл самоорганизации, реализуемый на материалах художественной литературы. Соответственно, литературное повествование рассматривается как вид деятельности, вписанный в общенаучный контекст, который может быть обозначен следующим образом: «Движению отданы семь из восьми возможных информационных шагов, будь то период таблицы Менделеева, цветовой спектр или звуковой диапазон. Восьмой шаг – остановка, своеобразная площадка для отдыха перед новым восхождением» [Решетов А.Г., с. 373]. В повествовании восьмой этап, наделяя определённым смыслом события семи предшествовавших, обеспечивает целостность художественного текста. Приостановка событий на каждом 8-м этапе позволяет выделить эпизод из непрерывного событийного ряда.
Предпринятое выше объединение трёх периодов (как 8-, так и 24-элементных) синхронизуется с базовым композиционным правилом живописи, известным как правило трете́й. Согласно этому правилу, формат полотна делится горизонтальными и вертикальными линиями на 9 равных полей, центральное из которых не должно содержать значимых элементов композиции (8 + 1). Значимые элементы располагаются в местах пересечения линий или рядом с ними. В предлагаемом подходе «точки покоя», допускающие возможность детальной проработки образа и известные в живописи как фокальные, находятся на стыке выделяемых периодов, т. е. на 8- и 9-м, 16- и 17-м, 24- и 25-м этапах литературного повествования.
История вопроса. Ранее рассматривались вопросы применения китайского 8-элементного цикла творения к анализу процессов повествования [Денисов Д.В., с. 64–70 а]. Анализировалось действие 8-летнего ритма в отечественной истории ХХ–XXI в. Для определения функций интервалов, объединяющих два значимых исторических события, приводились детальные характеристики 23-го и 24-го этапов трактата «Книга Перемен» [Денисов Д.В., с. 57–58 с], завершающих, согласно гипотезе настоящего исследования, литературное описание одной социально-политической реальности. Примером реализации динамической модели развития послужил 240-летний период российской истории [Денисов Д.В., с. 63–67 b].
Результаты исследования. Одна из основных проблем в разработке макроалгоритмов повествования – переход от базовых нарратологических схем к макроалгоритмическому комплексу. Данная проблема может быть решена посредством определения повествования как ритмического чередования определённых смысловых блоков с многократным вхождением одного элемента в разные структуры. Цикличность при этом рассматривается не только как свойство ранних форм повествования [Мокляк В.И., с. 25], но и как свойство повествования в целом. Совокупность всех ритмических взаимодействий принимается в качестве базовой сетки (ритмоматрицы), посредством которой в ходе повествования могут осуществляться смысловые взаимосвязи.
Один из способов описания ритмоматрицы может быть предложен на основе существующей в музыкальном синтаксисе практики выделения квадратичных периодов повторного строения, число которых равно степени числа два (2, 4, 8, 16, 32, 64). Предлагаемый подход учитывает периоды с разным основанием, например, схемы повествования, предложенные В. Лабовым и Дж. Валецким [Labov W., Waletzky J., c. 111–124]. Так, на основе 4 обязательных элементов устного высказывания (Orientation, Complication, Evaluation, Result/Resolution) может происходить переход к 16-элементному периоду (4 · 4 = 16). С учётом дополнительного элемента (Coda), устанавливающего значимость для говорящего, допускается существование 25-элементного периода повторного строения (5 · 5 = 25). Шестиэлементная схема литературного повествования, предложенная этими же авторами [Вычужанина А.Ю, Куликова, Н.С., с. 131–133], развёртывается, соответственно, в период повторного строения, насчитывающий 36 этапов (6 · 6 = 36). Динамика повествования в целом при этом определяется взаимодействием этих и других ритмов между собой. Завершённость наступает при одновременном завершении 2-, 3-, 4-, 6-, 8-, 12-элементных ритмов на 24-этапе. 5-элементный завершается на 25-м (24 + 1), а 7-элементный – на 49-м (24 + 24 +1).
В качестве оптимального для художественного повествования принят 8-элементный цикл, приведённый на Рис. 1. Рисунок содержит указание на этапы метрического освоения соответствующего поля (ячейки) – 1, 9, 17, в нижней части соответствующего поля (ячейки) указаны этапы динамического освоения, особенность которого во включении «пограничных» глав в каждые две смежные стадии: 1–5, 5–9, 9–11, 11–12.
Рис. 1. Структура и динамика 8-элементного цикла повествования: метрический (гл. 1, 9, 17 и т. д.) и динамический (гл. 1–5 и т. д.) подходы (Structure and dynamics of the 8-element narrative cycle: metrical (Chapters 1, 9, 17, etc.) and dynamic (Chapters 1–5, etc.) approaches
8-элементый цикл в целом сопоставим с V-образной структурой эпизода с ориентацией в горизонтальной плоскости, который был предложен для жанра волшебной сказки Е.М. Мелетинским, С.Ю. Неклюдовым, Е.С. Новик, Д.М. Сегалом. Начальный и завершающий этапы повествования представлены в их подходе формальными началом и завершением [Мелетинский Е.М. и др., с. 82–91]. На Рис. 1 аналогичное применение дано в плоскости вертикальной: соответствующие этапы (1, 2, 7, 8) содержат описание общего контекста (этап 1) и реализацию авторского намерения (этап 8), завязку (этап 2) и развязку (этап 7). В походе Е.М. Мелетинского и соавторов кульминация, насчитывающая от одного до трёх этапов, отнесена к центральной части эпизода. Нижний уровень Рис. 1 содержит только два этапа коллизии.
При метрическом подходе одна стадия 8-элементного цикла повествования измеряется одним этапом, предложением или главой, оцениваемыми в каждом случае как отдельное событие. Обычно под художественным текстом понимают некую событийную целостность, в которой исследователь, опираясь на конкретные языковые факты, составляющие микроуровень повествования, и специфику их функционирования, выделяет достаточно «дробные фрагменты» анализа такие, как эпизоды [Тюпа В.И., с. 17, 37–39]. Некоторые единицы текста – предложения или главы – не учитываются, так как, с точки зрения исследователя, события не составляют. В отношении главы как меры повествования иногда отмечается, что одна глава в целом может составлять один эпизод [Жиличева Г.А.].
Продемонстрируем реализацию 8-элементного эпизода с предложением в качестве единицы анализа на примере первых 8 предложений романа «Анна Каренина» (Цитаты из произведений писателя приводятся по академическому изданию: Л.Н. Толстой. Собрание сочинений в 20 томах. М.: Худ. лит-ра, 1960–1965). Первое, самое цитируемое предложение русской литературы, содержит авторское обобщение «Все счастливые семьи похожи…»; восьмое же, вводит образ Облонского («…Стива, как его звали в свете,… проснулся»), центральный для 1-й главы. Об особом статусе начального и завершающего этапов 8-элементного эпизода свидетельствует то, что и 1-, и 8-е предложения отделены автором абзацами, от предложений, расположенных между ними. Функции предложений соотносятся далее с Рис. 1.
Предложения со 2-го по 7-е обнаруживают симметрию, свидетельствующую об уровневой структуре эпизода:
2-е – «Всё смешалось…» и 7-е – «Дети бегали…; англичанка…; повар…»;
3-е – «Жена узнала…» и 6-е – «Жена не выходила…»;
4-е – «Положение… чувствовалось… всеми…» и 5-е – «Все… чувствовали…» (т. 8, с. 7).
1-й этап (предложение) выполняет в данном эпизоде функцию экспозиции, 8-й – функцию эпилога, в котором вводится образ или явление, вокруг которого и по причине которого произошли все предшествующие события.
2-й этап вводит начальную проблему, т. е. завязку, а 7-й содержит итог, т. е. развязку.
Два нижних уровня 8-элементного эпизода, отделённые от верхних двух на Рис. 1 жирной линией, составляют событийное пространство, осваиваемое главными персонажами.
3-м этапом (предложением) автор реализует функцию развития, а 6-м – функцию осложнения действия. На 3-м этапе действие локализуется (например, «дом», «жить в одном доме»), а на 6-м – пространственное ограничение снимается («мужа третий день не было дома»).
4- и 5-й этапы содержат рефлексию относительно невыносимости ситуации. На 4-м этапе имеет место только восприятие данной ситуации («чувствовалось всеми»), а на 5-м дополнительно производятся выводы («Все … чувствовали…, что нет смысла в их сожительстве»).
Характеристики 4- и 8-го этапов сопоставимы несмотря на разные точки отсчёта для нисходящей и восходящей фаз. 4-й этап как самый худший в нисходящей фазе служит мерой для определения динамики в чередовании этапов восходящей фазы. 6-й этап сопоставим с 4-м, так как атрибут «хуже» 6-го этапа нивелирует атрибут «лучше», закреплённый за 5-м этапом. Соответственно, 7-й этап оказывается ещё хуже, чем 4-й. На 8-м этапе негативная динамика ещё действует, но в силу особых онтологических свойств верхнего из четырёх уровней цикла наступает стабилизация.
Элементы прямой речи закреплены в последующих циклах за тем предложением, к которому относятся. На завершающем этапе как 2-го, так и 3-го эпизодов формулируется определённый итог: 16-е предложение (этап) подводит Облонского к осознанию того, почему он спит в кабинете («И тут он вспомнил вдруг, как и почему…»), а 24-е – к ощущению уличённости в чём-то постыдном («С ним случилось в эту минуту то,…») (т. 8, с. 9, 10).
Максимум познавательной активности, закреплённый за верхним уровнем Рис. 1, позволяет персонажам-антиподам мирно взаимодействовать, принимать Другого, погружаться в круг его проблем. В фокусе авторского внимания на этом этапе может оказаться персонаж, значимый только для актуального 8-элементного цикла («Хаджи-Мурат» Л.Н. Толстого – о семье солдата Авдеева). Для разработки характера персонажа, явления, проблемы на данном этапе может потребоваться персонаж-посредник, выступающий как собеседник («Капитанская дочка» А.С. Пушкина; «Гиперболоид инженера Гарина» А.Н. Толстого) или свидетель («Человек-невидимка» Г. Уэллс). «Книга Перемен» определяет 8-й этап познания как «Приближение», что в общем смысле указывает на сближение субъекта и предмета познания («Аэлита» А.Н. Толстого). При этом значим фактор своевременности этого действия: «Кто опоздает, тому несчастье» [И-цзин, с. 293–294].
В рамках онтологического подхода 8- и 9-я главы относятся к верхнему уровню Рис. 1 и образуют единое пространство, составляющее переходный период, который можно определить через соотнесение с точками «покоя» (фокальными точками) живописной композиции. Динамика в 8-й главе может быть направлена на обретение места для отдыха («Человек-невидимка» Г. Уэллс) или желаемого результата («Сказ о Левше» Н.А. Лесков), а диалог, раскрывающий глубину центрального персонажа, из 8-й может переместиться в 9-ю главу.
На 16-м этапе повествования часто производится разработка женского образа («Дубровский» А.С. Пушкина, «Аэлита», «Гиперболоид инженера Гарина» А.Н. Толстого). Однако суть этого этапа вне зависимости от гендерных различий, как показывает этап «Вольность», 16-й в «Книге Перемен», – в необходимости самодисциплины и наложения добровольных ограничений [И-цзин: 331–332] («Хаджи-Мурат» Л.Н. Толстого – 16-я гл. о разорении русскими солдатами чеченского аула).
На стыке второго и третьего 8-элементных циклов повествования находится вторая точка покоя, включающая 16- и 17-ю главы, которые могут содержать в себе экзистенциальную угрозу («Дубровский» А.С. Пушкина) или предоставлять возможность передышки (гл. 16. «В лазоревой роще» – место отдыха; гл. 17. «Отдых» романа «Аэлита» А.Н. Толстого).
В объёме двух 24-элементных циклов повествования возникают два композиционных центра, представляющих «Реальность 1» (гл. 1–24) и «Реальность 2» (гл. 24–48). В живописи двуцентровая композиция часто применяется в повествовательных эпических произведениях или масштабных пейзажах [Бородина С., Мирхасанов Р., с. 79–80]. Гипотеза о завершающем характере 24-го, а также 48-го этапов повествования подтверждается соответствующими этапами «Книги Перемен»: 24. «Возврат» и 48. «Колодец». Этап «Возврат» – этап сгущения темноты, на котором «возвращение света едва заметно», но неизбежно [И-цзин, с. 361–362] (завершение мирной реальности в главе «Гусев наблюдает город» романа «Аэлита» А.Н. Толстого). Этап «Колодец» – ситуация истощения сил, на котором силы могут прийти только изнутри, но нет уверенности, что появятся вновь [И-цзин: 454–455].
Оптимальный способ для анализа момента перехода от одной 24-элементной реальности к следующей состоит в обращении к роману «Анна Каренина» Л.Н. Толстого. Свидетельством определённой завершённости как нисходящей (а, b, c, d), так и восходящей фаз 8-элементного цикла повествования (A, B, C, D, Рис. 1) служит число глав: в IV части их 23, в VIII части – 18. Краткость VIII части служит признаком полного завершения повествования. В остальных частях от 31-й (VII) до 35-ти (II) глав.
Выполним данный анализ в соответствии с уровневой структурой 8-элементного цикла (Рис. 1).
Верхний уровень. В I части (35 глав) романа, выполняющей функцию экспозиции, «спасительным» оказывается для Левина отказ от ухаживаний за Кити. Он с облегчением покидает в начале 24-й главы дом Щербацких. Далее в 24- и 25-й главах, образующих очередную «точку покоя», он общается со своим братом Николаем, на примере жизни которого мы понимаем всю тяжесть положения человека, утратившего своё место в обществе. Особенность «точки покоя», находящейся между двумя 24-элементными реальностями в том, что это одновременно «мёртвые точки», период утраты места в некоем сообществе. Относительно «Натья-щастры» 25-й этап характеризуется как «Собрание варн/сословий» (скр. varna-samhaara). Этому этапу свойствен «живописный эффект контраста» (“picturesque effect of contrast”) [Mainkar T.G., с. 74]. Эта характеристика подтверждается тем контрастом, который возникает между повествованием о высшем свете (гл. 1–23) и таким деклассированным персонажем, как брат Николай (гл. 24–25). Новая реальность открывается с переносом действия в родовое имение Левиных (гл. 26–27) и в Санкт-Петербург (АК-I, гл. 28–34).
Второй сверху уровень. Во II части стресс, пережитый Кити из-за Вронского, приводит её к болезни, что отмечено на Рис. 1 как начальные неудачи. Облегчение («энтузиазм») приносит путешествие на воды. В это же время постепенно выстраиваются отношения Анны и Вронского (завязка). Завершается начальная реальность падением Вронского с лошади на скачках в 25-й главе. Скачки приходятся на «мёртвую» зону, образуемую 24- и 25-й главами, которую в романе Л.Н. Толстого можно интерпретировать как «зону утраты места в обществе». Далее автором разрабатывается тема восприятия обществом реакции Анны на это событие (гл. 28–29).
Для всех главных персонажей VII часть (развязка) становится рубежной. Кити в муках рожает (гл. 22). В 24-й главе Анна «не может ждать» и желает отправиться в деревню. В ссоре по этому вопросу Вронский произносит: «Нет, это становится невыносимо!» А Анна утверждается в мысли: «Да, умереть!..» (т. 9, 360, 362). Гибнет она в 31-й главе.
Второй снизу уровень. В III части (развитие действия; 32 главы) пространство ограничено родовой усадьбой Левиных, Долли с детьми – в деревне по соседству. Туда же приезжает Кити. Каренин получает сообщение об измене Анны. Завершение цикла остро воспринимается разными персонажами. Анна понимает в 22-й главе по взгляду Вронского, что изменение ситуации невозможно. Между супругами Карениными происходит в 23-й главе решительное объяснение. Левин же, убедившись в абсолютной бесплодности своих усилий по улучшению способов хозяйствования, отправляется в 24-й главе в дальний уезд к приятелю. Новая реальность в объёме последующих восьми глав открывается Левину во время поездки во встречах, содержащих обмен опытом в вопросах организации труда в сельском хозяйстве.
В VI части романа (осложнение действия, 32 главы) тишина, привычная в усадьбе Левиных, сменяется шумом множества гостей, что вызывает у Константина Левина дистанцированность (гл. 1–15). Отношения Вари и Сергея Левина не могут сложиться на этом этапе отчуждения. Долли констатирует увеличение дистанции в отношениях с Анной (гл. 16–24). Нарушение существующих практик распространяется и на местное политическое устройство, в котором совершается переворот (гл. 25–31).
Нижний уровень. В IV части (коллизия 1) романа складываются крайне опасные ситуации (окончательный разрыв между Карениными, встреча Вронского с Карениным в его же доме, попытка Вронского лишить себя жизни, послеродовое состояние Анны), которые завершаются отъездом Вронского и Анны в Европу (гл. 23, последняя). Единственный положительный результат, давшийся нелегко, – новая встреча и объяснение Константина Левина и Кити (гл. 11, 13–16), которые начинают готовиться к свадьбе.
В V части (коллизия 2) желаемая ситуация представлена свадьбой Кити и Левина (гл. 1–6, 14–16), а также счастьем Анны (гл. 7–13). Функция утраты места в некоем сообществе затрагивает Каренина, восходящая карьера которого с уходом жены прекратилась (гл. 24). Анне же отказывают в свидании с сыном (гл. 25). Следующая реальность посвящена жизни сына Анны и её бывшего мужа, морально поддерживаемого графиней Лидией Ивановной (гл. 25–27), свиданию Анны с сыном (гл. 28–30) и общественной оценке её поступков при посещении театра (гл. 31–33).
Выводы. Полученный результат свидетельствует о выделенном характере 24-элементного цикла: 24- и 25-й этапы были определены в применении к роману «Анна Каренина» как этапы утраты места в определённом сообществе. Внутренняя структурированность 24-элементного цикла обеспечивается тремя 8-элементными циклами. Анализ подтвердил наличие в романе «Анна Каренина» онтологической уровневой структуры, определяющей динамику 8-элементного эпизода. Все характеристики, представленные в 8-элементном эпизоде, отраженные на Рис. 1, были обнаружены в содержании 8 частей романа. Две части романа содержат описание только одной реальности (IV, VIII). В I, III и VI частях по завершении 24-го этапа происходит смена социально-политической реальности. В II, V, VII частях, в большей степени посвящённых Анне и Вронскому, в главах, начиная с 25-й, бо́льшую значимость приобретает общественное мнение.
About the authors
Denis V. Denisov
Volga State Transport University
Author for correspondence.
Email: denisansk@gmail.com
Candidate of Culture Sciences, Associate Professor of the Department of Linguistics
Russian Federation, SamaraReferences
- Borodina, S., Mirkhasanov, R. Znachenie formata v kompozitsii kartiny: predpochteniia ital'ianskikh zhivopistsev XVI–XVIII vekov (The Importance of Format in Painting Composition: Preferences of Italian Painters of the 16th–18th Centuries) // Mir iskusstv. Vestnik Mezhdunarodnogo instituta antikvariata. – 2019. – № 3–4(27–28). – Pp. 78–96.
- Vychuzhanina, A. Iu., Kulikova, N. S. Struktura i semantika literaturnogo narrativa v sopostavitel'nom aspekte (The structure and semantics of literary narrative in a comparative aspect) // Tendentsii razvitiia nauki i obrazovaniia. – 2022. – № 81-3. – Pp. 130–133. doi: 10.18411/trnio-01-2022-112.
- Denisov, D. V. Eight-element cycles of creation and algorithms of narration genesis and development from special to general // Izvestiya of the Samara Science Centre of the Russian Academy of Sciences. Social, Humanitarian, Biomedical Sciences. – Vol. 24. – № 82. – 2022. – Pp. 64–72.
- Denisov, D. V. Ontological foundations and current applications of the ancient Indian concept of knowledge and historical development // Izvestiya of the Samara Science Centre of the Russian Academy of Sciences. Social, Humanitarian, Biomedical Sciences. – Vol. 25. – № 88. – 2023. – Pp. 70–78.
- Denisov, D. V. Ontological basics for classification of historical cycles // Izvestiya of the Samara Science Centre of the Russian Academy of Sciences. Social, Humanitarian, Biomedical Sciences. – Vol. 24. – № 87. – 2022. – Pp. 53–61.
- Zhilicheva, G. A. Epizodizatsiia i sviaznost' narrativnogo teksta: diakhronicheskii aspect (Episodicization and coherence of narrative text: diachronic aspect). – Narratorium. – 2020. – № 16. – URL: https://narratorium.ru/2020/11/29/450/ (access date: 01.02.2025).
- I-czin: Kniga Peremen (I Ching: Book of Changes). – Moscow, Exmo-Publ.; Saint-Petersburg, Midgard-Publ., 2006. – 640 p.
- Meletinskij, E. M., Nekljudov, S. Ju., Novik, E. S., Segal, D. M. Eshhjo raz o probleme strukturnogo opisanija volshebnoj skazki (Once again about the problem of structural description of a fairy tale). Trudy po znakovym sistemam. – Tartu, 1971. – № 5. – Pp. 63–91.
- Mokliak, V. I. Tsiklizatsiia v tvorchestve russkikh romantikov (Cyclization in the works of Russian romantics) // Verkhnevolzhskii filologicheskii vestnik. – 2019. – № 2(17). – Pp. 25–29. doi: 10.24411/2499-9679-2019-10381.
- Reshetov, A. G. Informacionnye svojstva mery (Information nature and functions of measure) // Boundaries and transitions. Social innovations in cultural process. – Samara. VEK#21-Publ., 2010. – Pp. 365–379.
- Tiupa, V. I. Gorizonty istoricheskoi narratologii (Horizons of Historical Narratology). –Saint-Petersburg, Aleteiia Publ. 2021. –270 p.
- Labov, W., Waletzky, J. Mündliche Erzählungen persönlicher Erfahrung. Literaturwissenschaft und Linguistik: Eine Auswahl. Texte zur Theorie der Literaturwissenschaft. Bd. 2. – Frankfurt am Main, 1973. – Pp. 79–126.
- Mainkar, T. G. The Theory of Samdhis and the Samdhyangas. – Delhi: Ajanta Publ. 1978. – 193 p.
Supplementary files