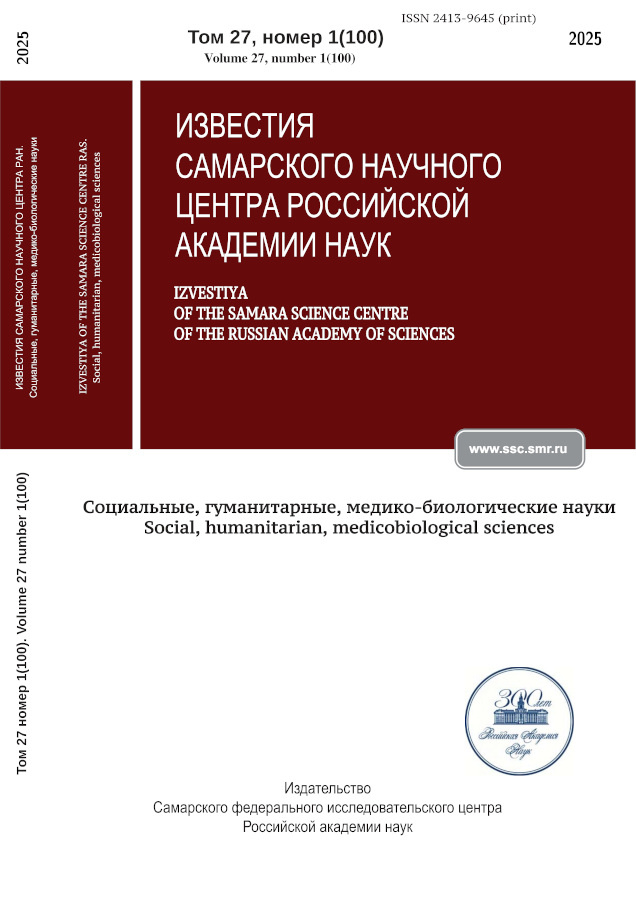The object world as a field of visualization and reclassification of culture
- Authors: Ionesov V.I.1
-
Affiliations:
- Samara State Institute of Culture
- Issue: Vol 27, No 1 (2025)
- Pages: 89-98
- Section: КУЛЬТУРОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
- URL: https://journals.eco-vector.com/2413-9645/article/view/692489
- DOI: https://doi.org/10.37313/2413-9645-2024-27-100-89-98
- EDN: https://elibrary.ru/YKMGBW
- ID: 692489
Cite item
Full Text
Abstract
All social transformations in history have always relied on culture in one way or another, seeking justification and support in it. From this perspective, the objective world of society not only reflects the urgent demands of society, combining current social and ideological paradigms, but also provides a person with many real opportunities to promote and renew culture. In this article, the appeal to culture is based primarily on rethinking its material attributions, which are considered through their coupling with cultural practices and technological innovations. All this makes us look at the world of things more broadly, finding answers to many urgent questions of our time in cultural artifacts, that is, to see in the forms and articulations of objects what is hidden behind their usual material shell. A thing is not indifferent to the preferences and values of a person. In the space of social interaction, a thing acquires the status of a character, an actor, a participant, a designer of a new cultural reality. Things also serve as signs of distinction and a way to attract culture. At the same time, it is the cultural context that largely shapes the social significance of an artifact and makes it not only an economically useful object, but also an aesthetically attractive and socially status item. Information and digital technologies expand the boundaries of the world of things, and by challenging culture, enrich it with new art objects. In the process of subject transformation, things are increasingly included in communicative innovations and current cultural practices. The dialogue between a person and a thing in a changing society is positioned as an area of creativity, visualization of memory and reclassification of culture. Some aspects of subject transformation in creative practices of modern culture are considered in this article.
Full Text
Введение. Вещи – это то, что мы создаём и что создаёт нас. Человек создаёт вещь, тянется к ней, также как вещь ищет человека и тянется к нему. Отношения между человеком и вещью в культуре сопровождаются всевозможными манипуляциями, соблазном и интригами. В их соприкосновении рождается особый и социально драматичный мир взаимопритяжений. Предметная среда современной культуры предстаёт в виде коммуникативной лаборатории и экспериментальной площадки для удержания, сохранения и визуального культивирования различных креативных практик, включая переосмысление и экранизацию объектов материального наследия. Через эти практики ретранслируются актуальные послания, смыслы и ценности меняющейся культуры, то есть осуществляется своего рода предметно-знаковая переклассификация культуры. Коммуникативные сдвиги и предметные пертурбации в креативности действия служат модификаторами культуры с их выраженной социально репрезентативной миссией, которая наиболее эффективно продвигается на основе и с помощью инновационных дизайнерских решений и цифровых технологий. Меняющаяся культура не обходится без конструирования новых визуальных контекстов, которые сопровождают и объединяют наиболее востребованные образцы, идеи и концепции преобразования материального наследия перед лицом вызовов глобализующегося мира. В современной культуре, и конкретно в диалоге человека с предметным миром, происходит постконцептуальный парадигматический сдвиг в сторону культурализации (т. е. наполнения культурой) социальных устремлений, политических движений и экономических притязаний. Мы можем наблюдать различные практики широкого обращения к культурным ресурсам, где каждый объект является частью большой истории. Артефакты культуры могут быть не только исторической моделью, но также проводником и выразителем социально значимых смыслов (текстов). Этот постконцептуальный интеллектуальный поворот в известной мере освобождает артефакты от их привычного конкретного существования [Osborne P.] и дезавуирует их сакрально-символическую ограниченность, распространив предметно-эстетические и социально-коммуникативные свойства вещей на всю систему жизнедеятельности культуры. Например, если ранее музейный экспонат воспринимался лишь как один из объектов статичных, сакральных, элитарных артефактов в рамках выставочной экспозиции, то сегодня тот же экспонат все чаще позиционируется как ретранслятор, носитель важных сообщений и участник большого коммуникативного действия, предметно-визуального разговора между человеком и вещью. В этом случае экспонаты в музее выступают рассказчиками, инициаторами и дизайнерами, которые мотивируют зрителей, предлагая им усваивать и интерпретировать истории через собственный опыт и коммуникативное творчество. Здесь, в частности, актуализируются вопросы: как культура визуализирует память через свои материальные объекты и посредством каких предметных артикуляций, идеологических дискуссий, дискурсов и нарративов культура осуществляет переклассификацию ценностей и смену парадигм?
В пространстве визуальной коммуникации следует различать и правильно интерпретировать артефакты материальной культуры, в том числе для того, чтобы надлежащим образом включить мир объектов в эффективный диалог с людьми. Благодаря такому диалогу вещь приобретает иной статус – становится глаголящим персонажем, медиатором важных социальных сообщений. Так, в качестве музейного экспоната меморативные артефакты, попадая в надлежащий коммуникативный ландшафт, побуждают визитёра музея думать, сравнивать, связывать и творить своё диалоговое пространство. Важно приводить артефакты памяти в движение, выстраивать новую композицию, трансформировать контекст и наполнять его выразительным арт-дизайном и социальной драматургией. Как отмечает Н. Саймон, креативная смена визуальных ландшафтов в предметных артикуляциях музея создаёт необходимый многоголосый контент на месте сухих и неподвижных дидактических каталогов [Simon N.].
Методы исследования. В исследовании предметного мира культуры, как визуализированной объектно-коммуникативной реальности, уместно использовать культурологической подход и его когнитивный инструментарий. Суть данного подхода применительно к рассматриваемой теме состоит в том, что вещь позиционируется как подвижный знаково-символический объект, наделённый социальными, технологическими, функциональными и эстетическими признаками (смыслами, значениями), который выражает ту или иную проекцию человеческой деятельности и одновременно служит инструментом коммуникации между человеком и окружающим миром. Вещь, включаясь в повседневную социальную практику, ретранслирует насущные запросы людей и в качестве предметного коммуникатора становится участником культурных преобразований. В когнитивных границах культурологического осмысления мира вещей важно различать материальные объекты: 1) как хранителей прошлого – опредмеченных историй, знаний, ценностей и 2) как жизненно важный субстрат, драйвер культурных преобразований в пространстве современности, который можно толковать как способ реорганизации, идентификации, перекодирования и визуализации проблем сегодняшнего дня [Бишоп К., c. 72 ].
История вопроса. Историографические основания изучения бытования вещи в культуре достаточно разнообразны, внушительны и охватывают широкий круг вопросов междисциплинарного знания в разноаспектной проблематике, включая теоретико-философские, исторические, социологические и арт-культурологические исследования. Мир вещей как специфическая и семантически насыщенная культурная реальность обстоятельно рассматривается в работах М. Хайдеггера [16], А.Ф. Лосева [13], Ж. Бодрийяра [2], Г. Хармана [22], В.Н. Топорова [17], О.И. Генисаретского [5], В.А. Подороги [15], М.Н. Эпштейна [21] и многих других исследователей. В настоящей статье внимание автора обращено преимущественно к идеям В. Флюссера и Н. Буррио, которые проясняют сущность и векторы трансформации предметного мира современной культуры через новые когнитивные подходы, эстетические стратегии и креативные практики. Немецкий культуролог В. Флюссер полагает, что будущее культуры должно обратить предметный мира на службу человечеству – где «предметы пользования в меньшей степени являлись бы препятствиями и в большей степени воплощали бы в себе связь между людьми. Культуры, в которой было бы больше свободы» [Флюссер В., c. 75]. Визуализируя культуру, предметный мир вовлекается в насущную креативную практику и становиться необходимым инструментом не только для социально-экономических преобразований, но и для обновления ценностей культуры. Рассматривая векторы трансформации информационного общества, французский искусствовед Н. Буррио замечает: «Складывается впечатление, что мир культурных продуктов и произведений искусства образует некий автономный инкубатор, способный предоставить средства объединения индивидов; внедрение новых форм социальности и эффективная критика практикуемых образов жизни подталкивают к поиску новой позиции перед лицом художественного наследия, требуют выработки новых отношений к культуре в целом и к произведениям искусства в частности» [Буррио Н., с. 119].
Ещё одна тенденция в репрезентации предметного мира современной культуры состоит в том, что вещи дешевеют, не-вещи дорожают. Всё больше вещей в технотронном социуме обесценивается, становится ненужными, и где над ценностями всё сильнее довлеет информация. «Наличие ненужных вещей свидетельствует о деградации вещи», – предупреждает В. Флюссер [Флюссер В., c. 115]. В повседневной жизни людей все больше вещей лишних, невостребованных, забытых. При этом на первый план выходят информационные сервисы – программы, коммуникативные средства, сетевые и навигационные аксессуары. Производство вещей начинает вытесняться производством информации и программированием. «Материальная основа информации нового типа с экзистенциальных позиций незначима – заявляет В. Флюссер. Свидетельством этому выступает тот факт, что аппаратное обеспечение – хардвер – всё дешевеет, а программное обеспечение – софт – всё дорожает. Остатки вещественности, всё еще сохраняющиеся в этих не-вещах, можно не принимать во внимание при рассмотрении новой среды обитания. Наш экзистенциальный интерес, очевидно, смещается от вещей в сторону информации. Мы всё менее заинтересованы в обладании вещами и всё более – в потреблении информации. Не в том, чтобы приобрести ещё одно платье, ещё один предмет мебели, а в том, чтобы приобрести поездку, лучшее образование для наших детей, ещё одно музыкальное событие в том месте, где мы живём» [Флюссер В., c. 113].
Здесь также встает вопрос о «демократизации» предметного мира культуры. Вещи благоприятствуют или препятствуют достижению свободы, как они соотносятся с моралью и ответственностью в поведении людей? В. Флюссер даже задаётся вопросом: «Существует ли мораль вещей?» [Флюссер В., c. 75]. Ведь вещь небезучастна к переживаниям, интересам, побуждениям и ценностям человека. Производя вещи, люди закладывают в них вполне определённые человеческие качества, социальные маркеры и установки.
Ещё один значимый аспект проблемы, который вызывает в современной культуре беспокойство – это бесконтрольный доступ к культурным предметам и ценностям, их перевод из одной культуры в другую с последующим упрощением, присвоением и использованием. Демократизация художественных форм, эстетических предпочтений и предметных ландшафтов сопровождается таким синдромом современности, как культурная апроприация. Эта весьма чувствительная и неоднозначная практика заимствования инокультурных атрибуций сегодня стала предметом острых дискуссий. Не вдаваясь в формальные оценки феномена культурной апроприации, нельзя не заметить избыточную политическую ангажированность вокруг расширяющейся практики переноса исторически сложившихся образцов из одной культуры в другую и придания им иного значения и смысла. По сути, данный процесс никогда не выпадал из культуры. Вся мировая культура основана на взаимообмене, скрещивании, синтезе и взаимопроникновении. Однако в нынешних условиях с ростом демократических амбиций всё начинает измеряться в категориях права, собственности, политической преференции и экономическом расчёте. По мнению Н. Буррио, господство информационных технологий с выраженной экспансией культурной апроприации и переработки всех прежних устоявшихся форм «установило новую мораль: произведение принадлежит всем» и где культура «стремится к отмене собственности на формы. …Не ждёт ли нас впереди культура коммунизм форм?» [Буррио Н., с. 142].
Результаты исследования. Вещь может как разделять людей, так и объединять их. Одни предметы притягивают, другие отталкивают. Дело в том, что в современной культуре параллельно развиваются два вектора в диалоге человека и вещи, которые обрели в сложившейся ситуации новый смысл и особую остроту. Первый вектор выражает обезличенную проекцию предметного мира – когда вещи скоропалительно порождаются, клонируются и распространяются посредством новых технологий (искусственного интеллекта) без прямого участия человека. Здесь вещь прежде всего создаёт и тиражирует сама программа, софт, информационная система, и человек включается в производство материальных объектов лишь опосредовано. Проблема в том, что человек, отделённый от вещи (рукотворной), не несёт ответственность за неё. Ведь отвечать можно лишь за тот продукт, который ты сделал сам.
По мнению В. Флюссера, «в прошлом по умолчанию моральная ответственность за продукт лежала на том, кто его использовал. Если один человек закалывал другого ножом, вся ответственность за содеянное лежала на нём, а вовсе не на дизайнере, создавшим нож. Так, создание ножа являлось некой до-этической, свободной от ценностных оценок деятельностью. Однако сегодня всё изменилось. Многие продукты индустриального производства находятся в пользовании автоматизированной техники, и было бы абсурдным возлагать моральную ответственность за их использование на роботов» [Флюссер В., c. 77].
Второй вектор – это «живое» вовлечение человека в изготовление вещей, расширение и диверсификация сфер участия людей в создании собственных арт-объектов без посредников, напрямую (реди-мейд, бриколаж и пр.). Здесь каждый в меру своих способностей становится творцом и может привнести разнообразие в культуру, пусть и в рамках своего ограниченного бытового пространства. Применяя уже готовые вещи, мы создаём не только с их помощью, но и из них самих совершенно новую продукцию. Речь идёт о новом способе производства, когда сами вещи служат не столько инструментом, сколько самим объектом в конструировании новой культурной реальности. В этом процессе вещь позиционируется как персонаж, актор, участник, проектировщик актуального сценического действия. Технологии, оснащённые искусственным интеллектом, безусловно, расширяют границы этого проектирования, синтезируя и обогащая транслинейное коммуникативное пространство диалога человека с предметным миром культуры. Формотворчество в современной культуре генерирует новые арт-объекты даже с использованием и на основе уже готовых предметов. Так заявляет о себе череда всевозможных трансформаций и транспликаций предметного мира в современной культуре, где социальная, экономическая и эстетическая экспансия поступательно усиливается [Ионесов В., 2024 а), с.123, 206, 342]. Продукты инновационной технологической деятельности, сцепляясь с социальными контекстами и информационно-коммуникативными порядками, синтезируют всё более сложные межпредметные связи, расширяя границы как самой культуры, так и диалога человека и вещи. Иными словами, в этих условиях создаётся доселе неизвестный объект, именуемый Н. Буррио постпродукцией. По мнению Н. Буррио, «постпродукция сосредоточена на формах знания, порождаемых информационными сетями, иначе говоря – на способах ориентации в культурном хаосе и на возможности вывести из него новые способы производства. Основой для создания реляционных моделей чаще всего служат уже существующие произведения или формальные структуры» [Буррио Н., с. 119]. В сложившейся ситуации значимой становится роль искусства, художественных практик. Арт-проектирование и особенно такие его разновидности, как реди-мейд и бриколаж, существенно демократизируют креативную индустрию. Они приобщают к искусству, к созданию арт-объектов широкий круг людей, а не только профессионалов.
Следует также иметь в виду, что вещи могут служить знаками различия и способом притяжения к себе иных объектов материальной и духовной культуры. Важный аспект бытования вещей в современном обществе связан с расширением поля культурного разнообразия. Товары лишь тогда заметны и привлекательны, если они несут на себе знаки различия, исходящие от места их производства и этнокультурной среды. Почти каждая брендовая вещь идентифицирована своей культурной принадлежностью и тянет за собой историю, традицию, сложившийся художественный образ, идею или даже событие. Как замечает французский маркетолог К. Рапай, «покупая эксклюзивные вещи, мы приобретаем знаки различия» [Рапай, К., с. 137]. Различия, заложенные в вещах, позволяют также расшифровать культурные коды. Это становится возможным особенно тогда, когда вещи привносят различия через перемещение. Именно движение делает предметы различаемыми [Брабандер Л., с. 70]. Вещи, которые движутся – маркированные носители социальных посланий, ими поддерживается и расширяется не только коммуникативный обмен и порядок, но и культурное разнообразие в мире людей.
Ситуация с возрастающей значимостью культурных контекстов и контентов меняет также стоимостное измерение произведённых товаров. Если раньше ценность вещи, её цена зависели от затраченного на её изготовление труда, то в стоимость современного товара всё чаще закладывается её культурно-эстетический контент. Налицо – смещение от затраченного труда и стоимости материала к изысканному дизайну, богатой истории, захватывающему рассказу, узнаваемому бренду. Технологически вещи становятся дешевле, но их стоимость возрастает за счёт маркетингового приёма, так называемого storytelling – прикреплённую к вещи историю. Удельный вес культуры в отдельно взятой вещи поступательно возрастает и выгодно определяет добавленную стоимость товара.
Наглядным примером служит легендарная прямоугольная сумка Chanel 2.55 из стёганой кожи с длинной цепочкой. История данной поделки неразрывно связана с её товарным видом и задаёт культурный контекст репрезентации вещи – начиная от цифр, которые означают дату рождения вещи (февраль 1955 г.) до её устройства, фурнитуры и художественных деталей. Создатель сумки – французский модельер Габриэль (Коко) Шанель – вписала в её облик памятные моменты своей жизни. Во внутренней части сумки есть небольшой карман на молнии, в котором, по слухам, Коко носила свои любовные письма. Форма внешнего кармана вдохновлена улыбкой Моны Лизы. Подкладка бордового цвета отсылает к цвету одежды монахинь в монастыре, где провела своё детство Шанель. Цепочка на сумке также уподоблена аксессуару монахинь, которые использовали её для крепления ключей. Стёганый узор оформлен с элементами художественного стиля витражей аббатства Обазин (Aubazine), которыми Шанель восхищалась с детских лет [История Chanel…]. Становится очевидным, что именно культурно-знаковый нарратив задаёт социальную ценность и преумножает добавленную стоимость конкретного продаваемого артефакта – вещь становится не только экономически выгодным товаром, но одновременно и эстетически привлекательным и социально статусным объектом.
Влечение к вещи свойственно человеку, ибо всякий творец всегда устремлён к своему творению. Вещь рождается в руках человека или же посредством произведённых им инструментов и приборов, включая машины и компьютеры. Став вещью, предмет устремляется к человеку, будто подзывает его к себе, манит и ждёт чтобы им завладели. Обретая статус товара, к примеру, флакон духов на полке парфюмерного магазина, стремится, чтобы покупатель обратил внимание именно на него. У каждого такого продаваемого флакона есть вся необходимая культурная атрибутика, своего рода – «жилище» (упаковка), одеяние, наряд (оформление, этикетки), принадлежность и родословная (бренд), имя (название), место и дата рождения (информация о производителе), характер (описание), стойкость (устойчивость аромата), история бытования (распространение, биография), предназначение (целевая аудитория), гендерное и возрастное предпочтение (для мужчин, женщин, молодёжи или пожилых людей), дизайн (форма, рисунок, орнамент, композиция, цвет, шрифт надписи), самоназвание и сюжет («Лепесток ночи», «Госпожа», «Восточный миндаль» и пр.), наконец, главное – запах, его ноты, тона, ассоциации, аккорды (цветочный, древесный, фужерный, свежий пряный, травяной, мускусный, цитрусовый и пр.).
Действительно, «есть тонкие властительные связи меж контуром и запахом цветка» (В. Брюсов). Так, запах визуализируется через цвет и наименование: «Благородный жасмин» («Gelsomino Nobile» от Acqua di Parma), «Ледяная роза» («Rose Glacee» от Armand Basi), «Красная одежда» («Habit Rouge» от Guerlain), «Синяя вода» («Acqua Azzurra» от Gianfranco Ferre), «Изумительно зелёный» («Amazingreen» от Comme Des Garcons), «Истинно розовый» («Truly Pink» от Vera Wang), «Дух времени» («L’Air du Temps» от Nina Ricci) или «Возбуждающий любопытство» («Curious» от Britney Spears). У каждого парфюма свои посыл и нарратив, драматургия и движение чувств. Например, парфюм для женщин «Любимый, не стесняйся» («Love, don't be shy») от парижского парфюмерного дома Kilian Paris или туалетная вода «Виновный» («Guilty») в прямоугольном флаконе с изображением мужчины на мчащемся мотоцикле от фирмы Gucci, или мужской парфюм «Самарканд» («Samarkande» от Yves Rocher), наполненный экзотическими ароматами, духом странствий, приключений и новых впечатлений. Во всех случаях артефакты парфюма, оказавшись на витрине магазина, включаются в коммуникативный контекст визуализации предметности, ожидания и контакта [У витрины…].
Как бы то ни было, трудно не признать, что привычные предметные формы, материальные объекты начинают смещаться на периферию цифровой культуры. По наблюдению В. Флюссера: «Одновременно с этим все большая часть общества занята производством информации, «сервисов», управлением и программированием и всё меньшая – производством вещей. Вещественная буржуазная мораль – производство, хранение, и использование вещей – уступает место новой морали. Жизнь в среде, приобретающей невещественный характер, обретает иной окрас» [Флюссер В., c. 115].
Становится очевидной также тенденция перехода вещи в разряд всё более бестелесных сущностей. В современной культуре вещь как бы разрывает свою телесную оболочку, и, вырываясь за пределы материальных предметных форм, захватывает обширные информационные пространства. В этом смысле вещь прожорлива, ненасытна и всеохватна – стоит только её поманить, выразить интерес. Она готова отказаться от предметной бренности и стать более долговечным бестелесным информационным объектом – не-вещью. Но и став не-вещью (цифровым артефактом), не-вещь сохраняет за собой «родимые пятна» вещи. В их новом обличье люди продолжают использовать не-вещи как вещи – и это позволяет рассматривать их метаморфозу как своего рода продолжение экспансии предметного мира, но уже в ином цифровом обрамлении. Не обесценятся ли в этом случае привычные нам вещи, не сместится ли вся ценность в сторону информации? [Флюссер В., c. 115]. Беспокойство В. Флюссера о том, каким станет человек в результате перехода от диалога с «живыми» вещами к взаимодействию с их бестелесными невидимыми проекциями весьма своевременно и уместно.
В современной культуре иногда вещь предстаёт как не-вещь, и даже демонстрирует исчезновение предметности. Безусловно, новые технологии и креативные практики расширяют привычные границы восприятия вещи, которые выходят за пределы её предметной сущности. Процесс разрушения и исчезновения вещи выстраивается в самостоятельный арт-объект, иногда с ещё большей стоимостью, чем сам рукотворный предмет до момента его распада. Таким предстаёт акт публичного выставления и одновременно самоликвидации картины «Девочка с шаром» британского уличного художника Бэнкси вечером в пятницу, после того как 6 октября 2018 г. была продана на аукционе Sotheby's в Лондоне. Единственный экземпляр картины был выполнен акриловыми красками на холсте в 2006 г. И с последним ударом молотка картина, проданная за £1,04 млн ($1,4 млн) начала «самоуничтожаться». Художник заранее встроил шредер в одну из своих картин и в нужный момент запустил механизм для измельчания бумаги. 18 октября художник опубликовал видео, где показано, как создавалась картина с секретом. При этом Бэнкси подписал ролик известной фразой художника Пабло Пикассо: «Побуждение к разрушению – это тоже творческое побуждение». В разрезанном состоянии картина получила иное название: «Любовь в мусорной корзине» (“Love Is in the Bin”), и подорожала почти вдвое. «Когда молоток опустился, а работа самоуничтожилась, я была в шоке. Но затем я осознала, что теперь мне принадлежит частичка истории искусства», – призналась новая владелица произведения1. Вскоре самоуничтоженная картина превратилась в мем. Распространение получили арт-объекты, где полосы публично уничтоженного полотна сравнивались либо с разрезанной снизу футболкой, либо с картошкой фри, либо с разрезанным светофором и т. п.
Кроме того, в современной цифровой культуре завоёвывают своё место и активно продвигаются NFT (non-fungible token) – беспредметные арт-объекты, определяемые как уникальный токен, который обладает исключительной невзаимозаменяемой спецификацией (кодом). Каждый экземпляр представляет собой криптографический сертификат цифрового объекта, включая произведения искусства, что является совершенно новым феноменом в информационном обществе. Вещь уже не совсем вещь или уже не-вещь, но при этом не лишённая своей художественной ценности. Рынок NFT-art-продуктов – один из наиболее быстро развиваемых с его невероятно высокой добавленной стоимостью. У каждой вещи свой путь к витрине и свой исторический статус.
Человек информационного общества всё глубже погружается в виртуальный мир – в мир эфемерных краткосрочных образований. Этот новый человек подменяет свою самость – свою телесность, чувственность, проницательность, искусственным инструментарием, который позволяет быстро решать сиюминутные задачи, но малопродуктивен в долгосрочном планировании и совершенно беспомощен в мире человеческих ценностей, в создании прочных межличностных связей. Плоский и одномерный взгляд приходит на смену объёмному и, всякий раз сбивая с пути, заставляет человека ошибаться.
Эту ситуацию описывает В. Флюссер: «Этот новый человек, зарождающийся вокруг нас и внутри нас самих, в реальности попросту безрукий. Он уже не знает, как поступить с вещами, и потому уже нельзя будет сказать, что он совершает поступки. Исчезнут понятия практики, работы. Единственное, что останется такому человеку от рук – это кончики пальцев, которыми он будет нажимать на кнопки, чтобы вести игру с символами. И потому это уже более не человек действующий, а человек играющий – не homo faber, a home ludens. Для него жизнь – уже не трагедия, а спектакль. В ней нет больше действия, одни только сенсации. Новый человек не желает действовать и обладать – он желает переживать. Он желает обретать опыт, познавать и прежде всего наслаждаться. Поскольку он не заинтересован в вещах, у него не может быть и проблем. Вместо них у него есть программы» [Флюссер В., c.117].
Оцифровывание культуры и структурный раскол обусловливает ощущение человеческой одинокости, недостаточности, отчуждает людей друг от друга, расстраивает силы социального, эстетического и этического притяжения, эмоциональную вовлеченность – любовь, соучастие, сопереживание, дружбу, солидарность, жертвенность, тягу к единению и пр. Но раскол выражает и пространственную вовлечённость людей, желание путешествовать, странствовать, преодолевать границы, любопытствовать, фиксировать связь со всем миром, фотографировать, сохранять память, делиться друг с другом воспоминаниями, знаниями, опытом, т. е. всем тем, что способствует снятию онтологической отчужденности и родовой антропологической разобщённости.
Ещё один тренд в современной культуре, как реакция на экспансию одноразовых товаров и услуг – обращение, казалось бы, к уже забытым артефактам доцифровой реальности (печатным книгам, кинотеатрам, живой музыке, антиквариату, реди-мейду и пр.). Об этом же свидетельствует распространение практики апсайклинга (от англ. Upcycling) – вторичного использования вещей и сопутствующих им материалов с целью создания для них обновлённого функционала и увеличения их ценности. Креативность действия позволяет вернуть в культуру давно выпавшие из неё вещи и добиться их нового прочтения. Новые технологии всё чаще преобразуют наследие в область творчества. Императивы наследия могут воплощаться в актуальные практики жизнеспособности культуры. Когда традиции становятся площадкой для креативности действия, прошлое включается в современное. По словам Д.С. Лихачёва: «Простое подражание старому не есть следование традиции. Творческое следование традиции предполагает поиск живого в старом, а не механическое подражание иногда отмершему» [Лихачев Д.С., с. 488-489].
Выводы. Артефакты культуры есть мощный ресурс визуализации памяти и творческой активности людей. Сохраняя прошлое через его сцепление с настоящим, культура решает актуальные задачи сегодняшнего дня и обеспечивает необходимые условия для поступательного движения в будущее. Предметный мир следует рассматривать как культурную реальность, в которой материальные объекты представляют собой семантически-организованную визуальную композицию. В композиционном порядке социальной репрезентации артефакты культуры предстают в своей рациональной форме, выражающей в каждом конкретном случае тот или иной текст, историю, сюжет, образ и событие. Вещи служат маркерами публичной демонстрации и продвижения социально значимых сообщений.
Коммуникативное пространство человеческой деятельности постоянно претерпевает трансформации, которые всякий раз поражают воображение. Создаются новые объекты, меняются интересы, функции, отношения, связи, порядки. Данное обстоятельство превращает предметную среду культуры в своего рода мощную лабораторию по удержанию и ретрансляции опыта, знаний и ценностей. При этом артефакты предметного мира культуры через креативную деятельность человека вступают в отношения друг с другом – объединяются, скрещиваются, синтезируются, контаминируются, трансплицируются порождая отдельные и самостоятельные арт-объекты, в которых искусно соединяются самые разные, казалось бы, не соединимые вещи. Здесь уже изготовленные предметы служат своего рода «строительной площадкой» для дальнейшего арт-проектирования. Так заявляет о себе череда всевозможных трансформаций предметного мира в современной культуре, где социальная, экономическая и эстетическая экспансия постпродукции поступательно усиливается. Вещи выступают не только инструментом трансформации предметной среды человека, но и важными информативными носителями социальных посланий, ими поддерживается и расширяется, в том числе, культурное разнообразие в мире людей.
Визуализация объектов социальной памяти не должна быть просто наблюдением и просмотром. Здесь необходима, и в условиях нарастающих перемен особенно, креативность действия. Только тогда артефакты наследия, глядя на своих наблюдателей, способны побуждать их сопереживать, сохранять в памяти исторические события, связывать прошлое и настоящее, понимать и уважать других, реагировать на вызовы нашего времени и быть отзывчивыми на события, происходящие сегодня.
Источники:
Sotheby’s 'Banksy-ed' as painting 'self-destructs' live at auction. – URL: https://www.theartnewspaper.com/2018/10/05/sothebys-banksy-ed-as-painting-self-destructs-live-at-auction (дата обращения: 12.02.2025).
References:
Sotheby’s 'Banksy-ed' as painting 'self-destructs' live at auction. – URL: https://www.theartnewspaper.com/2018/10/05/sothebys-banksy-ed-as-painting-self-destructs-live-at-auction (дата обращения: 12.02.2025).
1 Sotheby’s 'Banksy-ed' as painting 'self-destructs' live at auction. – URL: https://www.theartnewspaper.com/2018/10/05/sothebys-banksy-ed-as-painting-self-destructs-live-at-auction (дата обращения: 12.02.2025).
About the authors
Vladimir I. Ionesov
Samara State Institute of Culture
Author for correspondence.
Email: acdis@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-6175-5904
Doctor in Cultural Studies, Ph.D. in History, Professor at the Department of Culture, Museum and Art Studies,
Russian Federation, SamaraReferences
- Bishop, C. Radikal’naya muzeologiya, ili tak li uzh “sovremenny” muzei sovremennogo iskusstva [Radical Museology, or What’s “Contemporary” in Museums of Contemporary Art?]. – Moscow: Ad Marginem Press, 2014.– 96 p.
- Baudrillard, J. Sistema veschey [System of Things]. – Moscow: Rudomino, 1995. –168 p.
- Brabandere, L. Zabytaya Storona Peremen. Iskusstvo Sozdaniya Innovatsiy / The Forgotten Side of Changes. The Art of Creation of Innovations. Achieving Greater Creativity through Changes in Perception. – Moscow: Protext, 2010. – 203 p.
- Bourriaud, N. Relyatsionnaya estetika. Postproduktsiya [Relational aesthetics]. – Moscow: Ad Marginem Press, 2016.– 216 p.
- Genisaretskij, O.I. Uprazhneniya v suti dela [Exercise is the point]. – Moscow: Russkij mir, 1993. – 280 p.
- Ionesov, V. I. Veschi v prostranstve kultury: predmety, menyayuschie mir [Things in the Space of Culture: Objects that Change the World] // Creative economics and Social Innovations. – 2012. – V. 2. – № 2 (3). – P. 75-94.
- Ionesov, V.I. Ludi i veschi [People and things. What we create and what creates us]. – Samara, Samarama; Prime, 2024. – 420 p.
- Ionesov, V.I. Metamorfozy veschi v culture: osobennosti simvolicheskoy komunikatsii [Metamorphoses of things in culture: features of symbolic communication] // Izvestiya of the Samara Science Centre of the Russian Academy of Sciences. Social, Humanitarian, Biomedical Sciences. – 2024. – Vol. 26. – no. 4 (97). – P.59-68.
- Ionesov, V.I. Pamyat' veshchi: «Duh Armenii» v obrazah i syuzhetah zabytogo artefakta [Memories in a thing: “The Spirit of Armenia” in the images and stories of a forgotten artifact. – Samara: Samarama, 2021. – 322 p.
- Istoriya Chanel 2.55 [History of Chanel 2.55]. – URL: https://bagaholic.ru/2021/istoriya-chanel-255/ (дата обращения: 15.06.2024).
- Klassifikatsii v arkheologii [Classification in archaeology, ed. by V.S. Bochkarev]. – Moscow: Institute of archaeology of Academy of Sciences of USSR, 1990. –156 p.
- Likhachev, D. S. Isbrannye trudy po russkoy i mirovoy kulture [Collection of works on Russian and World Culture]. – Sankt-Peterburg, Sankt-Peterburg State University of Trade Unions, 2022. – 544 p.
- Losev, A. F. Samoe samo: Sochineniya [The very thing: Essays]. – Moscow: EKSMO-PRESS, 1999. – 1024 p.
- Melnikova-Grigorieva, E. Bezdelushka, ili zhertvoprinoshenie prostykh veschey [The trinket, or the sacrifice of simple things]. – Moscow: Novoe Literaturnoe Obozrenie, 2008. –160 p.
- Podoroga, V. A. Vopros o veshchi. Opyty po analiticheskoj antropologii [Question about things. Experiments in analytical anthropology]. – Moscow: Izd-vo Gryundrisse, 2016. –348 p.
- Rapaille, C. Kulturnyi kod [The Culture Code]. – Moscow, Alpina Publisher, 2015. – 168 p.
- Toporov, V. N. Veshch' v antropocentricheskoj perspektive [Thing in an anthropocentric perspective] //Aequinox. – Moscow: 1993. – P. 70-94.
- U vitriny: vizualizatsiya predmetnosti, ozhidaniya i kontakta [At a Showcase: Visualization of Objectivity, Expectation and Contact]. Edited by Vladimir I. Ionesov. – Samara: Samara Institute “Higher School of Privatization and Enterprise”; “Samara State Institute of Culture; Samara Society for Cultural Studies. – Samara: Vek #21, 2015. – 455 p.
- Flusser, V. O polozhenii veshchej. Malaya filosofiya dizajna [About the state of things. Small design philosophy]. – Moscow: Ad Marginem, 2016. –160 p.
- Heidegger, M. Vopros o tekhnike [Issue of technics] // Novaya tekhnokraticheskaya volna na Zapade [New technocratic wave in the West]. – Moscow: Progress, 1986. – P. 45-66
- Эпштейн, М. Реалогия, вещеведение // Проективный философский словарь: новые термины и понятия / под ред. Г.Л. Тульчинского и М.Н. Эпштейна. – Санкт-Петербург: Алетейя, 2003. – С. 346-350.
- Harman, G. Guerrilla Metaphysics: Phenomenology and the Carpentry of Things / Open Court Publishing. – Chicago and La Salle, Illinois, 2005. – 283 p.
- Flusser, V. Vom Subject zum Project. Menschwerdung. Bollman Verlag Gmbh, Bensheim und Dusseldorf,1994. – 284 s.
- Osborne, P. Anywhere or Not at All: Philosophy of Contemporary Art. – London: Verso, 2013. – 282 p.
- Pachter, M. & Landry, Ch. Culture at the Crossroads. Culture and Cultural Institutions at the 21st Century. – London: Comedia, 2001. – 113 p.
- Ritzer, G. The Globalization of Nothing. – Thousand Oaks, CA (USA): Pine Forge Press, 2004. – 280 p.
- Simon, N. The Participatory Museum. – Santa Cruz, California: Museum 2.0, 2010. – 390 p.
- Smith, L. The Uses of Heritage. – London: Routledge, 2006. – 351 p.
Supplementary files