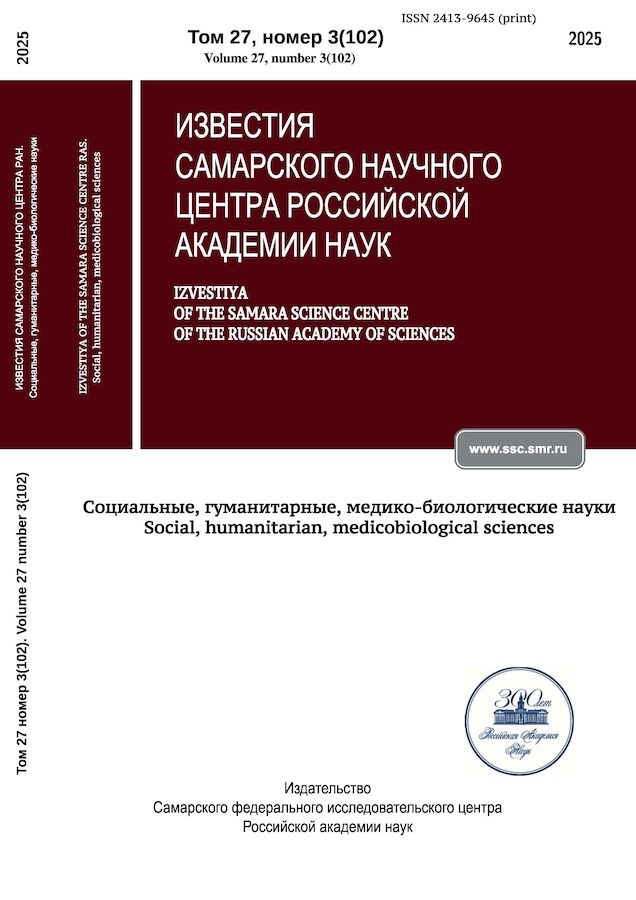Interaction of tradition and innovation in the cultural process: the Proto-Bactrian context
- Authors: Ionesov V.I.1
-
Affiliations:
- Samara State Institute of Culture
- Issue: Vol 27, No 3 (2025)
- Pages: 101-111
- Section: КУЛЬТУРОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
- URL: https://journals.eco-vector.com/2413-9645/article/view/692575
- DOI: https://doi.org/10.37313/2413-9645-2025-27-102-101-111
- EDN: https://elibrary.ru/HEUJWX
- ID: 692575
Cite item
Full Text
Abstract
In the cultural process, a stable and functionally balanced structural order can only be formed under conditions of coordinated diversity, that is, a proper relationship between traditions and innovations. If traditions displace innovations, this state can be likened to a structural emptiness with the inherent homogeneity and total community of the collective unconscious. If innovations displace traditions, everything becomes excessively changeable and blurred, and the cultural order is shaken. Symbols and rituals reconcile the traditional and the innovative, prepare society to accept new trends to expand the boundaries of culture. But if the confrontation between traditions and innovations in culture drags on and is not resolved, the disintegration of values and the breakdown of familiar foundations begins, and unstructured relations run rampant. The opposite relationship also takes place. Innovation prepares the ground for ritual. But if the ritualization of social drama does not begin, then culture becomes a victim of external expansion or the internal collapsing development of society. Unlike traditions, which are characterized by increased staticity and immobility, innovations that have not yet had time to take root in culture are highly adaptable and maneuverable. They show a large number of connections, conjugations and mediations. However, all of them are predominantly unstable, amorphous, transient in nature, since at the stage of innovations, elements of culture are not yet firmly attached to its root system. In this regard, the objective world of ancient cultures can clarify a lot, especially in the situation of changing life cycles of culture, which is most fully and expressively represented in the symbolic practices of complex (potestary) societies, and in particular, in various accessories of the funeral rite. This article shows the forms and mechanisms of interaction between traditions and innovations in the cultural process of a changing society using the example of artifacts of the proto-Bactrian pre-urban civilization.
Full Text
«Хрупкие цветы отличия,
чтобы существовать, нуждаются в полутени»
К. Леви-Стросс1.
Введение. В культурном процессе важно достигать и поддерживать равный баланс между традициями и инновациями, между внешними и внутренними устремлениями и возможностями культуры. Лишь эта бинарная сопряжённость позволяет социуму обеспечивать свою жизнедеятельность и выживание, способность выражать и сохранять свою идентичность при встрече с другими культурными сообществами и ценностями. Параллельно с сохранением и развитием традиций в культурной среде постоянно происходит зарождение и привнесение новых элементов и признаков. Традиции придают культуре узнаваемость, тогда как инновации позволяют культуре обновляться. Причины возникновения инноваций на различных этапах истории культуры не одинаковы. Они обуславливались исторической конъюнктурой и сложившимся структурным порядком в культурной среде конкретного общества. Нововведения утверждаются в культуре, как своего рода компенсатор тех элементов традиций, которые изжили себя и перестали выполнять необходимую социо-нормативную функцию. Перемены всегда сотрясают культуру, но, как известно, «чаще всего они случаются в тот момент, когда необходимы» (Конфуций). На примере протобактрийского культурного контекста, представленного обширными артефактами и символическими практиками сапаллинской археологической культуры эпохи бронзы (II тыс. до н.э., Южный Узбекистан) можно проследить сущность и характер взаимодействия традиций и инноваций [Ionesov V.I, 2021]. Развитие комплексного общества, переживающего процесс эпохальной трансформации, не могло не подвергаться массивной атаке нововведений – как изнутри, так и извне меняющегося социума. И длительное и устойчивое культурное единство не столько заслоняло смену мировоззренческих парадигм, сколько придавала этому процессу отчётливые исторические очертания.
В формировании инноваций в культурном мире оседлоземледельческого общества имели место два мощных толчка. Первый касается двух ранних этапов протобактрийской цивилизации (сапаллитепинского и джаркутанского, первая половина II тыс. до н.э.), характеризующихся прежде всего устойчивой традиционностью, на которых нововведения проникают в культурную среду преимущественно в виде имманентной реорганизации жизненного уклада социума. Имело место и прямое заимствование, носящее, как правило, эпизодический и нейтральный характер (например, появление сероглиняной посуды в быту или деревянных гробов в погребальном обряде). Именно на этих этапах закладываются и оформляются фундаментальные традиции и ценностные устои сапаллинской культуры. Второй толчок вызван массированным потоком нововведений на кузалинском этапе (сер. II тыс. до н.э.) и существенной сменой мировоззренческих парадигм, что было обусловлено включением в культурную среду земледельцев инокультурных скотоводческих групп населения. Под воздействием этнокультурного проникновения последовали мутационные и селекционные процессы в переклассификации сложившихся социальных канонов. Нововведения этого времени качественно видоизменили облик сапаллинской культуры, запустив механизмы культурогенеза, аккультурации и синтеза во взаимодействии традиций и инноваций, что особенно ярко проявилось на финальном этапе доурбанистической Бактрии (молалинско-бустанское время, конец II тыс. до н.э.). Отличительной особенностью двух завершающих этапов культуры является их повышенная поликультурная активность, что проявилось в сосуществовании различных символических практик и новых ритуальных установок в погребальном обряде. При этом основная часть нововведений приходилась на кузалинский этап, многие из которых впоследствии трансформировались в традиции. Молалинские и бустанские комплексы как бы синтезируют сапаллитепинские традиции и кузалинские инновации. Вместе с тем они впитали в себя и существенные заимствования, вызванные набирающими силу внешними импульсами. Однако нововведения на этапе заката протобактрийской цивилизации так и не преобразовались в традиции в рамках старой культурной реальности. Но они стали питательной почвой, историко-культурным субстратом для становления и развития древнебактрийской культуры и государственности в VIII-VII вв. до н.э.
Методы исследования. Если представить погребальный обряд оседлых земледельцев в виде социально организованной системы и взглянуть на нее с точки зрения эволюции в контексте рассмотрения всего исторического пути развития сапаллинской культуры, то во взаимодействии традиций и инноваций можно выделить элементы общего, особенного и единичного. Такая раскладка позволяет выявить место, роль и значение устойчивых и меняющихся элементов в функционировании похоронного обряда – вычленить в нем традиционное и уловить новое и, наконец, обозначить основные движущие тенденции, механизмы преемственности и генерации инноваций. За каждым выделенным в ритуальной практике компонентом стоят артефакты, а за ними – культурная реальность, наполненная императивами жизнедеятельности людей, мифологическими сюжетами и символическим обменом. То общее, особенное и единичное, что характеризует погребальный обряд в динамике преемственности и культурных изменений, в значительной мере есть отражение реальной исторической конъюнктуры в контексте конкретного места и времени. Следовательно, это опосредование позволяет проследить формы и этапы трансформации культуры через взаимодействие традиций и инноваций и их отображение в предметном мире меняющегося социума. У каждого ассортимента традиций и инноваций есть свои общие, особенные и единичные признаки. Под набором общих признаков понимаются элементы погребального обряда, которые доминируют в течение всего развития комплексного общества, в частности, сапаллинской культуры. Специфическими признаками являются компоненты, господствующие или преобладающие над другими признаками той же группы на одном или нескольких этапах трансформации культуры. Единичными считаются признаки с минимальной частотой встречаемости на всех этапах культуры. Следует помнить, что каждая из категорий признаков выступает не изолированно, а в качестве составной части или объединяющего начала в рамках целого. Так, в культурном процессе бинарные противоположности традиции/инновации или общее/единичное выражают традиционное как общее в его реальном, единичном воплощении, а единичное как инновационное в его единстве с общим. При этом особенное выступает как реализованное общее [Философский энциклопедический словарь, с. 469]. Другими словами, в рассматриваемом тематическом ракурсе, элементы особенного являются таковыми лишь по отношению ко всему погребальному обряду, но общими для этапа, где они господствуют [Ionesov V.I, 2002, p. 68-72].
История вопроса. По мнению В.М. Массона, «процессы преемственности и инноваций представляют собой не изолированный феномен, а одно из проявлений функционирования общества. Так, инновации стереотипизируются, а затем интегрируются в культурную систему только в том случае, если они воспринимаются социальной средой и не происходит процесс отторжения» [Массон В.М., с. 22]. Отдельно исследователь отмечает, что генерация нововведений в культуре имеет разнообразные источники и стартовые площадки для запуска инноваций, которые вызваны как конвергентным процессом, так и диффузией или единством происхождения [Массон В.М., с. 23]. Условия, благоприятствующие вызреванию и распространению инноваций в культуре, характеризуются наличием соответствующих механизмов (реципиентов) для их отбора и усвоения – либо на основе внутренней предрасположенности (готовности к переменам), либо со стороны внешнего воздействия, которое меняющееся общество способно принять. И в той и другой ситуации культура реагирует на объективные нарастающие ожидания перехода к новому – к реорганизации привычного, но беспокойного настоящего. В этой связи В.М. Массон обращает внимание на то, что «формирование инноваций шло двумя путями: через изобретение, или культурную мутацию, то есть путём спонтанной трансформации, и через заимствование, или метисацию, т.е. путём стимулированной трансформации» [Массон В.М., с. 29].
Ещё ранее об этом писал С.А. Арутюнов: «Есть два пути введения инновации в любую этническую культуру – самостоятельное создание нового элемента, изобретение и заимствование нового элемента из другой культуры, где он уже существует. Первый путь напоминает мутацию, а второй – метисацию. При этом место вхождения нового элемента или место его возникновения и дальнейшее его распространение среди носителей культуры определяются не произвольным или случайным образом, а тесно связаны с внутренним структурным членением данной этнической культуры, и прежде всего с ее вертикальной структурой» [Арутюнов С.А., 1979, с. 44-45; Арутюнов С.А.,1985].
С.А. Арутюнов в типологии взаимодействия культурных традиций выделяет три разновидности: 1. «механическое дополнение одной культурной традиции другой»; 2. «синтез в одном предмете черт той или другой культуры» и 3. «приспособление заимствованного предмета к традиционным навыкам» [Арутюнов С.А., 1979, с. 51]. Примечательно, что сами материальные объекты выступают при встрече традиций и инноваций в качестве символических меток, целенаправленных пунктов преломления мировоззренческих ценностей. Согласно А.Ф. Лосеву, «вещи, если брать их взаправду, как они действительно существуют и воспринимаются, суть мифы» [Лосев А.Ф., c. 9].
Заслуживает внимания и типология социокультурной генетики инноваций предложенная Б.А. Грушиным применительно к элементам общественного сознания и в контексте места и времени их происхождения, а также характера отношений к исторической специфике конкретных обществ [Грушин Б.А., c. 72-73]. В социальном процессе Б.А. Грушин различает три типа инноваций: 1) порожденные самим обществом; б) привнесённые другими обществами, но воспринятые (ассимилированные) принимающей их стороной и 3) напрямую заимствованные на стороне без последующей их адаптации и долговременного принятия [Грушин Б.А., с. 72-73].
Общетеоретические аспекты взаимодействия традиций и инноваций в культурном процессе остаются в поле пристального внимания современных гуманитариев, как отечественных, так и зарубежных [Маркарян Э.; Традиции и инновации в истории и культуре; Бусыгина М.; Давтян В.; VI Российский культурологический конгресс; Magadán-Díaz M. & Rivas-García J.]. При этом в науке о культуре растёт интерес к возможностям интерпретации археологических материалов, особенно в исследовании природы и характера механизмов преемственности и нововведений, и где важнейшим источником выступает погребальный обряд [Avanesova N.A; Ionesov V.I, 2020, 2021; Kasparov A.; Archaeological Perspectives on Burial Practices; Bentley A. & O’Brien M.; Heritage].
Что касается культурной ситуации, зафиксированной в предметных артикуляциях поздних этапов сапаллинской культуры, то она, по утверждению Н.А. Аванесовой, соответствует обстановке, сложившейся на всей территории доурбанистических центров Средней Азии в эпоху поздней бронзы. Вместе с тем, процесс культурного синтеза породил в чем-то родственную, но качественно отличную культуру, т.е. «культурная невилировка и трансформация привела к образованию новой общности и идеологии» [Аванесова Н.А., с. 40].
Результаты исследования. В предметном мире сапаллинской культуры различаются четыре типа зарождения и бытования инноваций. Первый тип основан на внутренней переклассификации культурных ценностей. Этот путь характеризуется эволюционным накоплением, структурными социальными сдвигами и идеологической модернизацией мировоззренческих приоритетов, вызванными постепенной адаптацией меняющейся культуры к происходящим внутри неё объективным историческим процессам. К инновациям этого типа следует отнести переход от внутри-поселенческих захоронений к обособленным некрополям, появление новых престижно-знаковых атрибуций, социально-имущественное ранжирование умерших, религиозно-культовую консолидацию за счёт централизации жреческой власти (храм огня на Джаркутане), технологические новации в производстве гончарной продукции и пр.
Одновременно кардинальная переоценка происходит в составе погребального инвентаря. Функциональные бронзовые предметы заменяются их вотивными миниатюрными копиями вследствие прежде всего экономических и идеологических причин автохтонного характера. В «условиях усиливающейся социальной дифференциации – пишет В.М. Массон, из утилитарных и престижно-знаковых функций инноваций все большее значение приобретают вторые: престижность воспринимается в основном не как личный авторитет, а как принадлежность к определенному общественному слою, что закрепляется и в мире вещей» [Массон В.М., c. 29].
В культурном процессе отмечаются радикальные перемены: а) ориентация правящей элиты на инокультурные ценности в ущерб традиционному в значительной мере всё ещё эгалитарному укладу комплексного общества и б) поиск власть имущих в лице зарождающей аристократии социально-статусного инструментария, позволяющего маркировать свои репутационные позиции в общине с помощью приемлемых и весьма примирительных для основной массы людей нововведений. Таким инструментарием могли быть новшества, которые обрамлены узнаваемой традиционной оболочкой – в этом случае инновации маскируются под традиции и потому легко усваиваются всем обществом. Примером подобной маскировки был переход в доурбанистической Бактрии к изготовлению бронзовых вотивных миниатюрных предметов и к их использованию в погребальных практиках, в которых новацией была миниатюрность и неутилитарность самих изделий, а традиционный облик (форма и виды орудий труда) подчёркивал их связь с привычными атрибутами погребального инвентаря. С помощью этих «волшебных» предметов, не бросая вызов существовавшей традиции, удавалось ранжировать социальный статус умерших, во многом – в интересах зарождающейся аристократии (элиты). Это именно тот весьма распространённый в истории приём, когда «ломка традиции шла в рамках самой традиции» (К. Маркс). Для распространения инноваций наибольшее значение имеют утилитарная и престижно-знаковая функции. «Когда заимствованный элемент уже настолько врос в быт всего народа, что перестал восприниматься как нечто престижно значащее, – пишет С.А. Арутюнов, – начинается обратный процесс: верхушечные слои, нуждаясь в определённых престижных символах, ищут и находят их в тех компонентах традиционной культуры, которые на данный момент выглядят как полузабытая архаика» [Арутюнов С.А., 1979, с. 45, 50].
Второй тип инноваций обусловлен процессом аккультурации инородных ценностей посредством их выборочной ассимиляции, переработки и адаптации. Данный путь инновационной трансформации осуществлялся за счёт воздействия на устоявшийся социальный уклад культуры оседлых земледельцев внешних факторов в результате экспансии, преимущественно пастушеских племён степного мира. Новые (привнесённые или отобранные со стороны) ценности прорастали в культуре лишь при условии в той или иной мере подготовленной для их принятия почве. Как правило, такие инновации более активно стимулировали переход к новым инокультурным символическим практикам и стилистическим приёмам, включая погребальный церемониал. Археологическими маркерами такого рода трансформации предметного мира и погребального обряда сапаллинской культуры можно признать появление новых способов и мотивов орнаментации посуды с характерными степными художественными артикуляциями (треугольники, зигзаги, насечки и каннелюры), а также инокультурные символические практики, включая ритуалы возжигания огня в погребениях и жертвоприношения священных животных, особенно распространённые в поздний молалинско-бустанский период существования протобактрийской цивилизации.
В отдельных случаях отмечено сцепление инноваций различных типов. Так, если переход к изготовлению вотивных бронзовых миниатюрных предметов был обусловлен преимущественно внутренней трансформацией на основе культурной мутации, то использование новых оформительских приёмов в отделке орудий труда и оружия есть, скорее, свидетельство избирательного внешнего заимствования в форме культурной селекции.
Третий тип нововведений вызван прямым заимствованием инородных элементов. Они могут соответствовать внутренним потребностям местной культуры, но могут быть по отношению к ней и нейтральными и даже чуждыми. Однако всякое прямое заимствование в конечном счете или инкорпорируется в механизм культурогенеза или спустя некоторое время отторгается от него. Заимствования могут осуществляться различными путями – экономическими и культурными контактами, миграцией, обменом, торговлей, этническими связями, диффузией. Различные проявления заимствований отразились и в погребальном обряде оседлых земледельцев.
К инновациям, не противоречащим историческим запросам общества, на наш взгляд, следует отнести обряд кремации, захоронения расчлененного скелета человека, камни над могилой, наличие в инвентаре ритуальных «астоданов», лепных сосудов. Все эти нововведения проникают в культурную среду земледельцев преимущественно на молалинско-бустанском этапе и в достаточной мере вписываются в происходящую в социальной жизни общества мировоззренческую переоценку. Кремация соотносилась с усилившейся сакрализацией и централизацией культа огня (храм огнепоклонников на Джаркутане); захоронения расчлененного скелета человека – с массовым внедрением в погребальную практику всевозможных имитаций (кенотафы, статуэтки, деревянные куклы, вотивные копии вещей), с обожествлением земной стихии, с участившимися военными жертвами и обрядом перезахоронения, с распространением элементов протозороастрийской идеологии; камни над могилой и лепные сосуды стали появляться в период усилившихся контактов со скотоводческими племенами северо-восточных регионов (памятники южного и юго-западного Таджикистана). Применение обряда кремации, захоронений расчлененного скелета человека, каменные ограды, сосуществование лепных и гончарных сосудов известно на памятниках бешкентской скотоводческой культуры [Мандельштам А.М.].
Наглядным проявлением заимствований «нейтральных» инокультурных элементов, надо признать, единичные случаи захоронений в деревянных гробах, достаточно кратковременное присутствие в керамике сапаллинского этапа сероглиняных сосудов, а на бустанской стадии –появление лепных горшков в ряде случаев с гребенчатым штампом, так и не ассимилированные местной средой до момента распада оседлоземельческой культуры.
Четвёртым типом в культурогенезе инноваций следует признать возрождение старых забытых традиций в роли культурных нововведений. Данная ситуация отчётливо проявилась на финальной (бустанской) стадии протобактрийской цивилизации, что нашло материальное отражение в многочисленных археологических материалах. Спустя несколько столетий носители сапаллинской культуры возвращаются к ритуальным практикам захоронений в хумах (кувшинах). В ассортимент посуды вновь входят почти забытые образцы гончарной керамики квазиджаркутанского облика, то есть характерных для начальных периодов сапаллинской культуры – вазы на высоких тонких ножках, чайники с трубчатым носиком, горшкообразные хумчи без горловины, а также крынки с расширенной нижней частью и другие сосуды с архаичными формами, но при этом исполненные более грубо, будто наспех. Примерами такого рудиментарного набора инвентаря являются погребения №165 (могильник Джаркутан 4В – рис. 1: керамические сосуды из погребения №165 финальной стадии сапаллинской культуры (бустанское время, конец II тыс. до н. э., могильник Джаркутан – 4В), формы которых имитируют облик посуды её наиболее ранних этапов (время Джаркутан II – середина II тыс. до н. э.) и погребения 219 (могильник Бустон VI).
Кроме того, в повседневную культуру и в погребальный инвентарь вернулись бронзовые графинчики-сурмадоны, каменные амулеты с зооморфными и растительными мотивами и прочие артефакты, казалось бы, уже давно выпавшие из ритуального ассортимента. Свидетельством возвращения забытых культов и ритуалов на закате протобактрийской цивилизации стали также парные погребения (№ 252-Дж-4В, № 254, 282, 465, 456-Дж-4А и др., бустанское время), включая одно захоронение в хуме (погр. № 656-Дж-4А). В литературе описаны многочисленные примеры возвращения в кризисную культуру забытых символов, культов и ритуалов [Павленко Ю.В., с. 205-206; Арутюнов С.А., 1979, с. 55-56]. Это происходило обычно в условиях глубокого эпохального надлома и мировоззренческого распада культуры, когда прежние, казалось бы, «канувшие в лету» идеологические установки оживают и активно используются для того, чтобы компенсировать духовную опустошённость и размывание ценностей, образовавшиеся в результате противостояния «своего» и «чужого».
Рис. 1. Пример синдрома предметной регенерации или возрождения архаических традиций в культуре переходного общества (An example of the syndrome of subject regeneration or revival of archaic traditions in the culture of a transitional society)
Процесс освоения культурных инноваций зачастую сопровождался трендом на возрождение наиболее архаичных традиций. В качестве такого примера С.А. Арутюнов приводит культурную ситуацию в период революции Мэйдзи, когда процесс вестернизации японской культуры дополнялся реверсивной тенденцией восстановления древних художественных образов, мифов, символов и культов времён исторически далёкой «курганной эпохи» [Арутюнов С.А., 1979, с. 55-56].
Можно предположить, что в чём-то похожая ситуация складывалось на закате доурбанистической Бактрии в условиях социального брожения и инокультурной экспансии. Нарастающая поляризация протобактрийского общества вынуждала общинников противостоять институализации власти бюрократического аппарата посредством активного возрождения архаических традиций, в коих виделось единственное спасение от раздирающих общество противоречий. Вероятно, обострение внутриобщинных отношений способствовало не только паразитированию верхушки на труде рядовых производителей, но и ориентация правящей элиты на инокультурные ценности в ущерб традиционному эгалитарному укладу. В этом случае регенерацию архаических обычаев следует рассматривать и как ответную реакцию со стороны рядовых общинников защитить себя от пагубного воздействия массированной атаки инноваций. В поздних погребениях мы находим символические практики как с привнесенными, так и с возрожденными ритуалами и погребальными атрибутами. К первым следует отнести захоронения с трупосожжением, лепными горшками, астоданами, орнаментированными сосудами, бронзовыми кинжалами с выемкой у основания клинка, секачами с массивным лезвием и пр. Ко вторым – парные погребения, захоронения в хумах, бронзовые сурмадоны, каменные амулеты, чайники, крынки с раздутой нижней частью, горшкообразные хумчи, серьги с буферавидными концами и пр. Поливариантность похоронной практики могла быть также объективно вызвана сложным и противоречивым характером развития внутриобщинных отношений в эпоху заката протобактрийской цивилизации и, скорее всего, имела под собой как этнокультурные, так и социально- идеологические основания. Неслучайно возрождение архаичных обрядов и символических атрибуций шло одновременно с ритуально-культовой дифференциацией похоронного церемониала и нарастающей инновационной экспансией. Представляется, что так называемый феномен «культурной реккуренции» («возрожденчества») архаических традиций на финальной стадии культуры стал последней попыткой посредством интенсивной реанимации старых родоплеменных культов приостановить всё более очевидное сползание протобактрийской цивилизации в горнило необратимых социально-исторических трансформаций.
Следует также согласиться с выводом Н.А. Аванесовой относительно того, что на финальной стадии сапаллинской культуры «система обрядности не сводится к простому симбиозу погребальных традиций. Инновации, фиксируемые в культовой практике БVI (кремация, фракционные захоронения, обильное жертвоприношение животных, иногда и человеческое, каменные конструкции устройства камер и надмогильных сооружений, наличие сакрализованных могил и т. д.), говорят о включении номадов Евразии в орбиту культурных и этнических контактов с земледельцами доисторической Северной Бактрии» [Аванесова Н.А., с. 526]. Кроме того, делается вывод о том, что феномен культурных трансформаций эпохи заката протобактрийской цивилизации «носит отчетливую печать синкретического своеобразия, становится ядром, генерирующим новые стереотипы, получившие воплощение в период урбанистической Бактрии» [Аванесова Н.А., с. 528].
По мнению А.Р. Каспарова, «для сапаллинской культуры, вторая половина II тыс. до н.э. ознаменована инновациями вследствие активных межплеменных контактов и этнических передвижений пастушеских племен, генетически связанных с андроновской историко-культурной общностью и верифицируемые многими исследователями с древними ариями» [Каспаров А.Р., с. 5]. Войдя в Северную Бактрию и частично ассимилировавшись с местным населением, пастушеские племена степного мира, вероятно, стали катализатором включения мировоззренческих представлений древних ариев в традиционную культуру оседлых земледельцев. В результате такой контаминации и синтеза ритуализированных мифологем, происходит довольно обширная трансформация погребального церемониала, особенно наблюдаемая на заключительных этапах сапаллинской культуры [Каспаров А.Р., с. 5].
Выводы. В погребальной практике сапаллинской культуры можно выделить два вида традиций – универсальные и локальные. Универсальными называются те, которые присущи культуре изначально и сохраняются на протяжении всего её развития. Так, не претерпевают каких-либо заметных изменений традиционные способы захоронения (ингумация, кенотафы); типы захоронения (одиночные); устройство могил (ямные и подбойно-катакомбные); трупоположение (скорченность на боку); наличие сопровождающего вещественного инвентаря (керамика, бронзовые изделия, пища).
Вместе с тем, часть традиций является таковыми лишь для отдельных этапов или топосов культуры, следовательно, логично признать их локальными. Некоторые из них трансформировались в традиции из инноваций. Возьмем, к примеру, такой символические приём, как ориентировка умерших. Если для сапаллитепинского и джаркутанского этапов (1700-1350 г. до н.э.) покойника направляли традиционно головой на север, то на кузалинском и молалинско-бустанском этапах (1350-950 г. до н.э.) преобладают западная и юго-западная ориентировка умерших. При этом для кузалинского этапа западная ориентировка выступает и в роли инновации, сменяющей прежнюю – северную. То же можно обнаружить и в ориентации погребальных сооружений. На первых двух этапах могилы вытянуты с Севера на Юг, на последующих – преимущественно с Востока на Запад. К традициям такого вида следует отнести и достаточно распространившиеся в молалинско-бустанское время ритуальные возжигания огня, жертвоприношения, наличие в инвентаре бронзовой вотивной атрибутики.
На первых двух этапах сапаллинской культуры (ок. XVIII - сер. XIV в. до н.э.) ее развитие происходило не только за счет факторов внутримутационной эволюции – спонтанной трансформации, но и под сильным и разносторонним воздействием раннегородских центров оседлоземельческих цивилизаций к югу и юго-западу от территории Северной Бактрии. Однако начиная с кузалинского этапа (сер. XIV вв. до н.э.), в культуре оседлых земледельцев доурбанистической Бактрии усиливаются влияния как со стороны южных (оседлых), так и северных (степных) культурных миров. Причем если традиции первых закреплялись преимущественно в сфере материального производства (в архитектурно-планировочных деталях, гончарном деле, металлургии), то вторые затрагивали (с нарастающей силой) в первую очередь сферу религиозной идеологии, включая ритуально-культовую практику. На последних этапах сапаллинской культуры (XI - сер. X вв. до н.э.) наибольшее этно-культурное воздействие исходило, надо полагать, прежде всего от племен степного севера и юго-западного Таджикистана (Вахшская и Бешкентская культуры). Экономическая дестабилизация и усиливающиеся социальные конфликты двух противоборствующих культурных миров стимулировались и нарастающей военной угрозой, скорее всего, со стороны скотоводческих племён севера [Аскаров A.]. Прогрессирующее развитие скотоводства, оружейного дела, беспрецедентное распространение кенотафов археологическое тому подтверждение [Ionesov V.I, 2020].
Историческая судьба сапаллинской культуры (протобактрийской цивилизации) была предопределена в начале первого тысячелетия до нашей эры эпохальным внутренним кризисом в условиях активной внешней стимуляции. Расшатанная социальными конфликтами протобактрийская цивилизация уже не могла противостоять мощной и расширяющейся экспансии кочевников, и, судя по всему, стала жертвой их завоевания.
Таким образом, становление и развитие доурбанистической Северной Бактрии отражает сложный, динамичный и противоречивый процесс культурогенеза, складывающийся на пересечении социально-экономических и этнокультурных связей, в противоборстве эгалитарных и элитарных тенденций, в симбиозе традиций и инноваций, создавших в конечном счете необходимые социально-исторические предпосылки для возникновения новой синтезированной культурной реальности и первой оформившейся в регионе государственности – Древнебактрийского царства (VII в. до н.э.).
1 Леви-Стросс К. Первобытное мышление. – М.: Республика, 1994. – с. 369.
About the authors
Vladimir I. Ionesov
Samara State Institute of Culture
Author for correspondence.
Email: acdis@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-6175-5904
Doctor in Cultural Studies, Ph.D. in History, Professor at The Department of Culture, Museum and Art Studies
Russian Federation, SamaraReferences
- VI Rossijskij kul'turologicheskij kongress s mezhdunarodnym uchastiem «Kul'turnaya identichnost' v prostranstve tradicii i innovacii»: programma, tezisy dokladov. [VI Russian culturological congress: Cultural identity in space of traditions and innovations]. Moscow, 30.10 -01.09.2024. – Moscow: Institut Naslediya, 2024. – 284 p.
- Avanesova, N. A. Buston VI – nekropol` ognepoklonnikov dourbanisticheskoj Baktrii [Buston VI – the Necropolis of Fire-Worshippers of Pre-Urban Bactria]. – Samarkand: Mezhdunarodny`j institut Czentral`noaziatskikh issledovanij (MICzAI), 2013. – 640 p.
- Arutiunov, S. A. Etnograficheskaya nauka i izuchenie kulturnoi dinamiki // Issledovaniya po obshchej ehtnografii [The Studies on general ethnography: Class formation: factors and mechanisms]. – Moscow: Nauka,1979. – P. 125-177.
- Arutiunov, S. A. Innovatsii v culture etnosa i ikh sotsialno-ekonomicheskaya obuslovlennost’ [Innovations in the culture of an ethnic group and their socio-economic determinacy] // Etnograficheskie issledovaniya razvitiya kultury. – Moscow: Nauka, 1985. – P. 31-49.
- Askarov, A. A. Stepnoj komponent v osedly`kh kompleksakh Baktrii i voprosy` ego interpretaczii [The steppe component in the sedentary complexes of Bactria and questions of its interpretation] // Vzaimodejstvie kochevy`kh kul`tur i drevnikh czivilizaczij. – Alma-Ata: Nauka, 1989. – P.158-166.
- Busygina, M. V. K voprosu sootnosheniya tradicii i innovacii v kul'ture [To question on correlation of traditions and innovations in culture] // Vestnik Russkoj hristianskoj gumanitarnoj akademii. – 2022. – №2. – Volume 23. – P.204-211
- Grushin, B. A. Massovoe soznanie: opyt opredeleniya i problemy issledovaniya [Mass consciousness]. – Moscow: Izdatel'stvo politicheskoj literatury, 1987. – 368 p.
- Davtyan, V. R. Nekotorye aspekty sovremennoj tradiciologii [Some aspects of contemporary of science of traditions] // Vestnik of Saint-Petersburg State Institute of Culture. – 2023. – №3(56), September. – P.30-35
- Lévi-Strauss, C. Pervobytnoe myshlenie [Primitive thinking]. – Moscow: Respublika, 1994. – 384 p.
- Losev, A. F. Filosofiya. Mifologiya. Kul'tura [Philosophy. Mythology. Culture]. – Moscow: Politizdat, 1991. – 525 p.
- Mandel'shtam, A. M. Pamyatniki epohi bronzy v yuzhnom Tadzhikistane [Monuments of Bronze Age in Southern Tajikistan] // MIA, №145. – Leningrad: Nauka. 1968. – 182 p.
- Markaryan, E. S. Izbrannoe. Nauka o kul'ture i imperativy epohi [Selected works: Science of culture and imperatives of epoch]. – Moscow; Sankt-Petersburg: Centre of humanitarian initiatives; Universitetskay kniga, 2014. – 656 p.
- Masson, V.M. Pervye civilizatsii [First civilizations]. – Leningrad: Nauka, 1989. – 276 p.
- Pavlenko, Yu. V. Ranneklassovye obshchestva: genezis i puti razvitiya [Early class societies: genesis and ways of development]. – Kiev: Naukova dumka, 1989. – 288 p.
- Traditsii i innovatsii v istorii i kul'ture: programma fundamental'nyh issledovanij Prezidiuma RAN «Traditsii i innovatsii v istorii i kul'ture» [Traditions and innovations in history of culture] / Otdelenie istoriko-filologicheskih nauk RAN, Institut etnologii i antropologii RAN. – Moscow, RAN, 2015. – 620 p.
- Filisofskiy entsiklopedicheskiy slovar’ [Philosophical Encyclopedic Dictionary]. – Moscow: Sovetskaya entsiklopediya, 1983. – 840 pp.
- Avanesova, N. A. Buston VI – the Necropolis of Fire-Worshippers of Pre-Urban Bactria. – Samarkand: International Institute for Central Asian Studies (IICAS), 2016. – 634 pp.
- Archaeological Perspectives on Burial Practices and Societal Change. Death in Transition. Edited by Frida Espolin Norstein, Irene Selsvold. – London, Imprint Routledge, 2024. – 254 pp.
- Bentley, A. R. & O’Brien, M. J. On cultural traditions and innovation: finding common ground // Antiquity. – 2024. – Volume 98. – Issue 401. – Р. 1429-1432.
- Heritage as an action word: Uses beyond communal memory. Eds. by Susan Shay and Kelly M. Britt. Series in Heritage Studies: Vernon Press, 2024. – 242 pp.
- Ionesov, V. I. The Struggle Between Life and Death in Proto-Bactrian Culture: Ritual and Conflict. Mellen Studies in Anthropology. Volume 5.– Lewiston-Queenston-Lampeter, The Edwin Mellen Press, 2002. – 220 pp.
- Ionesov, V. I. Cenotaphs in ritual practice of complex societies: Proto-Bactrian cultural context // Mediterranean Archae-ology and Archaeometry. – 2020. – Vol. 20. – No 3,: 91-105.
- Ionesov, V. I. Ritual Process and Symbolic Transformation in Cultural Landscapes of Proto-Urban Bactria: Introduction and Reflections on the New Book by Nona Avanesova // Asian Studies IX (XXV), 1. – 2021. – Р: 347-359.
- Kasparov, A. Verification of the funeral rite of the necropolises of the Sapalli culture with Vedic and Avestan sources. 07.00.06 – Archaeology (history fiction). Dissertation abstract of the Doctor of Philosophy (PhD) on Historical Sciences. – Samarkand: Samarkand state university named after Sharof Rashidov, 2024. – 56 pp.
- Magadán-Díaz, M., & Rivas-García, J. I. Between tradition and innovation: a comparative analysis of the publishing industry in Spain and France in the digital age // International Journal of Cultural Policy, Published online: 17 Feb 2025, 1-20. [Electronic resource]. – URL.: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10286632.2025.2468487?scroll=top&needAccess=true (data obrashcheniia: 10.04.2025).
Supplementary files