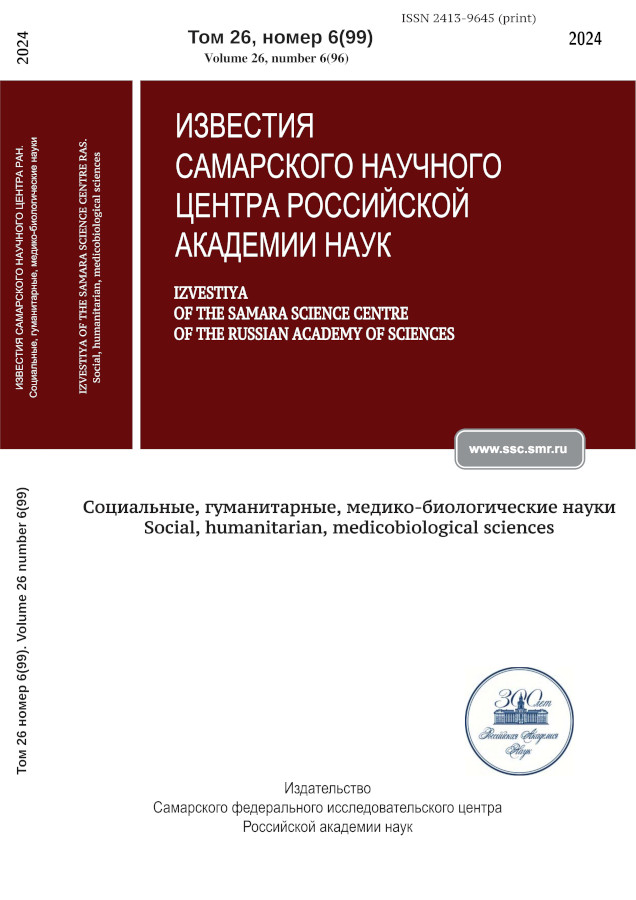Апофатика художественного мышления В.Ф. Дударева
- Авторы: Дударева М.А.1,2, Рождественская О.Ю.3
-
Учреждения:
- РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)
- Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
- Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
- Выпуск: Том 26, № 6 (2024)
- Страницы: 58-63
- Раздел: ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
- URL: https://journals.eco-vector.com/2413-9645/article/view/676959
- DOI: https://doi.org/10.37313/2413-9645-2024-26-99-58-63
- EDN: https://elibrary.ru/SJVBOS
- ID: 676959
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Объектом исследования выступает феномен апофатики культуры, проявившийся в русской поэзии. Предметом научной работы являются образные реализации этого феномена в творчестве современного поэта. Материалом для статьи послужила поэзия Валерия Дударева (главный редактор литературного журнала «Юность» с 2007 по 2019 г.), а именно его стихи из зимнего раннего цикла, представленного в сборниках «На склоне двадцатого века» и «Ветла». В центре герменевтического анализа — образные реализации феномена апофатики в поэтической подборке поэта, в которой проявились апофатическая традиция цвета и света, связанная с экзистенциалом одиночества, познанием Другого. Обращаемся на типологическом уровне к пушкинскому тексту, взглядам на искусство художников эпохи модернизма, В. Кандинскому. Подробно рассматриваем понятие «апофатика», без которого невозможно совершить методологический прорыв в плане понимания онтологических вопросов творчества. Результаты исследования заключаются в выявлении культурфилософского потенциала современной поэзии для дальнейшего изучения проблемы апофатики как феномена русской художественной культуры, ее национального бытия. Настоящее исследование может быть интересным для литературоведов, включающих литературу в пространство большого бахтинского диалога культур, а также преподавателям курсов культурологии и философии.
Полный текст
Введение. Литературные критики Л. Аннинский, И. Ростовцева относили поэзию В. Дударева к «тихой лирике», хотя его художественное слово вызревало в очень неудобных и страшных социальных условиях распада страны, который поэт предчувствовал еще в конце 1980-х в сборнике «На склоне двадцатого века». Казалось бы, громким событиям нужен был громкий голос, например, стилистика В. Маяковского, нежели размышления о русских тропинках, ветлах (осевой образ в поэтике В. Дударева [10]), колодцах, колокольнях и звездах. Однако в «эпоху смут и революций селиться лучше в далеке», пишет поэт Валерий Дударев, как бы заставляя нас повернуть голову в сторону русской провинции, русской деревни и русской вечности, переживание которой онтологически важно для русского человека. Не поэтому ли у поэта такие простые (внешне, по форме) стихи и краски? Критик и литературовед И. Ростовцева в своей программной о дударевской творческой мастерской статье «До игры» тонко подмечает: «Очень многое в этом видимом мире закрыто от нас завесой, спрятано от наглого, назойливого — в упор — взгляда. Не случайно, чтобы охранить тайну, поэт выбирает самую темную краску: его излюбленный эпитет — “тёмный”» [7, с. 187].
История вопроса. Под апофатикой здесь подразумеваем не только и не столько метод познания сакральной реальности через отрицание всех возможных ее предикатов как ложных или частично ложных, сколько феномен (ноумен) непостижимого, неведомого, приоткрывающегося нам ризомно, едино (множественно) в пороговый час бытия. Об этом в связи с иерофанией писал этнограф М. Элиаде: «Человек узнает о священном потому, что оно проявляется, обнаруживается как нечто совершенно отличное от мирского. <…> Пожалуй, история религий, от самых примитивных до наиболее изощренных, есть не что иное, как описание иерофаний, проявлений священных реальностей» [16, с. 17].
Апофатичны, непредсказуемы для нашего рацио Красота, Любовь, Смерть. Литературоведы, исследующие русский художественный апофатизм, обращаются именно к этим Абсолютам культуры [10], которые связаны с текстом судьбы. В отечественном космо-психо-логосе (диалектическая триада Г.Д. Гачева [4]) особым апофатизмом наделена и природа, космос русской равнины, о теографии которой уже писал В.П. Океанский [15, с. 241]. Через равнину и на равнине мы апофатически переживаем трансцендентное. В русском (преимущественно зимнем) поле совершаются судьбоносные встречи — одна из самых ярких у А.С. Пушкина в «Капитанской дочке». Ощущение открытого пространства, нашей равнины, которая апейронна по своей сути, обостряется во время метели. Метель в нашем художественном космосе связана с текстом судьбы, пишущей свои законы. Метель в поэтике В. Дударева апофатична и судьбоносна, о чем уже писали литературоведы [9], но она также сопряжена с экзистенциалом одиночества и ситуацией нравственного выбора (стихи «Напредчувствую снег…», «Дорога сумрачна. Луна…»).
Методы исследования: онтогерменевтический анализ трех «метельных» стихотворений поэта, в которых проявляется его апофатическое мышление.
Результаты исследования. Первое стихотворение – «Предзимье» – раннее, является программным для сборника «На склоне двадцатого века» (1994), который оно и открывает:
Снег созрел под утро. Ветер налетел. Черная дорога бьется о метель. Ах, зачем же биться Да себя крошить? — Ведь на целом свете не сыскать души! И никто не вспомнит, если б и хотел, Как моя дорога Билась о метель! [6, с. 5].
Справедливо замечание филологов В.Э. Морозова и Е.Л. Черкашиной о метафизичности цвета в данном тексте: «Для поэта важна эта метафизика движения, борьбы со снегом, с наступающей зимой, которая выражена в двух колоративах, белом (имплицитно) и черном (эксплицитно)» [14, с. 152]. Черный и белый здесь не просто выступают в качестве колоративов, а являются кодами Тьмы и Света, которые со-существуют, со-положены друг другу. В этом мы также наблюдаем проявление апофатической традиции света в мировой культуре. В статье Н.В. Брагинской, А.И. Шмаиной-Великановой подробно представлена апофатическая традиция переживания Божественного света, утреннего и вечернего [3]. В этом аспекте обратим внимание на утренний час у В. Дударева, когда созревает снег, являющийся символом предзимья, состояния лиминального по своей сути: мы уже распрощались с золотой осенью, но еще не вступили в зиму. С одной стороны, лирический герой понимает внешнюю бесполезность борьбы со стихией («Ах, зачем же биться? / Да себя крошить?»), с другой стороны, эта борьба носит онтологический характер, представляя собой агон (агон — греч. ἀγών — «борьба, состязание», космическая борьба как элемент древней мистерии), космическое состязание в данном случае с самим собой, которое разрешается в последней строфе: никто не вспомнит обо мне из людей, но я сам на себя другого гляжу со стороны, из будущего времени. Об этом отстранении от себя самого писали и М.М. Бахтин, и близкий к нему В.В. Бибихин. Последний — в работе «Лес»: «...нам не надо смотреть дальше, чем в нас самих, в энциклопедии или кого-то спрашивать, что такое Бог. Это все равно что я пошел бы у кого-то разузнавать, кто такой я. Это в нас всегда, хотя чаще в привативном модусе» [1, с. 42]. Но чтобы понять свою предельность, надо от себя, своей самости отстраниться, трансцендировать за пределы своего «Я», что и происходит во втором «метельном» стихотворении цикла того же творческого периода:
Бывает: метель закрутит! Сидишь за чайком в тепле, Думаешь: где-то люди По снежной бредут земле. Бывает: метель закрутит! По снежной бредешь земле, Думаешь: где-то люди Сидят за чайком в тепле [7, с. 67].
Здесь усиливается апофатизм художественного мышления поэта, который заключается в ситуации нравственного выбора: ты остаешься дома, в кругу близких, «за чайком в тепле», или ты выходишь в этот мир, идешь в метель, чтобы повстречаться с Богом (или обратным его проявлением, как в пушкинских «Бесах»).
В. Дударев — поэт нравственного выбора, к которому он всегда подводит своего читателя. Легко остаться дома, выбрать уют и комфорт, и трудно скитаться по Руси, постигая метельность жизни. В двух строфах, в этой короткой форме, которую высоко ценил поэт, с одной стороны, разрешается опасный экзистенциал одиночества, с другой стороны, В. Дударев погружает нас во множественность возможных решений ситуации. Здесь можно вспомнить феномен лотмановского взрыва (работа «Культура и взрыв»), ведущего к разным исходам одной ситуации: «выбор будущего реализуется как случайность» [13, с. 22]. Такой «взрыв» в поэтике В. Дударева часто встречается (стихотворение «Желтые заборчики» показательно в этом отношении) и иногда вмещается в какую-нибудь вещь, как, например, в разбираемом тексте: в образе-символе чашки чая выражен и домашний мир с его радостями, отношениями домочадцев, и остранение и отстранение от этой чашки, которая не только пользительна для лирического героя, но и губительна. Это противоречие можно понять через пушкинский код, присутствующий в поэтике В. Дударева. У А.С. Пушкина в стихотворении «Зимняя дорога», к которому открыто обращается современный поэт в своем творчестве (имеется в виду стихотворение «Все дальше в северную сторону…»), лирический герой томится скукой в домашнем кругу, в объятиях милой, ожидая своего полночного часа, встречи с Ниной, проводником, своего рода даймоном, знаменующей конец инициационного пути. Этот любовный парадокс, русская метафизика разъятия еще очевиднее в стихотворении В. Бокова (1973):
На лесах позолота, листопад за окном Не хватает кого-то в добром сердце моем И любимая рядом, и любовь по плечу, Но душою и взглядом я куда-то лечу Кто-то манит и манит в далекую даль Словом ласковым ранит говорит – ожидай, И лечу я куда-то, и покоя мне нет И летит позолота на тревожный мой след [2].
Эти переложенные на музыку стихи, исполненные другом В. Дударева, Анатолием Шамардиным из ансамбля Утесова, весьма показательны в контексте наших размышлений об апофатизме творчества русских поэтов: любимая, но земная женщина не может удовлетворить духовного побуда к имагинативному абсолюту, поэт ищет Ту, которой в мире (зримом) нет. Метафизика разъятия, девальвация секса по-русски (определение Г.Д. Гачева из книги «Русский эрос») присуща и поэтам-символистам, и творчеству С.А. Есенина с софийными образами в «Персидских мотивах» и поздних, предсмертных коротких стихах [8], поэтический голос которого часто слышен в художественном мире В. Дударева. И кажется, что «метельное» стихотворение не о любви, у поэта не так много любовных стихотворений (они появятся только в поздний период творчества), но эту метафизику разъятия себя с самим собой, себя с Другим, мы чувствуем.
В третьем раннем «метельном» стихотворении, замыкающем этот своеобразный триптих, можно также наблюдать диалектику движения, круговорот жизни и смерти:
Метель рождает корабли И надрывается при этом, Но только летом, только летом Они уходят от земли. Метель жалеет корабли, Что летом жмурятся от сини, Но за огнями грусти зимней Они уходят от земли [6, с. 22].
Образ-символ корабля отсылает нас к корабельно-лодочной традиции, мощно проявившейся в отечественной словесности. Стоит культурологически обратить внимание на два момента: во-первых, лодка, ладья, челн, корабль (не исключают друг друга) в нашей культуре выполняют медиирующие функции, участвуя в погребальной обрядности, во-вторых, этот архетип, известный нам еще по разным жанрам русского фольклора (загадки, былины, драма), связан также с текстом судьбы.
Степан Разин на стенах темницы рисует расписную ладью (одна далекая точка в нашей художественной словесной культуре), герой любимого Дударевым стихотворения Н. Рубцова «В горнице» чинит загнившую лодку под ночной звездой и думает о своей судьбе (вторая, близкая онтологически, точка в словесности). Метель рождает корабли — этот образ можно понять только апофатически на уровне инстинкта культуры, имагинативно срабатывающего в творчестве поэта. Здесь под имагинативным (Абсолютом), вслед за Я.Э. Голосовкером, понимаем высший образ культуры, связанный с Абсолютом, который рождается в душе художника, если он допускает работу инстинкта культуры в себе [8]. Этот процесс узнавания искусства, постижения его ауры, В. Кандинский емко обозначил одним определением — «настроения» искусства, которые есть и в живописи, и в музыке, и в литературе и которые реципиент должен прочувствовать, суметь погрузиться в ауру произведения: «Тот же период материализма воспитал во всей жизни, а значит и в искусстве, зрителя, который не может воспринимать картины просто (особенно “знаток искусства”) и ищет в картине все что угодно... не ищет он только восприятия внутренней жизни картины, не пытается дать картине непосредственно воздействовать на себя» [12, с. 127].
Вывод. В трех стихотворениях В.Ф. Дударева, организующих своеобразный «метельный» триптих, выразилась апофатика художественного мышления поэта, который своего читателя постоянно ставит в ситуацию нравственного выбора. В чем суть этого выбора и отчего он так труден для нас? Мы, люди цифрового эона, привыкшие к комфорту, готовые получать быстрый доступ ко всем благам цивилизации, стали метафизически отрешенными, и нас нужно привести самих к себе, вернуть в сакральное лоно Вселенной, заставить трансцендировать за пределы собственного «Я», любить этот мир и видеть Другого, а это может сделать в литературоцентричной России только поэзия как высшая форма бытия для русского человека.
Об авторах
М. А. Дударева
РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство); Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Автор, ответственный за переписку.
Email: marianna.galieva@yandex.ru
доктор филологических наук, доктор культурологии, заведующий кафедрой общей и славянской филологии Института славянской культуры
Россия, Москва; Нижний НовгородО. Ю. Рождественская
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Email: o.rozhdestvo@gmail.com
кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры русского языка для иностранных учащихся естественных факультетов
Россия, МоскваСписок литературы
- Бибихин, В. В. Лес. — СПб.: Наука, 2011. — 425 с.
- Боков, В. Собрание сочинений. Том 3. Песни. Поэмы. Над рекой Истермой (Записки поэта). [Электронный ресурс]. — URL: https://libking.ru/books/poetry-/poetry/359457-19-viktor-bokov-sobranie-sochineniy-tom-3-pesni-poemy-nad-rekoy-istermoy-zapiski-poeta.html (дата обращения: 02.12.2024).
- Брагинская, Н.В., Шмаина-Великанова, А. И. Свет вечерний и свет невечерний // Два венка: Посвящение Ольге Седаковой. — М.: Русский фонд содействия образованию и науке, 2013. — С. 73–92.
- Гачев, Г. Д. Космо-Психо-Логос: Национальные образы мира. — М.: Академический проект, 2007. — 511 с.
- Голосовкер, Я. Э. Имагинативный абсолют. — М.: Академический проект, 2012. — 318 с.
- Дударев, В. На склоне двадцатого века. — М.: Радуница, 1994. — 116 с.
- Дударев, В. Ветла и другие стихотворения. — М.: Художественная литература, 2016. — 196 с.
- Дударева, М. А. Апофатические формулы русского фольклора: образы смерти в стихотворении С. А. Есенина «Го-лубая кофта. Синие глаза...» // Филологические науки. Научные доклады высшей школы. — 2024. — Т. 2, № 5. — С. 23–31.
- Дударева, М. А., Арипова, Д. А. Лексико-семантическое поле «зима» в поэзии Валерия Дударева: апофатика мете-ли // Казанская наука. — 2023. — № 11. — С. 149–151.
- Дударева, М. А., Никитина, В. В. Лексико-семантическое поле «родина» в поэзии Валерия Дударева: националь-ная топика // Казанская наука. — 2023. — № 8. — С. 29–31.
- Елепова, М. Ю. Эстетика В. А. Жуковского в апофатическом контексте // Дискуссия. — 2012. — № 4 (22). — С. 176–178.
- Кандинский, В. О духовном в искусстве. — Нью-Йорк: Международное литературное содружество, 1967. — 159 с.
- Лотман, Ю. М. Семиосфера. — СПб.: Искусство-СПБ, 2010. — 703 c.
- Морозов, В. Э., Черкашина, Е. Л. Семантика цвета в поэзии Валерия Дударева (о стихотворении «Предзимье») // Казанская наука. — 2024. — № 9. — С. 151–153.
- Океанский, В. П. Человек и тотальность: поэтика пространства и ее кризис. — Иваново: ШГПУ, 2010. — 358 с.
- Элиаде, М. Священное и мирское. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1994. — 143 с.
Дополнительные файлы