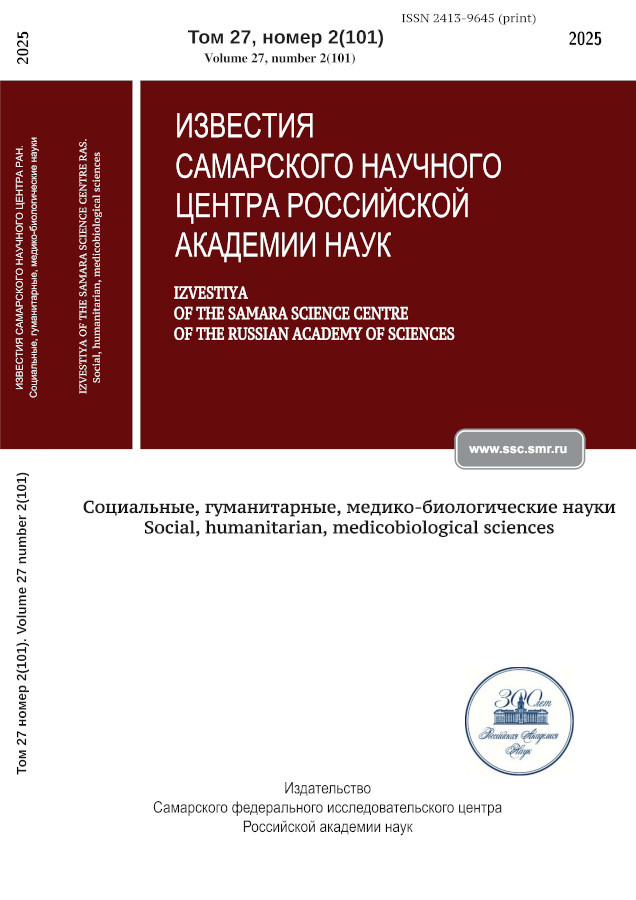Nomination of Russian folk instruments in light of Sanskrit etymology
- 作者: Denisov D.V.1
-
隶属关系:
- Samara State Transport University
- 期: 卷 27, 编号 2 (2025)
- 页面: 70-77
- 栏目: КУЛЬТУРОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
- URL: https://journals.eco-vector.com/2413-9645/article/view/692473
- DOI: https://doi.org/10.37313/2413-9645-2024-27-101-70-77
- EDN: https://elibrary.ru/CGZBSR
- ID: 692473
如何引用文章
全文:
详细
Discussing the Sanskrit etymology of Russian folk instrument designations fills a gap in the domestic etymological tradition, whose representatives are reluctant to involve data from Indian languages in the analysis. The subject of the study is the conditions under which the etymological transitions could take place. The analysis takes into account various word-formation models. The author regards some factors influencing the shift in the morphemic composition of Sanskrit words. These are adding Russian suffixes, the transfer of articulation of the final i of Sanskrit verbal endings to the zone of the thematic vowel, the elision of individual sounds and syllables in the root, as well as in prefixes, and the addition of individual sounds. The author analyzes the Russian nouns скоморох, пляска, the semantic group including the lexemes баять, байка, баян, балакать, балалайка, волынка. He suggests the Sanskrit etymology of the names of Russian folk instruments – скрипка, домра, гусли, свирель, дудука, рожок, колокол and clarifies the etymology of the terms тон и лад, as well as individual verbs петь, звенеть/звонить, гласить/голосить. Based on the results of the research, the author concludes that in most of the cases considered, it is the Sanskrit etymology that takes place. Some of the proposed etymologies can be considered as a hypothesis.
全文:
Введение. Современная музыкальная терминология почти полностью представлена заимствованиями разных периодов из древнегреческого, латинского и итальянского языков. Свидетельства заморских путешественников и скупые строки рукописей дают только самое общее представление об истоках русской народной музыки. В отличие от фестивальной культуры Западной Европы, русская народная оркестровая традиция, носителями которой были скоморохи, была под запретом с момента издания царём Алексеем Михайловичем указа «Об исправлении нравов и уничтожении суеверий» (1648). Диалектическим результатом абсолютного запрета на домровую музыку, приведшего к её полному уничтожению, стало появление в начале XVIII в. балалайки, простой во всём: в конструкции, строе, способе звукоизвлечения. На пути определения истоков народной музыкальной культуры оптимальным представляется обращение к санскритской этимологии русского языка. Данный анализ отсылает нас к периоду санскритско-славянской общности, которая могла иметь место в периоды, когда льды отступали с Русской равнины и на её просторах появлялись переселенцы, в том числе из Древней Индии. Одна из последних точек культурного контакта – проживание племени синдов в VI – V вв. до н. э. в низовьях Кубани, на Таманском полуострове и черноморском побережье до Синдской гавани (г. Анапа) [Трубачёв О.Н., с. 39–63]. В актуальном контексте значимо, что в Европу из Индии через арабский мир пришла не только десятичная система счисления, но и буквенное обозначение нот и термин гамма, обычно соотносимый исключительно с древнегреческим аналогом (греч. γάμμα, скр. grāma- м. ‘деревня; толпа; звукоряд’) [Дева Б.Ч., с. 71–72].
Цель настоящего следования – установление истоков русской народной музыки средствами этимологического анализа.
Гипотеза исследования состоит в том, что именно этимологический анализ может предоставить информацию о культуре народа на доисторических этапах его существования.
Объект настоящего исследования – названия русских народных музыкальных инструментов.
Предмет исследования – способы включения санскритских словоформ в тезаурус русского языка.
Научная новизна состоит в доказательстве эффективности привлечения данных санскрита для установления этимологии корневой лексики русского языка.
Актуальность настоящей работы определяется необходимостью опровержения укоренившейся точки зрения об отсутствии глубоких культурных корней у русского народа.
Методы исследования. Применяемый метод этимологизации и образования этимологических пар включает четыре этапа: 1) определение санскритских слов, морфемный состав которых сопоставим с анализируемым русским словом; 2) установление общих элементов значения (приводится полный набор значений); 3) объяснение факторов, повлиявших на морфемный сдвиг при переходе от санскритского к русскому слову; 4) объяснение характера произошедших изменений. Значения санскритских слов приводятся по «Санскритско-русскому словарю» В.А. Кочергиной [Кочергина В. А.] и «Малому петербургскому санскритскому словарю» О. Бётлингка, изданному на немецком языке [Böhtlingk О.]
В настоящем исследовании долгота санскритских гласных a, i, u обозначается в латинской транскрипции надстрочной чертой: ā, ī, ū. Гласные о, е, относимые в санскрите к производным звукам (скр. о = а + u; скр. е = а + i), – всегда долгие, хотя пишутся без надстрочной черты. В статье принята следующая кириллическая транскрипция: сверхкраткий характер гласных передаётся посредством поднятия в верхний регистр, а долгота – удвоением гласной. Динамика санскритских слов создаётся только посредством чередования кратких, которые звучат как сверхкраткие, и долгих, звучащих как сверхдолгие.
История вопроса. Отечественные учёные затрагивают в своих исследованиях социально-политические аспекты такого явления, как скоморошество [Павлушков А.Р., с. 44–52], терминологические особенности русских музыкально-теоретических руководств XVII в. [Гусейнова З.М., с. 169–179], вопросы формирования русской музыкальной культуры на примерах знаменного и конкадарного роспева первым русским святым Х–ХI вв. [Владышевская Т.Ф., с. 293–318]. Наряду с музыкальными вопросами в контексте настоящего исследования значимы вопросы собственно культурной индославянской общности [Денисов Д.В., с. 77–86] и вопросы этимологического характера [Аспекты санск.-слав. этимологии, с. 276–347], в том числе на примере тематической группы «Искусства и ремёсла» [Аспекты санск.-слав. этимологии, с. 190–201, 261–268].
Результаты исследования. В древности скоморохи ватагами от нескольких человек до сотни бродили по землям и весям. Это было профессиональное народное оркестровое сообщество. Деятельность скоморохов охватывала разные виды и аспекты театрального и циркового искусства. Сатирический аспект скоморошества поддерживается версией происхождения слова скоморох от греческих слов σκῶμμα ‘шутка, насмешка’ и άρχος ‘начальник, вождь’, т. е. ‘мастер шутки’ [Шанский Н.М., с. 412]. Однако суть события, привносимого скоморохами в жизнь народа, раскрывается санскритской этимологией. Об этом свидетельствует существительное samāroh [самаарох] м., имеющее в языке хинди значения ‘праздник, празднество, торжество; фестиваль’ [Хинди-русский словарь, с. 659]. Русское существительное скоморох отличается от существительного samāroh только вставным звуком к в первом слоге. В обоих языках конечные гласные подверглись редукции, поэтому оба слова оканчиваются на корневой звук: хинди h (гортанный), рус. х. Санскритское отглагольное существительное samārohana- [самаарохана] ср. имеет значения ‘подъём’ в мужском роде и ‘восхождение’ в среднем [Böhtlingk О., т. 7, с. 61], где скр. ruh/roh (рус. рост), sam- (рус. со-), ā- ‘приближение’. В актуальном контексте данные значения могут быть интерпретированы как ‘подъём духа’, так и ‘восхождение на подмостки’. Существенное отличие санскритской этимологии в данном и последующих примерах в том, что речь идёт не о заимствованиях, а о корневой лексике русского языка.
Пляска (скр. lāsa- м. ‘прыгание, подскакивание’, lasya- ср. ‘пляска, танец’) – неотъемлемая часть скоморошества. Присоединение начального губного п- в русском слове осуществилось, как и в существительном прачка (скр. rajaka- [раджака] м. ‘мужчина-прачка, красильщик ткани’). Впрочем, нельзя исключать и утрату начального скр. p в санскритском слове. Отличие словообразовательного характера состоит в том, что в санскрите посредством суффикса -kа- образуется обозначение танцора (скр. lāsaka- ‘плясун, танцор’), а в русском языке – обозначение танца. Первичный глагол lasati содержит значения ‘звучать; играть; обнимать’, значимые для танца (сравн. с рус. ласкать). В полной мере значение ‘танец’ представлено в каузативной (побудительной) форме: скр. lāsayati ‘пляшет; побуждает к танцу; обучает танцу’ (скр. -sayati, рус. -шет).
Другой аспект скоморошества – песня. Санскритскому praśaṁsana- ср. ‘восхваление, прославление’, содержащему суффиксальный носовой сонант, соответствует существительное песня, в котором н – корневое. Начальный русский слог пе- может объясняется санскритскими приставками pra-, upa- (рус. про-, по-): praśaṁsati ‘провозглашает; восхваляет, превозносит’ (от скр. śaṁsati [щамсати] ‘рассказывает, сообщает; предлагает; хвалит, восхваляет; одобряет’, сравн. с франц. chante ‘петь’). Однако у глагола петь может быть иной источник: санскритский глагол, имеющий две основы настоящего времени jigāti и gāyati (√gai, gā) ‘поёт; воспевает, восхваляет’. Форма jigāti актуальна в контексте современного употребления глагола жечь в значении ‘создавать настрой’: «Давай, жги!». В случае с глаголом gāyati выпадение корневого слога -gā- могло произойти по причине переноса конечного i глагольных окончаний в зону тематической гласной в виде йотации:
скр. upa-gāyati [упа-гаайати] ‘начинает петь; исполняет песню’,
скр. pra-gāyati [пра-гаайати] ‘начинает петь; воспевает’, рус. поёт: рус. по- + скр. gāya + рус. -ёт > рус. по-ёт.
Общие истоки могут быть у таких русских слов, как бает, байка, боян/баян ‘сказитель’, балакать, волынка. Ядро данной семантической группы – санскритский корень vad ‘говорить’ (рус. вет/веч): от-вет, от-веч-ать, при-вет…
Значение игры на музыкальном инструменте встречается у каузативного глагола vādayati ‘позволяет говорить, побуждает к говорению; издаёт звуки, играет на музыкальном инструменте; говорит’. Этот глагол перешёл в русский глагол бает в значении ‘рассказывает’. В данном случае произошло опрощение санскритской словоформы, сопровождавшееся утратой слога -da-.
При объяснении русского глагола играть, следует учитывать санскритский глагол krīḍati ‘веселится, развлекается; играет с кем-л.; шутит с кем-л.’. Перенос артикуляции i глагольного окончания -ti в зону тематической гласной мог вызвать и сдвиг корневого долгого ī в самое начало слова:
скр. krīḍati ‘веселится, развлекается; играет с кем-л.; шутит с кем-л.’ > скр. krīḍa- + рус. -ет > рус. и-гра-ет (сравн. с скр. hrada- м. ‘непрерывное звучание чего-л.’).
Существительное байка соотносимо с причастием долженствования vādya- ‘то, что следует озвучить’. Как существительное vādya- ср. имеет значения ‘речь; музыка’. Возможна и иная траектория, состоящая в переходе санскритского -da- в русское -ла- глагола балакать (сравн. с переходом рус. гудеть > гул, см. ниже).
Глагол балакать мог возникнуть от именной основы скр. vada-, vadaka- ‘говорящий’ (с кратким корневым а), используемой в санскрите в качестве второй части сложного слова. Существительное vādaka- м. (с долгим корневым ā) имеет значение ‘играющий на муз. инструменте’, свидетельствующее в пользу точки зрения о неслучайности названия инструмента балалайка. Удвоение же слога -ла- позволило в самом названии смоделировать ощущение бряцания. Можно также предположить, что изначально расхожая попевка «ля-ля-ля» звучала как «ба-ла-ла».
Существительное vādana- [ваaдaна] ср. ‘инструментальная музыка; игра на чём-л.’ с учётом перехода скр. d в рус. л может быть соотнесено с названием русского народного инструмента волынка (иные названия – дуда, коза), состоящего из меха с двумя или тремя игровыми трубками и трубки для нагнетания воздуха. Причиной для сдвига корневого скр. d в рус. л могло стать присоединение к санскритскому слову русского суффикса -к-:
скр. vādana- [ваaдaна] + рус. ка > рус. волынка.
Обозначение древнего певца боян, баян объясняется относительно основы прилагательного на -in – vādin ‘говорящий, сообщающий’, которое как существительное мужского рода (им. vādī м.) имеет значения ‘учитель; знаток; участник спора, дискуссии’. Первая русская модель музыкального инструмента баян была представлена самарцем Павлом Чулковым в Туле на Кустарно-промышленной выставке в 1897 г. В 1907 г. мастером-конструктором П. Стерлиговым по поручению музыканта-гармониста Я.Ф. Орланского-Титаренко была изготовлена четырёхрядная хроматическая кнопочная гармоника, получившая название «баян» в память древнерусского сказителя.
Одно из обозначений струны в санскрите – существительное guṇa- м., имеющее конкретные значения ‘волокно; верёвка, шнур, нить; тетива; струна’ и абстрактные значения ‘качество, свойство; добродетель’. Прилагательные, которые обозначают предмет, снабжённый струнами, верёвками, тетивой, получают суффикс -in. В им. п., ед. ч. имеют место словоформы guṇī м., guṇi ср. Данное слово содержит ретрофлексный (церебральный) носовой сонант ṇ, который в западноевропейских, балтийских и славянских языках, мог переходить в губные, зубные, палатальные звуки, в r (рус. р), а также в сочетания согласных [Аспекты санск.-слав. этимологии, с. 89–92]. В данном случае следует полагать, что произошёл сдвиг в русское мягкое л’, которому было предпослан сибилянт с:
скр. guṇī им., ед., м. > рус. гусли (скр. ṇ > рус. сл’).
Особенность словоформы guṇī в том, что в санскрите эта форма (им. п., ед. ч., м. р.) оканчивается на долгое ī. Это означает, что при переходе в русский язык конечная гласная сохранилась, но была переосмыслена как окончание множественного числа. Отсутствие в русском языке единственного числа для данного инструмента подтверждает данную этимологию. Возможность обозначения данной лексемой любого инструмента, снабжённого струнами, привело к тому, что разные струнные инструменты получили одинаковое название. Например: рус. гусла ж. (русск. нар. инстр., имеющий две струны и напоминающий мандолину, на котором играли смычком); чеш. gusle ‘гусли’, housle ‘скрипка’ [Черных П.Я., с. 228].
Если обратить внимание на то, что существительные струна и guṇa- имеют в исходе слова три одинаковых звука, то можно предположить, что в санскрите могло иметь место сложное слово. Другие санскритские существительные с этим же значением – tantrā ж. ‘струна’ (tantra- значение ‘ткацкий станок’) и tār- м., ср. ‘высокий, громкий, пронзительный звук’. В хинди существительное tār м. под влиянием персидского языка получило значения ‘нить; проволока; провод’, а музыкальный термин tār на хинди имеет значение ‘цимбалы’. Соответственно, название индийского музыкального инструмента ситар содержит информацию, что это струнный инструмент, а начальный слог si- (скр. sapta- ‘семь’) возможно, указывает на число струн: у инструмента 6–7 игровых (а также 9–17 резонирующих) струн. Но однозначного ответа об этимологии слова струна пока нет.
Для домры обычно предлагается заимствование из тюркских языков: тат. dumbra ‘балалайка’, тур. tambura ‘гитара’, казах. dombıra, калм. dombr̥. Добавим в этот перечень и индийский аналог – тамбура (хинди taṁbūrā м.), струнный щипковый инструмент, состоящий из большого резонатора, сделанного из тыквы или дерева, к которому прикрепляется большой гриф. В персидском языке созвучное название используется для обозначения бубна или небольшого барабана (перс. taṁbūr). Четыре струны индийского инструмента имеют строй G – C – C – C’. «Особая конструкция подставки придаёт этому, в общем простому, инструменту редкое звучание, чем и определяются его преимущества – как с музыкальной, так и с эстетической точки зрения» [Дева Б.Ч., с. 172].
Скрипка – это также один из русских народных инструментов. Одна фреска Софийского собора в Киеве, относящаяся к XI в., изображает музыканта, держащего инструмент на плече. Эта фреска свидетельствует о древней традиции игры на смычковых инструментах. Ни в Европе, ни на Востоке плечевое положение смычковых инструментов не практиковалось. В летописях XI–XV вв. содержатся сведения об игре на смыках. «Начиная с середины XVI в. в памятниках русской письменности появляются названия смычкового инструмента, близкие к современному, – скрипель, скрипица и др., а чуть позже – ещё одно, широко распространённое в дальнейшем – гудок» [Банин А.А., с. 43]. Скрипотчиков величали в документах русскими игрецами, их противопоставляли исполнителям на виоле. Характер звучания гудка, в отличие от скрипки, был гнусавый и скрипучий. Гудок держали в вертикальном положении, опирая его на колено при игре сидя. Он изначально выдалбливался из цельного куска дерева имел корпус овальной формы без боковых выемок. Настраивался он по квинтам [Банин А.А., с. 43–45].
В случае с глаголом скрипеть этимологическое соответствие представлено санскритским глаголом kṣvedati / kṣveḍati (√kṣvid/kṣviḍ) ‘бормочет, говорит нечленораздельно; скрипит; жужжит’ (сравн. с нем. quietschen ‘скрипеть’). Русское начальное с- в этом этимологическом соответствии имеет вставной характер, скр. ṣ > рус. р, скр. veḍ > рус. п. Глагольное окончание -ит может свидетельствовать об образовании от санскритской формы причастия прошедшего времени страдательного залога (см. ниже) – kṣveḍita- (kṣviṇṇa-). Со скрипкой в определённой степени сближается сāранги (хинди sāraṅgī), индийский струнный инструмент лютневого типа, основной аккомпанирующий инструмент классической музыки Хиндустани (Северная Индия). «Сāранги невелика по размерам, со сжатым или имеющим выемки резонатором. Резонатор и гриф сделаны из одного куска дерева. Резонатор покрыт тонкой кожей, а верхняя часть – отполированным деревом. На мембране крепится тонкая подставка, и через неё к колкам протягиваются три-четыре жильные струны, являющиеся мелодическими. Кроме того, обязательными являются и резонирующие струны – тараб» [Дева Б.Ч., с. 179]. В существительном sāraṅgī, как и в существительном скрипка, есть начальный сибилянт s (рус. с), r (рус. р) и задненёбное g (рус. к):
скр. sāraṅgī + рус. ка > рус. скрипка.
В русском языке могли иметь место следующие трансформации:
- долгое ā могло быть заменено на задненёбное к: скр. sār-, рус. скр-;
- слог ṅgī мог быть замещён русским смычным губным п при присоединении русского суффикса -к-.
Прилагательное гудебные относится к смычковым инструментам. О них говорилось как о «гудении лучшем». Истоком прилагательного гудебный могла послужить санскритская словоформа guñjana- ср. ‘жужжание; ворчание’, которая чаще выступает как отглагольное существительное и иногда как прилагательное, причём русское смычное б – вставной звук. Глагол guñjati [гуньжати] ‘жужжит; ворчит’ перешёл в русский глагол жужжит. Санскритский суффикс -ita- причастия прошедшего времени страдательного залога в ходе формирования русского языка мог совпасть с русским глагольным окончанием-ит (например, скр. sthita- ‘расположенный’, рус. стоит). При этом произошло смещение причастной формы guñjita- ‘зажужжавший; ворчавший’ в русские глагольные формы гудит и гундит ‘ворчит’.
Существительные дуда, дудка соотносятся с санскритским существительным dhamani- ж. ‘свист; свисток; дудка; канал; вена; жила’, а глагол дудеть – с глаголом dhamati ‘дует, выдувает; играет /на духовом инструменте/; надувает, раздувает; плавит, расплавляет; бросает’. Санскритское сочетание a/ā и последующего m регулярно переходит в русском языке в гласную у. Присоединение же русского суффикса -к- могло сопровождаться замещением санскритского зубного носового сонанта n русским зубным звонким смычным д:
скр. dhama-ni- + рус. -ка > ду + д + ка > рус. дудка > дуда > дудит.
При этом первичной в русском языке оказывается словоформа с суффиксом -к- (рус. дудка), а бессуфиксальная форма дуда – вторична, как и глагол дудеть. Следует также отметить наличие в санскрите ещё и глагола dhū со значениями ‘трясти, двигать /взад и вперёд/; раздувать, разжигать /огонь/’ (dhavati/te, dhuvati, dhūnoti/dhūnute, dhunāti/dhunīte, рус. дует, дунет).
Название инструмента рожок имеет в санскрите своим источником санскритское śṛṇgaka- ср. ‘рог’ от śṛṇga- ср. ‘вершина, пик; шпиль; высшая точка чего-л.; рог; клык, бивень; серп /луны/’ (рус. рог).
В свете санскритской этимологии название музыкального инструмента свирель соотносится с санскритским понятием svara- м. ‘голос; звук; муз. тон; муз. нота; лингв. гласный звук’. От корня svar образованы: глагол svarati (1 кл.) ‘издаёт звуки, звучит; воспевает, восхваляет; сияет’ и каузативный глагол svarayati (10 кл.) со значениями ‘придирается; ругает, порицает’, сохранившийся в существительном свара (например, «устроить свару») Прилагательное svaraṇa- ‘звучный’ – один из возможных источников существительного свирель.
Междометия динь-динь, динь-дон объясняются традиционно механизмом звукоподражания. Конечно, звукоподражание имело место, например, в санскритском глаголе dhanati ‘звучит’. В танцевальной традиции Катхак (Северная Индия) слог dhan используется для обозначения одного из ударов пятками. При этом следует учитывать, что на щиколотках танцующего находится по связке колокольчиков.
В санскрите есть также глагол kalate ‘звучит’, с каузативной формой kalayati, имеющей значения ‘побуждает; понукает’ (рус. колет ‘наносит уколы’) и ‘носит; поддерживает; предаётся чему-л.; подаёт знак, издаёт звук; считает, полагает’. Удвоение именной основы kalа- имеет место в существительном kalakala- м. ‘невнятный шум; гудение; звук, тон; пение’. Удвоение иного рода наблюдается в санскритском kiṅkanī ж. ‘колокольчик’.
Очевидны соответствия в случае с обозначениями основных видов звучания. Так, максимально сближены русский глагол звенит и санскритский непроизводный глагол svanati ‘издаёт звук, звучит; шумит; храпит’. Каузативная форма svanayati перешла в переходный глагол звонит, а существительное svana- м. ‘звук; шум /ветра, воды/; пение, щебетание /птиц/’ – в русское существительное звон.
Русские глаголы гласит, голосит имеют соответствием санскритский глагол hlasati ‘издаёт звуки, звучит’.
Значение русского глагола хлопает (в том числе в качестве аплодисментов) сузилось по отношению к санскритскому глаголу hlāpayati ‘говорит, шумит, скрипит’.
Греческий термин τόνος ‘натяжение, напряжение, ударение’ (рус. тон /музыкальный/) тождествен санскритскому tāna- м. ‘нить, волокно; трель; дрожание, вибрация; муз. нота’. Данное существительное образовано от глагольного корня tan (скр. tanoti, рус. тянет) со значениями ‘тянуть, растягивать; распространять; соединять, связывать; исполнять, выполнять; составлять, сочинять’.
Для обозначения музыкальной гармонии в санскрите может использоваться существительное eka-tāla- м., где eka- ‘один’, tāla- м. ‘веерная пальма; хлопание /ладоней, ушей слона/; муз. такт; танец’. «Тāла представляет собой организацию временных единиц счёта по ритмическим циклам» [Дева Б. Ч., с. 44]. Кроме того, применяются существительные svaraikya- ср. (где скр. aikya- ср. ‘единство; тождество’ от числ. eka ‘один’) и susvaratā ж. (см. выше скр. svara-). Русский музыкальный термин лад служит для обозначения ладогармонических закономерностей, объединяющих отдельные звуки в целостность. Примечательно, что соответствие между славянской Ладой, богиней весны, весенней пахоты и сева, покровительницей брака и любви, и музыкальным ладом существует такая же связь, как между музыкой и греческими музами. История этого термина такая же, как и существительного ладонь, которому в древнерусском языке соответствуют существительные долонь и длань, а в санскрите – существительное tala- ср. (с кратким корневым а), имеющее широкий набор значений от ‘равнина, долина; дно, глубина’ (рус. дол, долина) до значений ‘подошва ноги; ладонь; поверхность, плоскость’ (рус. ладонь). Существительное tāla- м. (с долгим корневым ā) ‘веерная пальма; хлопание /ладоней/; такт; танец’, содержащее значение ‘ритм’, перешло в русское лад. В отличие от санскрита, значение привнесения гармонии представлено в других частях речи русского языка: междометием ладно, у глаголов (наладить, отладить) и в устойчивых выражениях (не заладилось, быть в ладу с к.-л.).
Выводы. По результатам проведённого исследования делается вывод от том, что в большинстве рассмотренных случаев были установлены достоверные санскритские эквиваленты названий русских народных инструментов, относящиеся к корневой лексике русского языка. Проанализированы были существительные скоморох (скр. samāroh м.), пляска, пляшет (скр. lāsa- м., но скр. lāsaka- ‘плясун’, lāsayati), поёт (upa-gāyati, pra-gāyati), песня (скр. praśaṁsana- ср.), жги! ‘петь, создавать настрой’ (скр. jigāti ‘поёт’). Семантическая группа, представленная санскритским глагольным корнем vad ‘говорить’ (скр. вет/веч), самая многочисленная в настоящем исследовании. В неё входят следующие лексемы: баять (скр. vādayati), байка (скр. vādya- ср.), баян (скр. vādin, им. vādī м.), балакать (скр. vada-, vadaka-), балалайка (скр. vādaka- м. ‘играющий на муз. инстр.’), волынка (vādana- ср.). Была установлена этимология обозначений следующих русских народных инструментов: скрипка (хинди sāraṅgī), домра (хинди taṁbūrā м.), гусли (скр. guṇī м. ‘струнный’), свирель (скр. svaraṇa- ‘звонкий’), дудука (скр. dhamani- ж., dhamati), рожок (скр. śṛṇgaka-, śṛṇga- ср.), колокол (скр. kalakala- м., kiṅkanī ж.). Была уточнена санскритская этимология терминов тон (скр. tāna- м.), лад (скр. tāla- м.), гудебный (скр. guñjana- ср.), а также отдельных глаголов звенит/звонит (скр. svanati/svanayati), гласит/голосит (скр. hlasati), хлопает (скр. hlāpayati) и междометия динь-дон (скр. dhanati). Рассмотрены аспекты этимологизации существительного струна. В анализе была учтена возможность образования лексем русского языка от разных частей речи, образованных от одного корня. В качестве факторов, повлиявших на сдвиг в морфемном составе санскритских основ, учитывается возможность опрощенья санскритских приставок, присоединения русских суффиксов, переноса артикуляции конечного i санскритских глагольных окончаний в зону тематической гласной, элизия отдельных звуков и слогов в корне, добавление вставных звуков, а также переосмысление падежных окончаний.
Словари:
- Кочергина, В. А. Санскритско-русский словарь: около 30 000 слов. – М.: Филология, 1996. – 944 с.
- Хинди-русский словарь: в 2 т. [сост. А. С. Бархударов, В. М. Бескровный, Г. А. Зограф, В. П. Липеровский; под ред. В. М. Бескровного]. – М.: Издательский дом «ОНИКС 21 век»: Издательство «Мир и образование», 2002. – Т. 2. – 912 c.
- Черных, П. Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка: в 2 т. – М.: Рус. яз. Медиа, 2007. – Т. 621 с.
- Шанский, Н. М., Иванов, В. В., Шанская, Т. В. Краткий этимологический словарь русского языка : пособие для учителя / под ред. С. Г. Бархударова. – М.: Просвещение, 1975. – 543 с.
- Böhtlingk, О. Sanskrit-Wörterbuch. Bd. I–VII. Kürzerer Fassung / O. Böhtlingk. – Delhi: Motilal Banarasidass Publishers, 1998.
Dictionaries:
- Kochergina, V. A. Sanskritsko-russkii slovar': оkolo 30 000 slov [Sanskrit-Russian dictionary: about 30,000 words]. – Moscow, Filologiia Publ., 1996. – 944 p.
- Barkhudarov, A. S., Beskrovnyi, V. M., Zograf, G. A., Liperovskii,V. P. Khindi-russkii slovar': in 2 vol. [Hindi-Russian dictionary: in 2 vol.]. – Moscow, ONIKS 21 vek Publ., Mir i obrazovanie Publ., 2002. – Vol. 2. – 912 p.
- Chernykh, P. Ia. Istoriko-etimologicheskii slovar' sovremennogo russkogo iazyka: in 2 vol. [Historical and Etymological Dictionary of the Modern Russian Language]. – Moscow, Russkii iazyk Media Publ., 2007. – Vol. 1. – 621 p. – Vol. 2. – 559 p.
- Shanskii, N. M., Ivanov, V. V., Shanskaia, T. V. Kratkii etimologicheskii slovar' russkogo iazyka : posobie dlia uchitelia [Brief Etymological Dictionary of the Russian Language: a Teacher's Manual]. – Moscow, Prosveshchenie Publ., 1975. – 543 p.
- Böhtlingk, О. Sanskrit-Wörterbuch. Bd. I–VII. Kürzerer Fassung. – Delhi, Motilal Bana-Rasidass Publ., 1998.
作者简介
Denis Denisov
Samara State Transport University
编辑信件的主要联系方式.
Email: denisansk@gmail.com
PhD in Culture Studies, Associate Professor of the Department of Linguistics
俄罗斯联邦, Samara参考
- Aspekty sanskritsko-slavianskoi etimologii na primere russkogo iazyka: tematicheskie gruppy: monografiia [Aspects of Sanskrit-Slavic etymology on the example of the Russian language: thematic groups: monograph] /Ed. by D. V. Denisov. – Samara, Slovo Publ., 2019. – 352 p.
- Vladyshevskaya, T. F. Istoki russkogo muzykal'nogo tvorchestva. Pesnopeniia pervym russkim sviatym Kh–KhI vv. [Origins of Russian musical creativity. Chants by the first Russian saints X–XI centuries] // Teoriia i istoriia iskusstva. – Vypusk ¾. – 2022. – S. 293–318.
- Guseinova, Z. M. Terminologicheskaia sistema russkikh muzykal'no-teoreticheskikh rukovodstv XVII veka [Terminological system in Russian music theory manuals of 17th century] // Terms, concepts and categories in musicology. IV International Congress of the Society for Theory of Music Kazan, October 2–5, 2019. Congress proceedings. – Kazan: Kazan State Conservatoire, 2021. – Pp. 169–179.
- Deva, B. Chaitanya. Indiyskaya muzyka [Indian Music]. – Moscow, Muzyka Publ., 1980. – 207 p.
- Denisov, D. V. K voprosu ob otrazhenii realii ural'skogo regiona v drevneindiiskom epose «Makhaabkhaarata» [On the issue of reflecting the realities of the Ural region in the ancient Indian epic "Mahaabhaara-ta"] // Izvestiya of the Samara Science Centre of the Russian Academy of Sciences. Social, Humanitarian, Biomedical Sciences. – 2020. – Vol. 22. – № 73.– Pp. 77–86. doi: 10.37313/2413-9645-2020-22-73-77-86.
- Pavlushkov, A. R. Russkaia pravoslavnaia tserkov' i skomoroshestvo: genezis bor'by i kompromissa [Russian Orthodox Church and buffoonery: the genesis of struggle and compromise] // All-Russian scientific and practical journal of studies in social sciences and humanities. – 2022. – No. 4 (7). – Pp. 44-52.
- Trubachev, O. N. Indoarica v Severnom Prichernomor'e [Designations of ancient Russian musical instruments in the light of Sanskrit etymology]. – Moscow: Nauka Publ., 1999. – 320 p.
补充文件