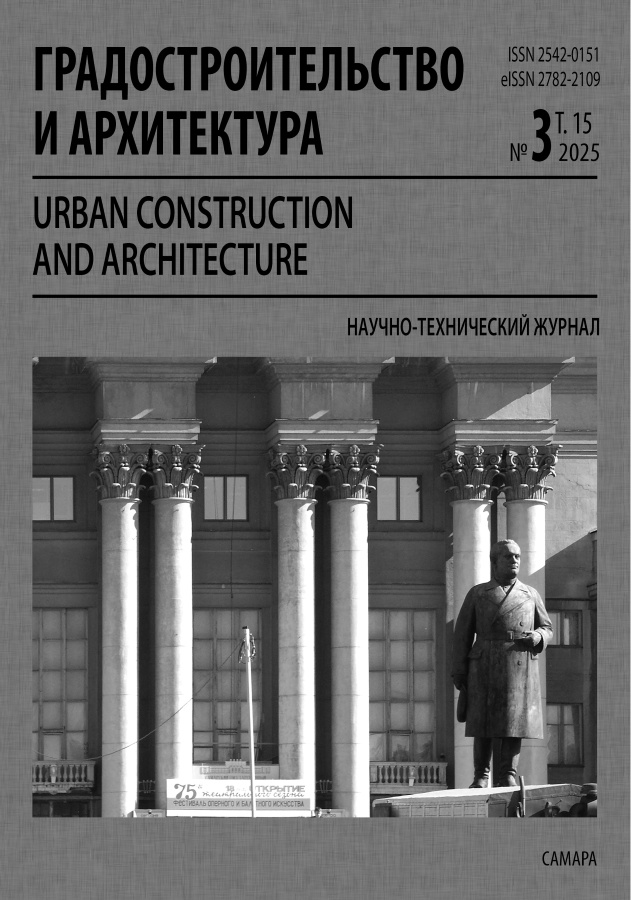Научное наследие архитектора-градостроителя В.Ф. Назарова (1932‒2015): идеи и предложения
- Авторы: Вайтенс А.Г.1
-
Учреждения:
- Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет
- Выпуск: Том 15, № 3 (2025)
- Страницы: 93-104
- Раздел: ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ АРХИТЕКТУРЫ, РЕСТАВРАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
- URL: https://journals.eco-vector.com/2542-0151/article/view/689351
- DOI: https://doi.org/10.17673/Vestnik.2025.03.12
- ID: 689351
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Статья посвящена научному наследию крупного ленинградского и петербургского архитектора-градостроителя В.Ф.Назарова (1932–2015). С его деятельностью связана разработка Генеральных планов Ленинграда 1966 г. и Ленинграда и Ленинградской области 1987–2005 гг. В начале 2000-х гг. В.Ф. Назаров возглавил коллектив создателей Генерального плана развития Санкт-Петербурга 2005–2025 гг. Цель статьи – раскрытие таких сторон его научной деятельности, как определение существа и масштабов градостроительства, управленческих и содержательных понятий «город» и «агломерация», целей градостроительного планирования, задач сохранения и развития архитектурно-градостроительного наследия Ленинграда – Санкт-Петербурга. Эти научные направления были раскрыты в его статьях и выступлениях в 1970 ‒ 2000-х гг.
Полный текст
НАЗАРОВ Валентин Федорович
Валентин Федорович Назаров – Народный архитектор России, академик Российской Академии Архитектуры и строительных наук (РААСН), один из авторов Генерального плана Ленинграда 1966 г., Генерального плана Ленинграда и Ленинградской области 1987–2005 гг. и автор Генерального плана Санкт-Петербурга 2005–2025 гг., известен как выдающийся практик, руководитель авторских коллективов Первой мастерской института ЛенНИИпроект, позднее Петербургского НИПИграда, где эти градостроительные документы разрабатывались (рис. 1‒4). Гораздо менее он известен как теоретик, а педагогом он, к сожалению, не был. Этот пробел в значительной мере восполнен выходом в свет в 2024 г. монографии: «Валентин Назаров. Записки питерского урбаниста». Усилиями архитектора П.Н. Никонова, долгое время работавшего с В.Ф. Назаровым, и экономгеографа Б.И. Зеленова удалось собрать высказывания и публикации Валентина Федоровича Назарова в перечень профессиональных тем, составивших собственно Записки, и опубликовать их в монографии.
Рис. 1. Генплан развития Ленинграда, 1966 г.
Fig. 1. General plan for the development of Leningrad, 1966
Рис. 2. Генплан развития Ленинграда и Ленинградской области 1987–2005 гг.
Fig. 2. General plan for the development of Leningrad and the Leningrad region 1987‒2005
Рис. 3. Генплан развития Санкт-Петербурга, 2005–2025 гг.
Fig. 3. General Development Plan of St. Petersburg, 2005‒2025
Рис. 4. Схема охранного зонирования центра Ленинграда (1987). Красным цветом выделена Объединенная охранная зона, синим и зеленым цветами выделены зоны регулирования застройки
Fig. 4. Security zoning scheme of the center of Leningrad (1987). The United Security Zone is highlighted in red, the development control zones are highlighted in blue and green
К числу этих тем были отнесены:
- В.Ф. Назаров о существе и масштабах деятельности градостроителя.
- Рассуждения В.Ф. Назарова по поводу Санкт-Петербургской агломерации.
- В.Ф. Назаров об управленческом и содержательном понятиях «город».
- Идеи В.Ф. Назарова по развитию центра Ленинграда (совм. с Б.В. Николащенко) (конец 1980-х).
- Идеи В.Ф. Назарова о планировочных направлениях – укрупненных структурных элементах системы расселения Ленинграда и их использовании при разработке Технико-экономических основ (ТЭО) Генплана развития Ленинграда и Ленинградской области (середина 1980-х).
- Мысли В.Ф. Назарова о потенциале развития Санкт-Петербурга (идеи «рентного эффекта» и «потенциала места»).
- Идеи В.Ф. Назарова о необходимости взаимодействия и взаимодополнения и корреляции пространственного планирования и социально-экономического планирования.
- В.Ф. Назаров о существе и масштабах деятельности градостроителя
В современной архитектуре до сих пор сохраняется ряд не до конца сформулированных тем, в том числе и важных определений. К их числу относятся определения архитектуры и градостроительства как профессий и видов деятельности. В.Ф. Назаров в первой своей лекции определял архитектуру как искусство формирования пространства жизнедеятельности людей [1, c. 9]. Определяя предмет деятельности архитектора как формирование пространства, он определял функцию архитектора и как умение оперировать пространством.
В профессии архитектора Назаров выделял две исторически сложившиеся профессиональные группы: архитекторы-градостроители и архитекторы- объемщики. Он справедливо отмечал, что если архитектор-объемщик занимается пространством зданий, то архитектор-градостроитель занимается пространствами за пределами зданий – между зданиями, формированием пространств улицы, двора, сада, используя при этом здания, сооружения, а также деревья и элементы природных ландшафтов как ориентиры и границы.
По мысли Назарова, в пространстве градостроитель определяет его границы и функциональное назначение, дает предложения по его юридическому статусу и физической форме [1, c. 9].
Очень интересными и важными являются идеи В.Ф. Назарова о масштабах деятельности архитектора-объемщика и архитектора-градостроителя. Он справедливо считал, что если архитектор занимается объемным проектированием, то его размерный диапазон – от метра (деталь) до километра (дом, комплекс домов), не более. Градостроительные объекты охватываются диапазоном от 100 м до 100 км [1, c. 10]. В градостроительный уровень разработки входит и уровень застройки – это масштаб квартала, района и поселка. В связи с этим мысль Назарова можно уточнить и дополнить, что диапазон уровня застройки может быть от 500 м до 5 км, в зависимости от типологии этого уровня. Далее, по его мнению, начинается сфера территориального планирования, где архитектурных задач по существу нет. По мнению Назарова, деятельность по территориальному планированию – это задача не для архитекторов, а для географов и соответствующего министерства – Министерства окружающей среды [1, с. 10].
Он справедливо считал, что деятельность архитектора имеет смысл и оправдана в том случае, когда объект можно увидеть и прочувствовать. Пусть даже в движении. По его мнению, деятельность архитектора заканчивается там, где объект необозрим.
Интересны его мысли о различии профессий архитектора и градостроителя. Дело в том, что В.Ф. Назаров в 1980-х гг. пытался организовать в Ленинграде Союз урбанистов, наряду с существовавшим с начала 1930-х Союзом архитекторов. Следует согласиться с Назаровым в том, что градостроительство – это не профессия. Градостроительство – это сфера деятельности, где участвует большое количество специалистов (транспортников, экологов, экономистов, социологов), возложивших на себя работу по организации пространства жизнедеятельности человека. Когда эти специалисты переориентировали свою специальность на трансформацию пространства, они стали градостроителями-транспортниками, градостроителями-социологами, градостроителями-экологами, архитекторами-градостроителями и т. д. [1, c. 12]. По его мнению, предлагаемый Союз урбанистов – мог быть содружеством специалистов, объединившихся для служения городу (в частности Ленинграду) или другому градостроительному объекту. А Союз архитекторов объединяет людей одной профессии. Назаров пытался разделить понятия Профессия и Деятельность по масштабу и участию специалистов. Деятельность архитектора также основана на участии многих специалистов (инженеров), но градостроительство как вид деятельности предусматривает участие гораздо большего количества самых разных специалистов (транспортников, социологов, экологов, инженеров). В результате Союз урбанистов в Ленинграде создан не был, а архитекторы-градостроители вошли в Ленинградское, позднее Санкт-Петербургское Отделение Союза архитекторов в качестве отдельной секции.
В.Ф. Назаров в этой лекции указал на такие важные особенности градостроительной деятельности, как повышенная степень социальной ответственности за принятые решения, исключающая работу по частному заказу и необходимость получения общественного согласия по намечаемым результатам [1, с. 13]. Все это в настоящее время практически отсутствует, так же как и градостроительные законы, обязательные к исполнению, и следящие за этим государственные структуры. Деятельность Союзов архитекторов в сфере градостроительства в Санкт-Петербурге и в России в целом не прослеживается.
В продолжение темы «Профессия архитектора в градостроительстве» В.Ф. Назаров отмечал, что в деятельности, которая в настоящее время называется «градостроительство», архитектор не нужен. В связи с исчезновением комплексного подхода города начинают проектировать топографы, землеустроители, транспортники, энергетики [1, c. 16]. Он отмечал отрицательную тенденцию, что градостроительство постепенно из сферы трех измерений переходит в сферу двух измерений, т. е. теряет свою пространственную сущность, и потому землемеры втягивают его в сферу двух измерений. В то же время он постоянно подчеркивал, что за архитектурой остается одна и самая главная задача – формирование пространства и умение отделить одно пространство от другого, или, наоборот, объединить одно пространство с другим, или сделать пространственные ритмы [1, c. 16].
Очень важными являются мысли ученого о масштабах архитектурного и градостроительного проектирования. На уровне объекта, основным масштабом является масштаб 1:100, на уровне детали – от 1:5 до 1:100. В этом масштабе все пустоты разглядеть нереально, поэтому градостроительство начинается с масштаба 1:200, а основными масштабами в градостроительстве являются масштабы 1:500 и 1:2000 [1, c. 17]. Говоря о более мелких масштабах, Назаров приходит к выводу, что задачи объединения градостроительных систем, конурбаций, районирования России – задачи управления территориальным развитием – задачи не архитектурные, это другие задачи, в основном географические. По его мнению, деятельность архитектора-градостроителя начинается там, где существует пустое пространство, а заканчивается – на уровне обозримой территории [1, c. 18].
Отдельными являются мысли Назарова о подготовке архитекторов-градостроителей и о том, какие следует для этого читать лекции. Деятельность градостроителя, по мнению В.Ф. Назарова, это деятельность по пространственному планированию территорий. Пространственному планированию никто не учит, а оно связано с экологией, с социальными вопросами, с культурными, ландшафтными, правовыми, землеустроительными вопросами [1, c. 170].
В деятельность по пространственному планированию включается экология, транспорт, социология, геология: то есть природный комплекс ‒ весь, социальный комплекс ‒ весь, экономический комплекс – весь, культурный комплекс – весь [1, с. 18]. Таких учебных заведений нет. Через данный раздел проходит сквозная мысль, что градостроительство не является профессией, а является сферой деятельности.
В разделе монографии «Проблема топологического недостатка Санкт-Петербурга» В.Ф. Назаров настаивал, что профессия градостроителя должна быть социально ориентированной. Профессия градостроителя, по его мнению, должна защищать интересы каждой личности. Тем не менее он отмечал, что эта профессия уничтожается. Во-первых, так как она еще не окрепла, не встала на ноги у нас в России, так как у нас не было собственности. Во-вторых, потому, что хозяин сегодняшнего дня – «рынок» ‒ уничтожает у нас все, что имеет социальный характер [1, c. 171]. Эти тенденции сохраняются и в настоящее время.
Очень важным представляется суждение Назарова, что город является самооранизующейся системой и градостроитель в своей деятельности не должен ей навредить. Иными словами, делай проекты так, чтобы не навредить [1, c. 26]. Ученый настаивает на социальной ответственности градостроителя за принимаемые решения. По его мнению, градостроительство является междисциплинарной деятельностью, в которой участвуют представители разных профессий, но все они объединены вокруг одного объекта деятельности – города и для тех кто в городе живет, т. е. «наполнения» города, социума [1, c. 26].
В отдельном разделе монографии В.Ф. Назаров рассмотрел тему управления пространственным развитием территорий населенных пунктов. По его мнению, самое главное, что определяет пространственный объект, – это его границы. При этом он выделяет границы сущностные – границы континентов, городов, лесных массивов, зон доступности и юридические – границы землевладений, границы действий той или иной администрации, границы государств [1, c. 29]. По существующей практике, предпочтение отдают границам юридическим, что, по мнению Назарова, не всегда правильно.
В советские времена обком КПСС был реальным хозяином Ленинграда и Ленинградской области, так как это был единый объект управления. Секретари обкома произвольно меняли границы города. При руководстве Г.В. Романова (1970‒1983) в управлении пространственным развитием был сделан упор на создание плана социально-экономического развития города и области – документа глобального планирования. Результатом стали перебои в снабжении Ленинграда товарами повседневного спроса.
При следующем секретаре обкома – Л.Н. Зайкове идея глобального планирования получила дальнейшее развитие. Было решено совместить план социально-экономического развития с Генеральным планом Ленинграда и разработать единый Генплан для Ленинграда и Ленинградской области. При разработке этого документа использовались понятия «система расселения» и «агломерация» [1, c. 33]. При разработке этого Генплана были использованы новые понятия ‒ «планировочные направления» и «зона формирующего влияния города», предложенные и обоснованные В.Ф. Назаровым. Ввиду важности этих понятий для управления территориальным развитием, они будут рассмотрены ниже.
Для управления территориальным развитием Назаров справедливо считал необходимым составление перечня объектов градостроительной деятельности различных уровней, формирование их определений и фиксацию этого перечня в Градостроительном Кодексе [1, c. 36].
Представляются важными точки зрения Назарова на правовое значение Генпланов и Правил застройки. По его мнению, Генплан не должен быть законом, а как закон ‒ утверждать Правила застройки. Процесс управления развитием города, по его мнению, должен превратиться в постоянное внесение частных изменений. Разработка нового Генерального плана и Правил застройки будет необходима только в случае смены стратегии развития города [1, c. 37].
- Рассуждения В.Ф. Назарова по поводу Санкт-Петербургской агломерации [1, c. 306–308]
Санкт-Петербург – это субъект Федерации. Конституционно за ним закреплено понятие «город». Однако в его состав входят муниципальные образования – города Ломоносов, Кронштадт, Пушкин, Колпино, Сестрорецк, Зеленогорск. Значит Петербург – это нечто большее, чем город. В то же время это и не агломерация, потому что значительная часть Санкт-Петербурга находится на территории другого субъекта – Ленинградской области. Это города – Гатчина, Петрокрепость, Всеволожск и другие. Таким образом, Санкт-Петербург ‒ это и не город, и не агломерация, а система управления не соответствует объективно существующей градостроительной сущности.
Формирование Санкт-Петербургской агломерации происходило и в советское время. В 1970-х гг. в Ленинградскую агломерацию объективно входили: город Ленинград (его границы были меньше современных) и пригороды, административно подчиненные Ленинграду: Петродворец, Кронштадт и т. д. Количество этих пригородов, по указанию партийных областных властей, постепенно увеличивалось. В административное подчинение Ленинграда включались новые поселения: Ломоносов, Красное Село, пос. Хвойное. И только после распада СССР и появления новой Конституции России Петербург объявлен городом в его современных границах.
О границах Петербургской агломерации можно рассуждать по следующим признакам: города и поселения, которые возникли после Петербурга, создавались и развивались под его влиянием – это сжатая агломерация. Ее границы на востоке включают Петрокрепость, на юге – Гатчину, на западе – форт Красная горка, на севере – форт Ино, Черная речка, Васкелово, Матокса, на востоке – берег Ладожского озера.
Если взять расширенную агломерацию, то она объективно включает пояс городов, существовавших до Петербурга: Луга, Ямбург (Кингисепп), Выборг, Кексгольм (Приозерск), Старая Ладога, Новая Ладога, Любань. Учитывая развитие современной инфраструктуры и новых городов, возникших в советский период: Волхов, Кириши, Сосновый Бор, Усть Луга и Приморск, ‒ по мнению Назарова, было бы правильнее рассматривать Санкт-Петербургскую агломерацию в ее расширенных границах. В эти границы входят и все коллективные садоводства.
Граница агломерации в современных условиях – как граница целостности – определяется не только транспортными условиями, обеспечивающими миграционные потоки, но в значительной степени развитостью информационных и телекоммуникационных систем. В настоящее время Санкт-Петербургская агломерация достаточно полно оснащена всеми элементами инфраструктуры, необходимыми для полноценного функционирования.
Петербург вступил в фазу урбанизации, пройденную в послевоенный период многими мегаполисами мира. Главные особенности этой фазы – деконцентрация производительных сил; изменения в структуре занятости в пользу торговли, общественного питания, транспорта и связи и сферы услуг за счет промышленности, науки и подготовки кадров; рост населения преимущественно за пределами Большого Петербурга. Эти процессы будут способствовать развитию промышленных и культурных центров в пригородной зоне и потребуют перейти к более разумному использованию природных ресурсов, в том числе территорий для промышленных зон.
- В.Ф. Назаров об управленческом и содержательном понятиях «город»
Понятию «город и его границы» был посвящен один из разделов научного наследия В.Ф. Назарова. Он проводил различия между понятиями «город» и «агломерация», при этом границы города были в центра его рассуждений. Агломерацию ученый справедливо рассматривал как территорию, в пределах которой человек может реализовать свои основные функции жизнедеятельности: найти жилье, работу, отдохнуть, удовлетворить культурные потребности. В пределах города, по его мнению, такое сделать невозможно [1, c. 128], и это характерно для Санкт-Петербурга. Он считал, что территория, в которой могут быть реализованы основные жизненные потребности петербуржцев, выходит за установленные административные границы города.
Границы города он рассматривал как содержательные и административные, и одни в реальности не совпадают с другими.
Понятие «город» стало топологическим или административным, но не содержательным. По его мнению, агломерация имеет содержательный смысл. Ее можно очертить, понять и вычислить [1, c. 128].
Рассматривать градостроительные структуры, по его мнению, можно по двум направлениям – содержательному и управленческому. Агломерация никем не управляется. Ее границы не совпадают ни с административными границами города, ни административными границами области. Так что вопросы управления агломерациями Назаров оставлял открытыми…
Применительно к Санкт-Петербургу, он рассматривал город как «плотное тело агломерации», компактное. Вся агломерация занимает примерно территорию с радиусом 60 км, т. е. в пределах этой территории можно размещать второе жилище, для отдыха. Может быть, побольше чем 60 км, со временем этот радиус может увеличиться (скорости, качество дорог) [1, c. 130]. По его наблюдению, большинство агломераций имеет линейную структуру, в частности вдоль рек (Пермь, Волгоград). Линейные агломерации могут быть многоцентровыми. Дальнейший рост многоцентровых агломераций приводит к появлению крупнейших структур – конурбаций [1, c. 130].
Мысли Назарова по классификации систем расселения не утратили своего значения и до настоящего времени.
В 2001 г. В.Ф. Назаровым по заданию Научно-исследовательского института теории архитектуры и градостроительства (НИИТАГ) была выполнена научно исследовательская разработка: «Рекомендации по определению границ и о порядке градостроительного регулирования в зонах взаимных интересов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в том числе в Пригородной зоне». Одним из результатов этой работы предполагалась подготовка «Соглашения между Администрацией Санкт-Петербурга и Правительством Ленинградской области по осуществлению особого регулирования градостроительной деятельности в территориальных зонах взаимных интересов Санкт-Петербурга и Ленинградской области» [2, c. 4]. Предполагалось, что это Соглашение будет подписано тогдашними Председателем Комитета по архитектуре и градостроительству Санкт-Петербурга О.А. Харченко и Председателем Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области А.Ц. Дычинским.
Соглашением была определена необходимость первоочередной разработки «Консолидированной схемы градостроительного планирования Санкт-Петербурга и Ленинградской области» как основного градостроительного документа, предназначенного для взаимного согласования интересов города и области при осуществлении градостроительной деятельности. Под руководством В.Ф. Назарова была подготовлена Программа-задание на разработку «Консолидированной схемы градостроительного планирования Санкт-Петербурга и Ленинградской области» [2, c. 5].
Оглавление данной работы свидетельствует о научно-обоснованном подходе при подготовке этого документа [2, c. 3]. В нем были предложены Методические принципы выявления и согласования интересов города и области. Далее предлагался порядок особого регулирования градостроительной деятельности в территориальных зонах совместных интересов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Затем анализировались возможности использования имевшихся градостроительных и нормативно-правовых документов федерального, городского и областного уровней при осуществлении пространственного развития города и области.
Далее были сформулированы предложения по разработке совместных нормативно-правовых документов, градостроительной документации и единой информационной системы для совместного пространственного развития. На основе этих предложений был составлен проект Программы-задания на разработку «Консолидированной схемы градостроительного планирования Санкт-Петербурга и Ленинградской области» [2, c. 5].
Какова была судьба этой научно-исследовательской работы В.Ф. Назарова и была ли она реализована? Из-за различий интересов руководителей города и области на перспективы и результаты экономического и пространственного развития этих территориальных объектов и использования территорий выявить, а тем более согласовать эти интересы в те годы не удалось. Тем не менее эта научно-исследовательская работа имела несомненный методический интерес и может быть использована в современных условиях. Тем более что Санкт-Петербург и Ленинградская область исторически и объективно являются единой агломерацией и необходимо определить ее границы и порядок совместного землепользования и градостроительного регулирования.
- Идеи В.Ф. Назарова по развитию центра Ленинграда (совместно с Б.В. Николащенко) (конец 1980-х)
Также отдельной темой в научном наследии В.Ф. Назарова представлена История формирования объединенной охраной зоны в Санкт-Петербурге. Он писал о том, что впервые термины «список памятников», «охранная зона» и «объединенная охранная зона» были предложены сотрудником ГИОПа Б.А. Розадеевым (1909–1984) в начале 1980-х гг. Им были определены территории памятников, и он составлял предложения по их охранным зонам. Розадеев считал, что список памятников должен быть ограничен, чтобы хватило сил и средств их содержать [1, c. 94]. Когда Розадеев увидел, что каждый памятник был очерчен и границы начинали «слипаться» друг с другом, он предложил идею объединенной охранной зоны.
Архитектор Борис Васильевич Николащенко с конца 1950-х работал в Первой мастерской Ленпроекта под руководством В.Ф. Назарова. Его подход к масштабу охранных мероприятий был иной, чем у Б.А. Розадеева. Он считал, что охранную зону следует расширить и вообще ‒ сохранять все что есть: и город, и архитектуру, и транспортную сеть [1, c. 96]. Охранная идеология стала превалирующей: идеология не развития, а охраны. Б.В. Николащенко считал, что без сохранения развивать город нельзя. Им была предложена идеология – «развитие через сохранение», которая и получила дальнейшее развитие.
По этой идеологии в Первой мастерской был создан Проект благоустройства центра Ленинграда и развития транспортных и инженерных систем центра как приложение к Генплану 1985–2005 гг. И когда его утверждали, то центр был сделан по идеологии Б.В. Николащенко – с максимальной зоной, и она была утверждена решением ЦК КПСС одновременно с Генпланом [1, c. 96].
Тем не менее идея объединенной охранной зоны на практике подверглась корректуре. Выяснилось, что для того чтобы приводить центр в порядок, надо заниматься комплексной реконструкцией в наиболее проблемных территориях охранной зоны. Так появилось понятие «лакуны» ‒ территории с большими строительными возможностями и меньшими регламентами. В 1990-х в объединенной охранной зоне было выделено 150 лакун для строительства в режиме Зон регулирования застройки (ЗРЗ). Эти охранные зоны действовали более 20 лет , и за это время более 90 % участков лакун было застроено современными зданиями, иногда с высоким качеством архитектуры [1, c. 98]. Позднее, в 1988 г., объединенная охранная зона была утверждена ЮНЕСКО и получила международное признание.
- Идеи В.Ф. Назарова о планировочных направлениях – укрупненных структурных элементах системы расселения Ленинграда и их использовании при разработке Технико-экономических основ (ТЭО) Генплана развития Ленинграда и Ленинградской области (середина 1980-х)
Идеи этих планировочных направлений были впервые выдвинуты В.Ф. Назаровым в конце 1970-х гг. при разработке проекта планировки Северо-Западного планировочного района Ленинграда. По его предложению, в этом проекте каждое планировочное направление, как линейная структура, которая формировалась вдоль целого пучка транспортных коммуникаций, имела свой вход в центр города и выход в Пригородную зону и вмещала в свои пределы все необходимые функциональные элементы – жилище, места приложения труда и зоны отдыха [1, c. 188]. По мнению Назарова, функциональным, планировочным и транспортным стержнями этих проектируемых направлений являлась городская магистраль. На ней должны были располагаться основные учреждения обслуживания, на ней предлагалось формирование наиболее значительных градостроительных ансамблей. Применительно к Северо-Западу предлагалось три планировочных направления, которые должны были пересекаться в одной точке, где было возможно создание крупного общественного центра данного планировочного района.
Эта прогрессивная идея была поддержана главным архитектором Ленинграда Г.Н. Булдаковым и использована при разработке Генплана развития Ленинграда и Ленинградской области в середине 1980-х гг.
При разработке Технико-экономических основ этого Генплана было выделено несколько территориальных зон, располагающихся поясами вокруг общего центра как в самом Ленинграде, так и за его пределами. Их специфика позволила бы сформировать в каждом из них свою, особенную, градостроительную политику [1, c. 196‒198].
В качестве первого пояса предлагался исторический центр Ленинграда в сочетании со сложившимся промышленно-селитебным поясом. На этих территориях предлагались реконструктивные мероприятия разных масштабов.
Следующим поясом предлагались новые жилые районы города разных периодов застройки (1950–1980-х).
Третьим поясом ‒ территории городов, административно подчиненных Ленинграду (Красное село, Всеволожск).
Четвертым поясом ‒ территории границы Ленинградской системы расселения, расположенной в пределах полуторачасовой удаленности от центра (Гатчина, Тосно, Кировск).
Далее проектировалась «буферная зона», зона нетронутой природы, за которой располагались локальные системы расселения, группирующиеся вокруг Кингисеппа, Сланцев, Луги, Волхова, Тихвина, Подпорожья, Выборга и Приозерска.
В этой работе поясное зонирование дополнялось радиальными планировочными направлениями в сторону Выборга, Приозерска, Волхова, Любани, Гатчины, республик Прибалтики. По существу предлагались не только существенно развитые коммуникации, но и тяготеющие к ним города, поселки, зоны отдыха, производственные центры. В целом сочетание поясных зон и радиальных направлений мог составить костяк планировочной организации всей территории области, включая и Ленинград [1, c. 199].
ТЭО Генерального плана Ленинграда и Ленинградской области, разработанные с использованием планировочных направлений, явились редким примером проектирования территории агломерации (хотя это слово в монографии В.Ф. Назарова не упоминается) – обширной и динамичной градостроительной структуры, расположенной в нескольких административно-территориальных единицах. Нужда в такой работе по Петербургу и Ленинградской области сохраняется и сегодня [1, c. 199].
Таким образом, предложенная В.Ф. Назаровым и его коллегами инженерами-транспортниками Первой мастерской идея планировочных направлений может быть использована в градостроительном планировании и проектировании и в настоящее время.
- Мысли В.Ф. Назарова о потенциале развития Санкт-Петербурга
В.Ф. Назаров глубоко изучал физико-географическую ситуацию Ленинграда – Санкт-Петербурга. На основе этого изучения он приходил к невеселому выводу о том, что у города есть два постоянных врага – это география и климат и в смысле развития городу больше ничего не светит [1, c. 114]. В то же время он справедливо считал, что у Санкт-Петербурга имеется социокультурный потенциал, который нельзя измерить деньгами. Ссылаясь на мнение известного экономиста проф. И. Сыроежина, Назаров считал, что основная задача крупнейшего города ‒ это производство не машин, не электроники, а квалификации. Умение людей достойно жить и творить в современном мире – вот главное, что должен производить Санкт-Петербург [1, c. 112].
Рассматривая составляющие социокультурного потенциала, Назаров выделял самое главное – жителей города. Он считал, что город своим социокультурным полем формирует особый тип жителей-петербуржцев. По его мнению, социокультурное поле формируется архитектурой исторической части города, доступностью лучших образцов мировой культуры в музеях, библиотеках, архивах, театрах, концертных залах. Возможностями получать высшее образование по всем сферам деятельности, возможностями общения с людьми самых разных профессий и уровней знаний [1, c. 113]. Следует согласиться с мнением ученого, что исторически сложившийся облик Петербурга является важнейшим элементом созидательного потенциала города. И прежде всего, самого главного его достояния – петербуржца [1, c. 114]. Однако с этим мнением можно согласиться лишь отчасти.
В настоящее время его социокультурный потенциал падает, хотя город в целом становится богаче. Причин этому много. Это и особенности общественно-политической жизни России в настоящее время, и тотальная цифровизация, компьютеризация и финансовая недоступность получения высшего образования, музеев и театров, и растущее отчуждение людей.
К экологическому потенциалу развития Петербурга В.Ф. Назаров отнес гигантские запасы пресной воды. По его мнению, запасов Онежского, Ладожского озер и бассейна Невы хватило бы не только на нужды города, но в перспективе и на продажу [1, c. 115]. Однако он указывал на опасность эвтрофикации Финского залива – биологического загрязнения, размножения и гниения водорослей. Это может повлиять и на загрязнение Невы. Если мы запачкаем нашу воду – отмечал он, мы утратим нашу природную ценность [1, c. 115].
Что касается преимуществ географического положения Петербурга, то они, по его мнению, в будущем будут зависеть от положения транспортного коридора Китай – Сибирь – Европа. Но когда начался развал СССР, на ситуации с внешним транспортом остро сказалось «отключение» прибалтийских портов, транзиты изменились и пошли южнее Петербурга [1, c. 116]. Назаров справедливо считал, что руководству города надо очень внимательно следить за конъюнктурой колебания транспортной ветки Сибирь-Европа – то севернее, то южнее. От этого будет очень зависеть судьба Петербурга. Надо понимать, считал он, что чем севернее поднимется ветка, связывающая Азию с Европой, тем больше от этой ветки Петербург будет иметь. А если она опустится ниже, то мы окажемся в стороне от всех будущих цивилизационных событий и будем потихоньку деградировать [1, c. 116].
В этих высказываниях, с которыми можно во многом согласиться, проявлялись прогностические способности В.Ф. Назарова, основанные на глубоком понимании природных, географических и социальных особенностей Ленинграда – Петербурга.
- Идеи В.Ф. Назарова о необходимости взаимодействия и взаимодополнения и корреляции пространственного планирования и социально-экономического планирования
В начале лекции, посвященной этим вопросам, В.Ф. Назаров рассматривал территориальное планирование как деятельность, которая связана с очень многим: и с экологией, и с социологией, и с землеустройством, и с системой управления. И таких «и», считал он, может быть еще много, и на все «и» надо дать ответ [1, c. 80]. Он задавался вопросом, можно ли разрабатывать Генеральный план без четко поставленной задачи социально-экономического развития? Можно ли заниматься территориальным планированием, не зная социально-экономической основы?
В связи с этим он вспоминал разработку Генерального плана 1966 г., когда никакого плана социально-экономического развития не было и все параметры градостроители вычисляли самостоятельно [1, c. 82]. В то время существовала директива партии и Правительства ‒ крупные города не развивать. Существовала концепция идеального города на 100 тыс. человек, и все крупные мегаполисы типа Москвы и Ленинграда надо всячески ограничивать в росте населения и территории. Это было социально-экономической задачей [1, c. 82].
В случае разработки Генплана Ленинграда 1966 г. численность населения была определена Председателем Совета министров А.Н. Косыгиным – 3 млн. 500 тыс. человек. А отсюда и все остальное – количество школ, детских учреждений, больниц, потребностей в энергоресурсах, транспорте и т. д. Так, совершенно случайным образом в то время делались эти цифры, которые представляли экономическое развитие [1, c. 83].
Позднее, детальные планы социально-экономического развития, основанные на централизованном планировании снизу доверху и наоборот, стали обязательными для разработки Генеральных планов. На основе этих планов для Ленинграда и области был создан Генеральный план 1986 – 2005 гг. [1, c. 84]. В.Ф. Назаров считал, что на 20 лет предугадать точное поведение такой сложной социально-экономической системы, как город, невозможно. Габариты примерно определить можно [1, c. 84].
По мнению Назарова, пространственное и социально-экономическое планирование очень связаны между собой, они должны поддерживать, укреплять и корректировать друг друга. Социально-экономический план, т. е. цифровой план, должен корректироваться в зависимости от пространственной организации и наоборот [1, c. 84‒85].
Вместо планов социально-экономического развития В.Ф. Назаров предложил понятия «рентного эффекта» и «потенциала места». Исследуя потенциал места (что на этой территории можно вырастить и какой урожай снять), можно определить и численность населения, и размер продукции, который может быть получен. Исходя из анализа территории, можно вырастить социально-экономическую гипотезу развития безо всяких усилий [1, c. 85]. С помощью Научной части ЛенНИИпроекта В.Ф. Назаров развивал исследование потенциалов территорий и рентных эффектов от тех или иных преобразований.
В середине 1990-х Международный центр социально-экономических исследований (Леонтьевский центр) предложил вместо плана социально-экономического развития при разработке Генплана города использовать целеполагающий документ – Стратегический план развития города [1, c. 86]. В основе этого плана было разработано «Дерево целей». Однако из-за экономической незаинтересованности властей эти предложения и идеи В.Ф. Назарова в территориальном планировании не были использованы.
Интересными являются мысли ученого о разработке Генеральных планов. В 2014 г. появилась необходимость оптимизации утвержденного Генерального плана развития Санкт-Петербурга. У Назарова возникла идея создания нового Генплана. В связи с этим интересны его высказывания по поводу процесса разработки Генплана Петербурга.
«Это серьезная задача – создать новый Генеральный план города, – отмечал он. ‒ Не откорректировать старый, а новый Генеральный план разработать. Идут Генеральные планы, в них вносятся изменения, это налаженный процесс, город умеет этим заниматься. Генеральный план – это постоянно действующий документ непрерывного действия. Это правильно, но на каком-то этапе надо пересмотреть основы: экология, демография, население, экономика…поменять основы схемы, стратегии разработки Генерального плана. Сейчас очень подходящий момент – есть Стратегия. Теперь нужно разобраться с тем, каким должен быть новый Генеральный план. Сначала, на стадии Концепции, здесь могут быть варианты, и после этого делается сам Генеральный план. Весь цикл «Стратегия – Концепция Генерального плана – Генеральный план – Правила землепользования и застройки» составляет пять лет. Это для того, чтобы отработать весь комплект документов, обеспечивающих развитие города. Стратегия сделана. На ее разработку ушел один год, потребуется еще четыре года интенсивной работы, и только тогда мы получим комплект документов, определяющих градостроительное регулирование…Поскольку есть целевая установка – Стратегия, грех не включить сюда все остальное и не разработать в этой цепочке документ территориального планирования, определяющего пространственное развитие Санкт-Петербурга» [1, c. 247‒248]. «Границы и этапы проектирования – это суть работы, – добавлял он. ‒ Этим определяется, что мы будем проектировать в каком составе и в каких границах. Это надо решать на предварительной стадии разработки – в Концепции. Я убежден, что если делать новый Генеральный план в старых границах, – это полная бессмыслица. Мы это видим на примере Москвы. Прирезав большой кусок, они так запутались, что не знают теперь, что с этим делать. Не сформировали, не обосновали прирезку именно этих территорий к Москве, не сделали никакого планировочного исследования по границам московской агломерации, что к ней относится, какие территории испытывают влияние Москвы больше, какие меньше. В результате в Москве строительство жилья будет убывать, а в области прирастать» [1, c. 248]. К сожалению, В.Ф. Назарову не удалось добиться разработки нового Генплана Санкт-Петербурга. В 2015 г. его не стало.
С этого времени разработанный под его руководством Генплан подвергся оптимизации. Затем последовали глобальные события ‒ эпидемия Covid 19, затем с февраля 2022 г. Специальная военная операция на Украине.
Генплан Санкт-Петербурга В.Ф. Назарова был окончательно доработан с учетом новых социальных и экономических условий и утвержден на городском уровне лишь в декабре 2023 г. Реализация этого Генплана рассчитана на 2021‒2030 гг., с перспективой до 2050 г.
Завершая обобщение научного наследия В.Ф. Назарова, следует отметить, что оно не ограничивается «Записками питерского урбаниста» ‒ циклом лекций и бесед с коллективом Петербургского НИПИграда. Это, прежде всего, его программная статья «Этапы становления Большого Ленинграда» (1974 г.) [3], в которой раскрыты идеи, положенные в основу Генеральных планов развития города 1930‒1970-х гг. Не менее интересна его статья «Северо-Запад. В интересах человека, в согласии с природой» (1979 г.), где рассмотрены процессы градостроительного проектирования и застройки этой части Петербурга, которые в настоящее время далеки от завершения [4]. Идеи совместного развития Ленинграда и Ленинградской области были раскрыты В.Ф. Назаровым и Г.Н. Булдаковым в статье «Контуры Генерального плана» (1985 г.). В ней был рассмотрен процесс разработки Генерального плана развития города и области – по существу, агломерации. Большой интерес представляют показанные в данной статье различные варианты развития города – от искусственных островов в Финском заливе до идеи развития города на восток, вдоль берегов Невы. Творчеству Геннадия Никаноровича Булдакова (1924 – 1990) – главного архитектора Ленинграда с 1971 по 1986 гг. посвящена статья В.Ф. Назарова (1999 г.) [5]. Эта статья может стать образцом подобных биографических статей [6, 7].
Изучение научного наследия Валентина Федоровича Назарова может быть интересно и полезно не только студентам архитектурных вузов, но и профессионалам в области архитектуры и градостроительства.
Об авторах
Андрей Георгиевич Вайтенс
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет
Автор, ответственный за переписку.
Email: vaytens@lan.spbgasu.ru
доктор архитектуры, профессор кафедры градостроительства, член Союза архитекторов России, советник РААСН
Россия, 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-ая Красноармейская, 4Список литературы
- Назаров В.Ф. Записки питерского урбаниста / ред. и сост. Б.И. Зеленов. СПб.: Издательско-полиграфическая компания «Коста», 2024. 496 с.
- Назаров В.Ф. НИР НИИТАГ РААСН «Рекомендации по определению границ и порядке градостроительного регулирования в зонах взаимных интересов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в том числе в Пригородной зоне» (2000–2001 гг.).
- Назаров В.Ф. Этапы становления Большого Ленинграда // Строительство и архитектура Ленинграда. 1974. № 12. С. 5‒8.
- Назаров В.Ф. Северо-Запад. В интересах человека, в согласии с природой // Строительство и архитектура Ленинграда. 1979. № 1. С. 10‒21.
- Назаров В.Ф. Геннадий Булдаков (1924‒1990) // Архитекторы об архитекторах. СПб.: ОАО «Иван Федоров», 1999. С. 519‒513.
- Вайтенс А.Г. Александр Иванович Наумов – выдающийся градостроитель Ленинграда: грани творчества (1930–1980-е гг.) // Градостроительство и архитектура. 2022. Т. 12, № 4. С. 85–95. doi: 10.17673/Vestnik.2022.04.11.
- Вайтенс А.Г. Валентин Александрович Каменский (1907−1975): этапы градостроительной деятельности // Градостроительство и архитектура. 2023. Т. 13, № 2. С. 125–132. doi: 10.17673/Vestnik.2023.02.18.
Дополнительные файлы