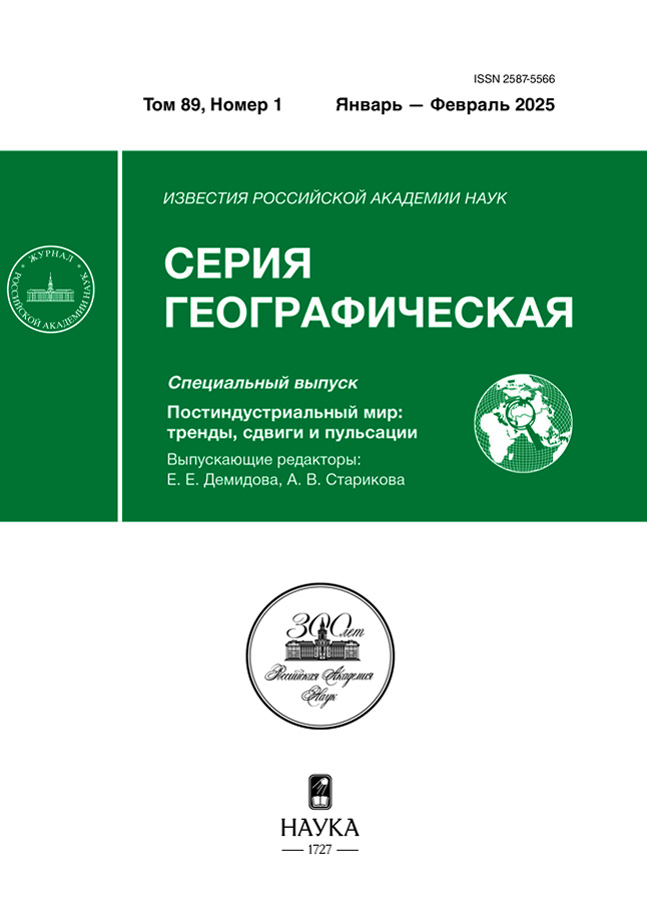Integrated Country Studies in the Post-Industrial World: The View of a Physical Geographer
- Authors: Klimanova О.A.1
-
Affiliations:
- Lomonosov Moscow State University
- Issue: Vol 89, No 1 (2025): СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК: ПОСТИНДУСТРИАЛЬНЫЙ МИР: ТРЕНДЫ, СДВИГИ И ПУЛЬСАЦИИ
- Pages: 76-89
- Section: Articles
- URL: https://journals.eco-vector.com/2587-5566/article/view/683991
- DOI: https://doi.org/10.31857/S2587556625010063
- EDN: https://elibrary.ru/CRYDAH
- ID: 683991
Cite item
Abstract
Integrated country studies in the post-industrial world have faced various methodological, informational, and technological challenges that have necessitated the actualization of their theoretical and methodological foundations. In the article, based on the A.P. Gorkin’s system-structural approach, analysis of theoretical and empirical geo-ecological research, the concept of geo-ecological country studies is substantiated. It is considered to be a modern stage of evolution of physical-geographical country studies in the era of availability of global geospatial data and widespread anthropogenization of landscapes. The subject of geo-ecological country studies is proposed to be territorial structures formed at the mesoscale level as a result of interaction of natural, historical-cultural, socioeconomic and other factors. The article substantiates the special place of the mesoscale level in the system of territorial differentiation of the geographical space, the defining feature of which is proposed to be a clearly expressed synergy of the above factors. At the same time, the assumption about the maximum synergy at the mesoscale level is based, first of all, on the levels of action of factors related to society. Examples of mesoscale geo-ecological systems, their correlation with geographical systems and content from the point of view of country studies are considered, the role of complex geo-ecological zoning in country studies and its characteristic features are defined. On the basis of these considerations and earlier studies, it is suggested that within the framework of geo-ecological country studies landscape should be understood in at least two hypostases. The first of them—cultural landscape—reflects the contribution of historical and cultural factors to the process of transformation of the natural environment, and the second of them—land cover—records the result of human development of the Earth’s surface, visible and measurable by remote sensing methods, which can be used to assess the transformation of the natural environment. Examples of the use of both concepts for studies of different target orientation are given.
Full Text
About the authors
О. A. Klimanova
Lomonosov Moscow State University
Author for correspondence.
Email: oxkl@yandex.ru
Russian Federation, Moscow
References
- Alekseeva N.N., Klimanova O.A., Khazieva E.S. Global land cover databases and their perspectives for present-day landscapes mapping. Izv. Akad. Nauk, Ser. Geogr., 2017, no. 1, pp. 110–123. (In Russ.).
- Baranskii N.N. Regional studies and geography physical and economical. Izv. VGO, 1946, vol. 78, no. 1, pp. 9–24. (In Russ.).
- Barkov A.S. Slovar’-spravochnik po fizicheskoi geografii [Dictionary on Physical Geography]. Moscow, 1958. 330 p.
- Cheboksarov N.N., Cheboksarova I.A. Narody, rasy, kul’tury [Peoples, Races, Cultures]. Moscow: Nauka Publ., 1972. 272 p.
- Dergachyov V.A., Vardomskii L.B. Regionovedenie [Regional Studies]. Moscow: UNITI–DANA Publ., 2010.
- Dobrynin B.F. Methodological foundations of modern physical and geographical regional studies. Vopr. Geogr., 1957, vol. 40. (In Russ.).
- Dobrynin B.F. Fizicheskaya geografiya Zapadnoi Evropy [Physical Geography of Western Europe]. Moscow, 1948.
- Fairclough G., Lambrick G., McNab A. Yesterday’s World, Tomorrow’s Landscape: The English Heritage Historic Landscape Project 1992–1994. London: English Heritage, 1999. 203 p.
- Fetisov A.S. Country studies. In Sotsial’no-ekonomicheskaya geografiya: ponyatiya i terminy [Socioeconomic Geography: Notions and Terms]. Smolensk: Oikumena Publ., 2013, pp. 245–246. (In Russ.).
- Gladkii Yu.N., Chistobaev A.I. Regionovedenie [Regional Studies]. Moscow: Gardariki Publ., 2003.
- Golubev G.N. Geoekologiya [Geoecology]. Moscow: GEOS Publ., 1999.
- Gorbanev V.A. Regional studies, country studies and regional geography. Mezhdun. Nauch.-Issled. Zh., 2023, no. 1. (In Russ.). https://doi.org/10.23670/IRJ.2023.127.137
- Isachenko A.G. Regional studies and geoecology: Wishful thinking and reality. Izv. RGO, 2014, vol. 146, no. 4, pp. 45–58. (In Russ.).
- Kaganskii V.L. The main practices and paradigms of zoning. Reg. Issled., 2003, no. 2, pp. 16–30. (In Russ.).
- Kalutskov V.N. Landshaft v kul’turnoi geografii [Landscape in Cultural Geography]. Moscow: Novyi Khronograf Publ., 2008. 320 p.
- Klimanova O.A. Geoekologicheskoe stranovedenie: Prirodnye i antropogennye faktory formirovaniya regionov [Geoecological Regional Studies: Natural and Anthropogenic Factors of the Formation of Regions]. Moscow: Lenand Publ., 2014. 304 p.
- Klimanova O.A. The Mediterranean: Civilizations and historical and geoecological portraits of regions. In Istoricheskii podkhod v geografii i geoekologii. Materialy VII Mezhdun. nauch.-obrazov. konf. po istoricheskoi geografii [Historical Approach in Geography and Geoecology. Proc. of the 7th Int. Sci. and Educ. Conf. on Historical Geography]. Petrozavodsk: Izd-vo Petr.Gos. Univ., 2023, pp. 240–245. (In Russ.).
- Klimanova O.A., Kolbovskii E.Yu. The use of geoinformation modeling for geo-ecological zoning at the macro-regional level (on the example of Africa). Geodez. Kartogr., 2015, no. 3, pp. 50–56. (In Russ.). https://doi.org/10.22389/0016-7126-2015-897-3
- Klimanova O., Naumov A., Greenfieldt Y., Bardy Prado R., Tretyachenko D. Recent regional trends of land use and land cover transformations in Brazil. Geogr., Environ., Sustain., 2017, vol. 10, no. 4, pp. 98–116.
- Klimanova O.A., Tretyachenko D.A., Alekseeva N.N., Arshinova M.A., Kolbovskii E.Yu. Land cover transformation at a global level during 2001–2012: Mapping and analysis of changes. Geogr. Nat. Resour., 2018, vol. 39, no. 3, pp. 189–196. https://doi.org/10.1134/s1875372818030010
- Kolbovskii E.Yu. Four types of cultural landscape models within the framework of geoinformation modeling: tasks, opportunities, limitations. Nasledie Sovrem., 2022, no. 5, pp. 371–391. (In Russ.). https://doi.org/10.52883/2619-0214-2022-5-4-371-390
- Kolbovskii E.Yu., Petrov L.A. Cultural landscapes of mountains as socio-ecological systems (the case of the mountains of the North Caucasus). Probl. Reg. Ekol., 2024, no. 1, pp. 74–80. (In Russ.).
- Kulakova I.P. Regional studies, cultural studies, historical anthropology, cultural geography: points of contact in the field of studying images of space. In Sovremennye tendentsii razvitiya istoricheskogo kraevedeniya i regional’noi istorii v rossiiskoi i zarubezhnoi istoriografii (1990–2000-e gg.). Sb. tezisov vystuplenii [Modern Trends in the Development of Historical Local Studies and Regional History in Russian and Foreign Historiography (1990–2000-s): Collection of Abstracts]. Moscow: Izd-vo RGGU, 2010. (In Russ.).
- Kul’turnyi landshaft kak ob’’ekt naslediya [Cultural Landscape as a Heritage Site]. Vedenin Yu.A., Kuleshova M.E., Eds. Moscow, St. Peterburg: Inst. Naslediya, Dmitry Bulanin Publ., 2004. 620 p.
- Kuznetsov A.V. The crisis of regional studies in Russia amid the growing demand for knowledge about foreign countries and regions. Kontury Glob. Transform.: Polit., Ekon., Parvo, 2021, vol. 14, no. 6, pp. 6–25. (In Russ.).
- Levin M.G., Cheboksarov N.N. Economic and cultural types and historical and ethnographic areas (statement of the problem). Sovet. Etnogr., 1955, no. 4, pp. 3–17. (In Russ.).
- Makarenko V.V. About the object-subject field of regional studies and its place among other sciences. Sravnit. Polit., 2019, no. 4, pp. 12–33. (In Russ.).
- Mashbits Ya.G. Kompleksnoe stranovedenie [Integrated Country Studies]. Moscow, Smolensk: Izd-vo SGU, 1998.
- Mil’kov F.N. Fiziko-geograficheskii raion i ego soderzhanie [Physico-Geographical Region and Its Main Idea]. Moscow: Nauka Publ., 1956. 219 p.
- Mil’kov F.N. Vuzovskaya fizicheskaya geografiya: periody ee razvitiya i kharakternye cherty kak fundamental’noi nauki [University Physical Geography: Periods of Its Development and Characteristic Features as a Fundamental Science]. Voronezh: Izd-vo Voronezh. Univ., 1984. 304 p.
- Mironenko N.S. Stranovedenie: teoriya i metody [Country Studies: Theory and Methods]. Moscow: Aspect-Press Publ., 2001.
- Nizovtsev V.A., Marchenko N.A. Anthropogenic landscape genesis — methods and research results. In Geografiya, obshchestvo, okruzhayushchaya sreda. Tom II. Funktsionirovanie i sovremennoe sostoyanie landshaftov [Geography, Society, Environment. Vol. 2. Functioning and Current State of Landscapes]. Moscow: Gorodets Publ., 2004, pp. 196–213. (In Russ.).
- Pavlovskii IV. Regional studies today. Vestn. Mosk. Univ., Ser. 19: Lingv. Mezhkul. Kommun., 2005, no. 2, pp. 145–156. (In Russ.).
- Planning and the Historic Environment: Planning Policy Guidance. Note 15. London, 1994. 38 p.
- Romanova E.P., Alekseev B.A., Vasil’eva M.A. Geoecological assessment of landscapes (the case study of the Netherlands). Vestn. Mosk. Univ., Ser. 5: Geogr., 2010, no. 1, pp. 3–10. (In Russ.).
- Savin I.Yu., Berezutskaya E.R. The concept of land cover as a basis for remote sensing monitoring of land. Reg. Geosist., 2024, vol. 48, no. 1, pp. 77–90. (In Russ.).
- Sayre N.F. Ecological and geographical scale: parallels and potential for integration. Prog. Hum. Geogr., 2005, vol. 29, no. 3, pp. 276–290.
- Sayre N.F. Scale. In A Companion to Environmental Geography. Castree N., Demeritt D., Liverman D., Eds. Oxford: Wiley-Blackwell, 2009, pp. 95–108.
- Sevast’yanov D. V., Grigor’ev A.A. Regional studies as the scientific geographical basis of international tourism at St. Petersburg State University: Pages of history and modernity. Vestn. SpBGU, 2015, no. 1, pp. 86–97. (In Russ.).
- Shuvalov V.E. Regional Zoning. In Sotsial’no-ekonomicheskaya geografiya: ponyatiya i terminy [Socioeconomic Geography: Notions and Terms]. Gorkin A.P., Ed. Smolensk: Oikumena Publ., 2013. 202 p.
- Simonov Yu.G. Istoriya geografii v Moskovskom universitete: sobytiya, lyudi. Tom 1 [The History of Geography at Moscow University: Events, People. Vol. 1]. Moscow: Gorodets Publ., 2008. 504 p.
- Sotsial’no-ekonomicheskaya geografiya: ponyatiya i terminy [Socioeconomic Geography: Notions and Terms]. Gorkin A.P., Ed. Smolensk: Oikumena Publ., 2013.
- Solntsev V.N. Istoriya universitetskoi kafedry fizicheskoi geografii mira i geoekologii [History of the University Department of Physical Geography of the World and Geoecology]. Moscow: GEOS Publ., 2008. 120 p.
- Sprygin A.A. Parameters of long-lived powerful convective structures in the European territory of Russia and adjacent territories and the possibility of unifying their forecast. Gidromet. Issled. Prognozy, 2020, no. 1, pp. 21–47. (In Russ.). https://doi.org/10.37162/2618-9631-2020-1-21-47
- The European Landscape Convention. European Landscape Convention. Strasbourg: Council of Europe, 2002. 24 p.
- Treivish A.I. Country studies: a team without a coach? Problems of composition, methodology and development. Kontury Glob. Transform.: Polit., Ekon., Parvo, 2021, vol. 14, no. 6, pp. 26–42. (In Russ.).
Supplementary files