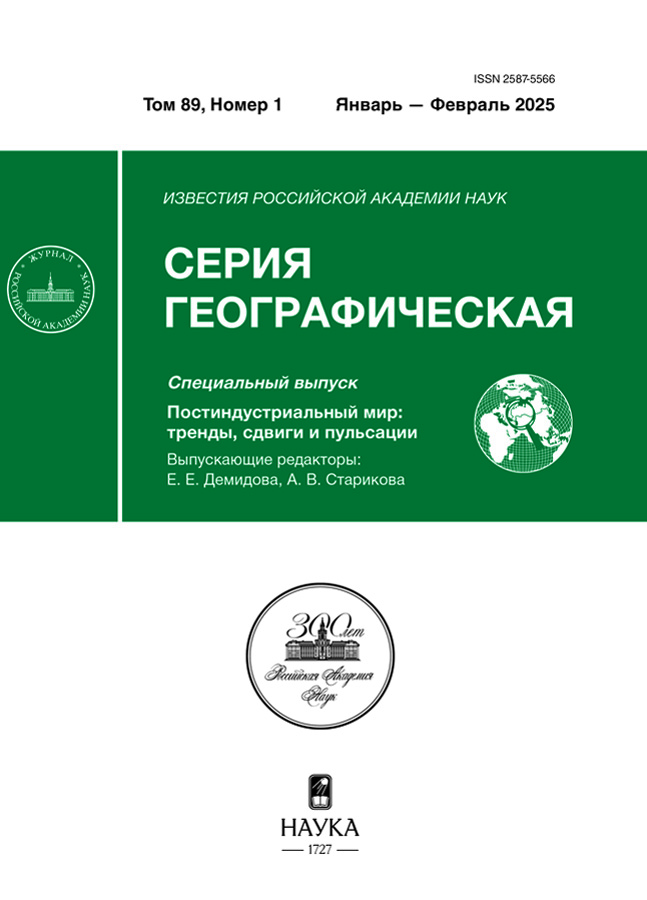Пейзаж и пейзажный подход в географии
- Авторы: Калуцков В.Н.1
-
Учреждения:
- Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
- Выпуск: Том 89, № 1 (2025): СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК: ПОСТИНДУСТРИАЛЬНЫЙ МИР: ТРЕНДЫ, СДВИГИ И ПУЛЬСАЦИИ
- Страницы: 90-97
- Раздел: Статьи
- URL: https://journals.eco-vector.com/2587-5566/article/view/683992
- DOI: https://doi.org/10.31857/S2587556625010072
- EDN: https://elibrary.ru/CRYKWH
- ID: 683992
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Пейзажное направление в живописи и возникший на ее основе пейзажный подход оказал существенное воздействие на развитие географии. Однако основное внимание исследователей уделялось вопросам определения и типологиям географического пейзажа. В статье впервые ставится и решается вопрос о содержании собственно пейзажного подхода, приводятся его основные характеристики, обсуждаются результаты применения подхода в географии. Экранное восприятия окружающего мира, лежащее в основе подхода, способствовало созданию трехмерных репрезентаций земных ландшафтов и на этой основе — формированию географических образов стран и регионов (образов-картин по Ю.Г. Тютюннику). В течение многих десятилетий пейзажные изображения наряду с географическими картами были важными продуктами полевых географических исследований. Все это способствовало развитию географического воображения в сообществе географов. В российской географии расцвет пейзажного подхода совпал с началом разработки ландшафтной концепции, а его кризис оказался приурочен к раннесоветскому этапу дегуманизации российской географии. Рассматривается история складывания концепта “пейзаж” в живописи, анализируются требования к географическому пейзажу со стороны классиков мировой географии — А. Геттнера и В.П. Семенова-Тян-Шанского, обсуждаются негативные последствия утраты пейзажного подхода и возможности его применения на современном этапе как одного из средств гуманизации российской географии.
Ключевые слова
Полный текст
Об авторах
В. Н. Калуцков
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Автор, ответственный за переписку.
Email: v.kalutskov@yandex.ru
Россия, Москва
Список литературы
- Берг Л.С. География // БСЭ. М.: Советская энциклопедия, 1929. Т. 15. С. 254–264.
- Берг Л.С. Географические зоны Советского Союза. 3-е изд. М.: ОГИЗ, 1947. 398 с.
- Борзов А.А. Картины по географии России. М.: Изд-во Гросмана и Кнебель, 1908. 192 с.
- Веденин Ю.А. География наследия. Территориальные подходы к изучению и сохранению наследия. М.: Новый Хронограф, 2018. 472 с.
- Геттнер А. География. Ее история, сущность и методы. Л.; И.: ГИ, 1930. 416 с.
- Гумбольдт А. Картины природы. М.: Географгиз, 1959. 269 с.
- Даль В.И. Пейзаж // Толковый словарь живого великорусского языка. М.—СПб.: изд. М.О. Вольфа, 1882. Т. 3. 27 с.
- Дронин Н.М. Эволюция ландшафтной концепции в русской и советcкой физической географии (1900-е — 1950-е годы). М.: ГЕОС, 1999. 232 с.
- Забелин И.М. Теория физической географии. М.: Географгиз, 1959. 303 с.
- Замятин Д.Н. Метагеография: Пространство образов и образы пространства. М.: Аграф, 2004. 512 с.
- Калуцков В.Н. Ландшафт в культурной географии. М.: Новый хронограф, 2008. 320 с.
- Калуцкова Н.Н., Дронин Н.М. Научные подходы к изучению пейзажей в русском ландшафтоведении начала 20 века // Исторический подход в географии и геоэкологии. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2023. С. 457–462.
- Колбовский Е.Ю. Культурный ландшафт и национальный пейзаж: две стороны одной реальности // Историческая география: теория и практика. СПб.: Изд-во РГГМУ, 2004. С. 22–30.
- Ломоносов и академические экспедиции XVIII века. М.: Изд-во “РТСофт”, 2011. 272 с.
- Максаковский В.П. Литературная география: географические образы в русской художественной литературе. М.: Просвещение, 2006. 407 с.
- Мильков Ф.Н. Несколько слов о художественном ландшафтоведении // Воронежские дали. Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1981. С. 3–13.
- Николаев В.А. Ландшафтоведение: Эстетика и дизайн ландшафта: Уч. пособие. М.: Аспект-Пресс, 2003. 176 с.
- Пигарев К.В. Русская литература и изобразительное искусство: очерки о русском национальном пейзаже середины XIX в. М.: Наука, 1972. 125 с.
- Семенов-Тян-Шанский В.П. Район и страна. М.: Пеликан, 2017. 314 с.
- Семенов-Тян-Шанский П.П. Юношеские письма. М.: Новый Хронограф, 2021. 712 с.
- Толова Г.Н. Пейзаж в литературе и искусстве // Пейзаж в литературе и живописи. Пермь: Изд-во Пермского гос. пед. ин-та, 1993. С. 3–10.
- Тютюнник Ю.Г. Художественное ландшафтоведение в географическом описании // Географический вестн. 2021. № 3 (58). С. 6–20.
- Эпштейн М.Н. Природа, мир, тайник вселенной: система пейзажных образов в русской поэзии. М.: Высшая школа, 1990. 303 с.
- Daniels S. Fields of Vision. Landscape Imagery and National Identity in England and United States. Oxford: Polity Press, 1993. 257 p.
- Grimm V., Grimm W. Landschaft/Deutsches Wortbuch. Bd. VI. Leipzig, 1885. P. 131–133.
- Harthshorne R. The nature of geography. A critical survey of current thougth in the light of the past. Pensilvania: Association of American Geographers, 1939. 469 p.
Дополнительные файлы