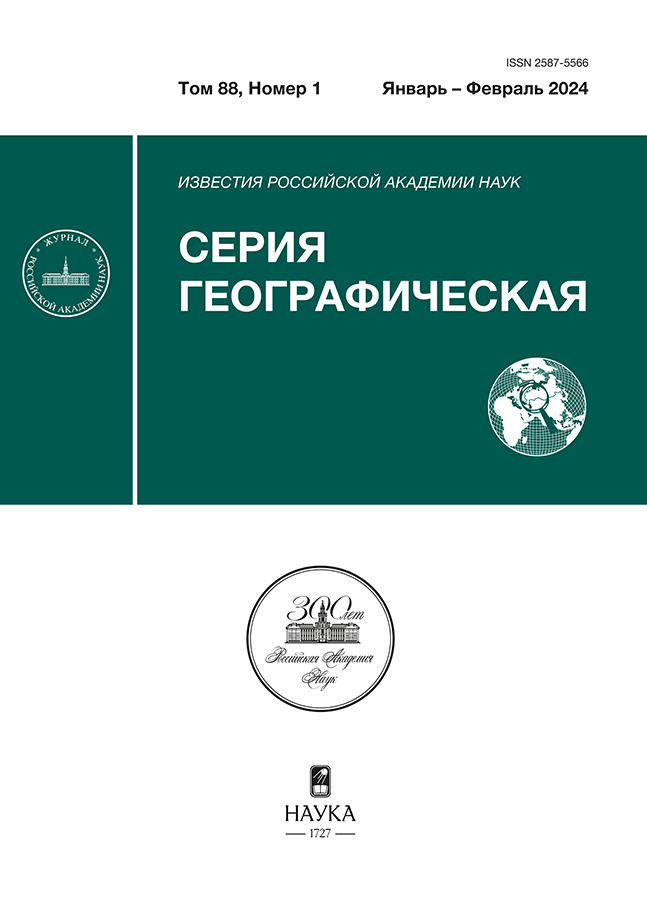Ways for greening agricultural land use in transboundary dry steppe landscapes of Kulunda
- 作者: Krasnoyarova B.A.1, Orlova I.V.1, Plutalova T.G.1, Sharabarina S.N.1
-
隶属关系:
- Institute for Water and Environmental Problems of Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
- 期: 卷 88, 编号 1 (2024)
- 页面: 3-16
- 栏目: NATURAL RESOURCE USE AND GEOECOLOGY
- URL: https://journals.eco-vector.com/2587-5566/article/view/660800
- DOI: https://doi.org/10.31857/S2587556624010019
- EDN: https://elibrary.ru/GLSZKQ
- ID: 660800
如何引用文章
详细
Drylands are subject to degradation processes caused by natural and anthropogenic factors. Among the latter, agricultural activities stand out in terms of the scale and duration of their impacts worldwide. These processes are exacerbated in transboundary areas with different socioeconomic and environmental management institutions. We propose the ecological-landscape paradigm of agricultural land management, which aims to achieve sustainable development of transboundary territories as a single socio-ecological system, while respecting environmental standards and landscape resilience to agricultural pressures. This approach was applied to the dry steppe landscapes of the Russian-Kazakh transboundary area. It was found that 75% of the study area is occupied by low-stable landscapes; unstable to agricultural impacts – 17%; relatively stable – only 8% of the territory. The conservation strategy is proposed for landscapes unstable to agricultural impact and unsuitable for involvement in agricultural turnover due to their environmental, water and soil protection functions. The adaptation strategy is developed for landscapes with low stability, which should be used as farmland with a high proportion of perennial grasses and natural fodder by carrying out the necessary agricultural and recreational works. The development strategy with a grain-fallow soil protection system is most suitable for relatively stable landscapes. These strategies make it possible to find a compromise between the intensive use of dryland farmland and its conservation, and to apply uniform management tools in cross-border areas.
全文:
作者简介
B. Krasnoyarova
Institute for Water and Environmental Problems of Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
编辑信件的主要联系方式.
Email: bella@iwep.ru
俄罗斯联邦, Barnaul
I. Orlova
Institute for Water and Environmental Problems of Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
Email: bella@iwep.ru
俄罗斯联邦, Barnaul
T. Plutalova
Institute for Water and Environmental Problems of Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
Email: bella@iwep.ru
俄罗斯联邦, Barnaul
S. Sharabarina
Institute for Water and Environmental Problems of Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
Email: bella@iwep.ru
俄罗斯联邦, Barnaul
参考
- Abd El-Aziz S.H. Evaluation of land suitability for main irrigated crops in the North-Western Region of Libya. Eurasian J. Soil Sci., 2018, vol. 7, no. 1, pp. 73–86.
- Almenar J.B., Rugani B., Geneletti D., Brewer T. Integration of ecosystem services into a conceptual spatial planning framework based on a landscape ecology perspective. Landsc. Ecol., 2018, vol. 33, pp. 2047–2059.
- Baikalova T.V., Karpova L.A., Morkovkin G.G., Solon’ko E.V. The study of the current ecological and economic condition of rural areas of the foothill areas of the Altai Krai to solve the problems of sustainable development. Vestn. Altai. Gos. Agr. Univ., 2016, vol. 145, no. 11, pp. 82–91. (In Russ.).
- Bennett D.E., Gosnell H. Integrating multiple perspectives on payments for ecosystem services through a social-ecological systems framework. Ecol. Econ., 2015, vol. 116, pp. 172–181. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2015.04.019
- Campagna M., Cesare E., Matta A., Serra M. Bridging the Gap Between Strategic Environmental Assessment and Planning: A Geodesign Perspective. Int. J. E-Plan. Res., 2018, vol. 7, no. 1, pp. 34–52. https://doi.org/10.4018/IJEPR.2018010103
- Doklad ob osobennostyakh klimata na territorii Rossiiskoi Federatsii za 2021 god [Report on Climate Features in the Territory of the Russian Federation for 2021]. Moscow, 2022. 104 p.
- Gu Y., Deal B. Coupling systems thinking and geodesign processes in land-use modelling, design, and planning. J. Dig. Landsc. Arch., 2018, no. 3, pp. 51–59.
- Hamilton S., Doll J.E., Robertson G.P. The ecology of agricultural landscapes: Long-term research on the road to sustainability. New York: Oxford Univ. Press, 2015.
- Izrael Yu.A. Ekologiya i kontrol’ sostoyaniya prirodnoi sredy [Ecology and Control of Natural Environment]. Moscow: Gidrometeoizdat Publ., 1984. 560 p.
- IPCC. Climate Change and Land. IPCC Special Report on Climate Change, Desertification, Land Degradation, Sustainable Land Management, Food Security, and Greenhouse gas fluxes in Terrestrial Ecosystems. WMO, UNEP, 2019.
- Karimi S., Bagherzadeh A., Ebrahimi H. Parametric approach to land evaluation for irrigation methods using GIS model at Jolgen-Rokh plain, Iran. Indian J. Fundam. Appl. Life Sci., 2015, vol. 5, no. 1, pp. 3699–3703.
- Krasnoyarova B.A., Orlova I.V., Plutalova T.G., Sharabarina S.N. Landscape-Ecological Assessment of Dry Lands of the Russian-Kazakhstan Border Zone for Sustainable Land Use. Arid Ecosyst., 2019, vol. 9, no. 3, pp. 150–156. https://doi.org/10.1134/S2079096119030065
- Kuderin A., Skorintseva I., Bassova T., Krylova V., Krasnoyarova B. Landscape planning of the Kazaly irrigation array of southern Kazakhstan. Eur. J. Geogr., 2019, vol. 10, no. 1, pp. 37–49.
- Kust G., Andreeva O., Cowie A. Land Degradation Neutrality: Concept development, practical applications and assessment. J. Environ. Manage., 2017, vol. 195, no. 1, pp. 16–24. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2016.10.043
- Landshaftnaya karta SSSR. Masshtab 1:2500000 [Landscape Map of the USSR. Scale 1:2500000]. Minest. Geol. SSSR, 1980.
- Levykin S.V., Chibilev A.A., Kochurov B.I., Kazachkov G.V. Toward a strategy for the conservation and restoration of steppes and environmental management in the post-virgin space. Izv. Akad. Nauk, Ser. Geogr., 2020, no. 4, pp. 626–636. (In Russ.). https://doi.org/10.31857/S2587556620040093
- Li S., Zhao X., Pu J., Miao P., Wang Q., Tan K. Optimize and control territorial spatial functional areas to improve the ecological stability and total environment in karst areas of Southwest China. Land Use Policy, 2021, vol. 100, art. 104940. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.104940
- Mohamed E.S., Saleh A.M., Belal A.A. Sustainability indicators for agricultural land-use based on GIS spatial modeling in North of Sinai-Egypt. Egypt. J. Remote. Sens. Space Sci., 2014, vol. 17, no. 1, pp. 1–15. https://doi.org/10.1016/j.ejrs.2014.05.001
- Odum Yu. Ekologiya: v 2 tomakh [Ecology: In 2 Volumes]. Moscow: Mir Publ., 1986.
- Orlova I.V. Landshaftno-agroekologicheskoe planirovanie territorii munitsipal’nogo raiona [Landscape and Agro-Ecological Planning of the Municipal District Territory]. Novosibirsk: Izd-vo SO RAN, 2014. 254 p.
- Ozgeldinova Zh.O., Mukaev Zh.T., Ospan G.T. Assessment of the stability potential of geosystems in conditions of anthropogenic impacts (on the example of the Sarysu River basin). Gidromet. Ekol., 2020, vol. 98, no. 3, pp. 19–33. (In Russ.).
- Paramonov E.G., Simonenko A.P. Osnovy agrolesomelioratsii [Basics of Agroforest Reclamation]. Barnaul: AGAU Publ., 2007. 224 p.
- Pearson D.M., McAlpine C.A. Landscape ecology: an integrated science for sustainability in a changing world. Landsc. Ecol., 2010, vol. 25, pp. 1151–1154.
- Plan meropriyatii po realizatsii strategii sotsial’no-ekonomicheskogo razvitiya Altaiskogo kraya do 2035 goda [Action Plan for the Implementation of the Strategy of Socioeconomic Development of the Altai Krai until 2035]. Barnaul, 2022. 38 p.
- Plan razvitiya Pavlodarskoi oblasti na 2021–2025 gody [The Development Plan of the Pavlodar Region for 2021–2025]. Pavlodar, 2021.
- Plutalova T.G. Monitoring of the land use system of the transboundary territory “Kulunda” according to remote sensing data. Izv. Altai. Otd. RGO, 2018, vol. 48, no. 1, pp. 62–66. (In Russ.).
- Prostranstvennoe razvitie stepnykh i posttselinnykh regionov Evropeiskoi Rossii. Tom 2 [Spatial Development of the Steppe and Post-Virgin Regions of European Russia. Vol. 2]. Chibilev A.A., Ed. Orenburg: IS UrO RAN, 2019. 200 p.
- Reimers N.F. Ekologiya. Teorii, zakony, pravila, printsipy i gipotezy [Ecology. Theories, Laws, Rules, Principles and Hypotheses]. Moscow: Rossiya molodaya Publ., 1994. 327 p.
- Rodriguez Lopez J.M., Tielbörger K., Claus C., Fröhlich C., Gramberger M., Scheffran J. A Transdisciplinary Approach to Identifying Transboundary Tipping Points in a Contentious Area: Experiences from across the Jordan River Region. Sustain., 2019, vol. 11, no. 4, art. 1184. https://doi.org/10.3390/su11041184
- Solly A., Berisha E., Cotella G., Janin Rivolin U. How Sustainable Are Land Use Tools? A Europe-Wide Typological Investigation. Sustain., 2020, vol. 12, no. 3, art. 1257. https://doi.org/10.3390/su12031257
- Strategiya sotsial’no-ekonomicheskogo razvitiya Altaiskogo kraya do 2035 goda [Strategy of Socioeconomic Development of the Altai Krai until 2035]. Barnaul, 2019. 194 p.
- Stringer L.C., Reed M.S., Fleskens L., Thomas R.J., Le Q.B., Lala-Pritchard T. A new dryland development paradigm grounded in empirical analysis of dryland systems science. Land Degrad. Dev., 2017, vol. 28, pp. 1952–1961. https://doi.org/10.1002/ldr.2716
- UN Convention to Combat Desertification in Those Countries Experiencing Serious Drought and/or Desertification, Particularly in Africa. UN, 1994.
- Ustoichivoe upravlenie pastbishchnymi resursami dlya povysheniya blagosostoyaniya sel’skogo naseleniya i sokhraneniya ekologicheskoi tselostnosti [Sustainable Rangeland Management for Improved Rural Livelihood and Environmental Integrity]. Almaty, 2010. 12 p.
- van Ginkel M., Sayer J., Sinclair F., et al. An integrated agro‐ecosystem and livelihood systems approach for the poor and vulnerable in dry areas. Food Secur., 2013, no. 5, pp. 751–767. https://doi.org/10.1007/s12571-013-0305-5
- van Vliet J., Magliocca N.R., Büchner B., et al. Meta-studies in land use science: Current coverage and prospects. AMBIO, 2015, vol. 45, no. 1, pp. 15–28.
- Waas T., Hugé J., Block T., Wright T., Benitez-Capistros F., Verbruggen A. Sustainability assessment and indicators: tools in a decision-making strategy for sustainable development. Sustain., 2014, no. 6, pp. 5512–5534.
- Zolotokrylin A.N., Cherenkova E.A. Area of Russia’s arid plain lands. Arid Ecosyst., 2011, no. 1, pp. 8–13. https://doi.org/10.1134/S2079096111010100