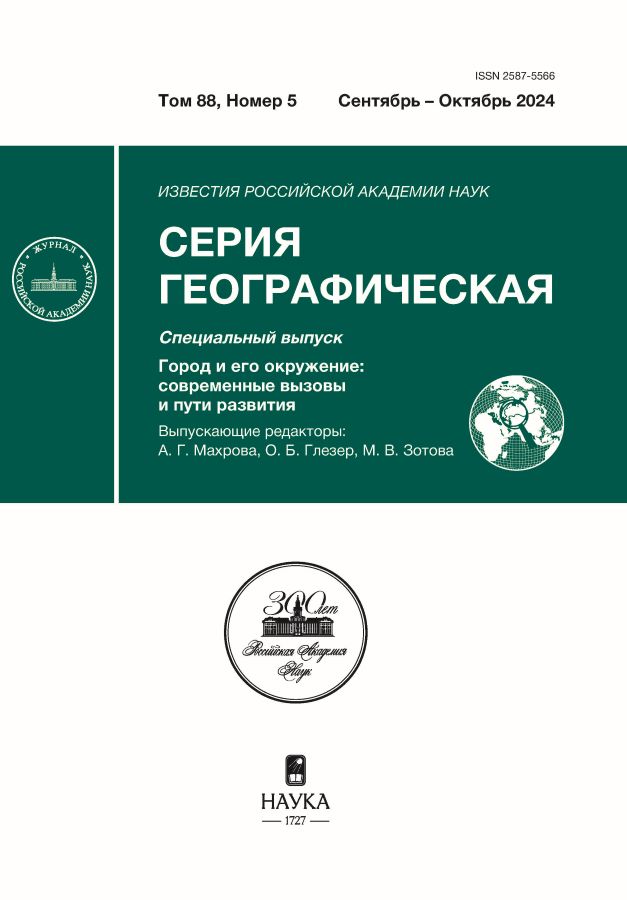Тенденции урбанистических исследований в России: тематика в свете современного состояния географической науки
- Авторы: Зотова М.В.1, Махрова А.Г.2, Глезер О.Б.1
-
Учреждения:
- Институт географии Российской академии наук
- Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
- Выпуск: Том 88, № 5 (2024): Специальный выпуск: Город и его окружение: современные вызовы и пути развития
- Страницы: 601-614
- Раздел: Статьи
- URL: https://journals.eco-vector.com/2587-5566/article/view/679346
- DOI: https://doi.org/10.31857/S2587556624050017
- EDN: https://elibrary.ru/APUEMM
- ID: 679346
Цитировать
Полный текст
Аннотация
С 2022 г. журнал “Известия РАН. Серия географическая” публикует специальные тематические выпуски, посвященные актуальным проблемам географии. Представляемый выпуск, уже седьмой по счету, – первый, полностью посвященный общественно-географической тематике, и второй (в таком случае из восьми), если считать обширную специальную рубрику, подготовленную к юбилейному Международному географическому конгрессу в Париже в 2022 г., включавшую семь обзорных статей по направлениям общественной географии, в которых достигнуты наиболее яркие результаты и которые специфичны для России (№ 3 за 2022 г.). Статьи данного выпуска отражают результаты оригинальных научных исследований, представленных на масштабной Международной научной конференции “Город и его окружение: современные вызовы и перспективные пути развития”, прошедшей весной 2024 г. в Институте географии РАН в рамках IV Геоурбанистических чтений. Эти статьи, как и доклады на конференции, ясно показывают, что российские исследования актуальных процессов взаимодействия городов и пригородов, центров и периферийных территорий, территориальной трансформации городов и формирования новых городских структур, развития агломерационных процессов и маятниковых миграций, а также сельско-городских миграций полностью вписываются в международный контекст и в этом смысле характеризуются двумя особенностями. В ряде направлений применяются самые продвинутые методические подходы. При совпадении многих процессов с развивающимися в других странах выявляется специфика их протекания в России как на уровне страны, так и в региональном разрезе.
Полный текст
Об авторах
М. В. Зотова
Институт географии Российской академии наук
Автор, ответственный за переписку.
Email: zotovam@bk.ru
Россия, Москва
А. Г. Махрова
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Email: almah@mail.ru
Россия, Москва
О. Б. Глезер
Институт географии Российской академии наук
Email: olga.glezer@yandex.ru
Россия, Москва
Список литературы
- Аверкиева К.В. Пригороды малого города и сельско-городская миграция. Пример райцентров Вологодской области // Изв. РАН. Сер. геогр. 2024. № 5. С. 724–737.
- Агломерации – точки роста в эпоху турбулентности. М.: ЦСР, 2023. 38 с.
- Аксенов К.Э., Брауде И., Рох К. Социально-пространственная дифференциация в районах массовой жилой застройки Ленинграда-Санкт-Петербурга в постсоветское время // Изв. РАН. Сер. геогр. 2010. № 1. С. 42–53.
- Аксенов К.Э., Зиновьев А.С., Морачевская К.А. Роль ритейла в трансформации микрорайонного принципа организации городской среды // Изв. РАН. Сер. геогр. 2019. № 3. С. 13–27.
- Аксёнов К.Э., Красковская О.В., Ренни Ф.М. Пространственная организация новых форм онлайн-торговли продуктами питания и готовой едой в крупном российском городе // Балтийский регион. 2022. Т. 14. № 3. С. 28–48.
- Аксенов К.Э. Пространственные факторы конфликтогенности в использовании городского символического геополитического капитала в России // Изв. РАН. Сер. геогр. 2024. № 5. С. 804–819.
- Антонов Е.В. Городские агломерации: подходы к выделению и делимитации // Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. 2020. Т. 13. № 1. С. 180–202.
- Антонов Е.В., Куричев Н.К., Трейвиш А.И. Исследования городской системы и агломераций в России // Изв. РАН. Сер. геогр. 2022. Т. 86. № 3. С. 310–331.
- Антонов Е.В., Махрова А.Г. Крупнейшие городские агломерации и формы расселения надагломерационного уровня в России // Изв. РАН. Сер. геогр. 2019. № 4. С. 31–45.
- Бабкин Р.А. Опыт использования данных операторов сотовой связи в зарубежных экономико-географических исследованиях // Вестн. СПбГУ. Науки о Земле. 2021. Т. 66. № 3. С. 416–439.
- Бабкин Р.А., Березняцкий А.Н., Махрова А.Г. Агломерации второго порядка в Московском регионе: тенденции развития в постсоветский период // Изв. РАН. Сер. геогр. 2024. № 5. С. 641–656.
- Бабурин В.Л., Земцов С.П. География инновационных процессов в России // Вестн. Моск. ун-та. Серия 5. География. 2013. № 5. С. 25–32.
- Битюкова В.Р. Производственные зоны Москвы в 2010–2020-е годы: экологический вектор // Изв. РАН. Сер. геогр. 2024. № 5. С. 787–803.
- Вендина О.И., Шелудков А.В., Гриценко А.А. Город-агломерация: производство и репрезентация границ пространственного влияния Краснодара // Изв. РАН. Сер. геогр. 2024. № 5. С. 615–640.
- Гайдай А.Ю., Любарец А.В. “Ленинопад”: избавление от прошлого как способ конструирования будущего (на материалах Днепропетровска, Запорожья и Харькова) // Вестн. Пермского ун-та. История. 2016. № 2 (33). С. 28–41.
- Голубятников В.П. Рынок труда крупнейших городов России по данным HH.ru // Изв. РАН. Сер. геогр. 2024. № 5. С. 757–769.
- Гонюхов П.О., Шелудков А.В. Являются ли постсоветские города 15-минутными? Различия пешеходной доступности базовых городских слуг по морфотипам жилой застройки (Краснодар, Саратов и Набережные Челны) // Изв. РАН. Сер. геогр. 2024. № 5. С. 820–835.
- Город и его окружение: современные вызовы и перспективные пути развития / ред. А.Г. Махрова. М.: Геогр. ф-тет МГУ, 2024. 368 с.
- Дохов Р.А., Синицын Н.А. Спрол в России: рост и структурная трансформация пригородов Белгорода // Изв. РАН. Сер. геогр. 2020. Т. 84. № 2. С. 191–206.
- Зотова М.В. Трансформация крупных городов России в центры макрорегионального влияния. Дис. … канд. геогр. наук. М., 2007. 197 с.
- Идентичность: Личность, общество, политика. Энциклопедическое издание / ред. И.С. Семененко. М.: Весь мир, 2017. 992 с.
- Ижгузина Н.Р. Подходы к делимитации городских агломераций // Дискуссия. 2014. № 9 (50). С. 44–52.
- Карачурина Л.Б., Мкртчян Н.В. В город или в пригород: что выбирают россияне на разных этапах жизненного пути // Изв. РАН. Сер. геогр. 2024. № 5. С. 694–711.
- Крупные города и вызовы глобализации / ред. В.А. Колосов, Д. Эккерт. Смоленск: Ойкумена, 2003. 280 с.
- Лаппо Г.М., Полян П.М., Селиванова Т.В. Городские агломерации России // Демоскоп Weekly. 2010. № 407–408. http://www.demoscope.ru/weekly/ 2010/0407/ tema01.php
- Лачининский С.С. Контуры постиндустриальной структуры экономики городов Санкт-Петербургской агломерации на основе деятельности е-маркетплейсов // Региональные исследования. 2024. № 2 (84). С. 63–75.
- Лачининский С.С., Логвинов И.А., Васильева В.А. Оценка спрола городских территорий Санкт-Петербурга на основе спутниковых изображений Landsat // Вестн. СПбГУ. Науки о Земле. 2023. Т. 68. № 3. C. 471–489.
- Лебедева Е.В. Публичное пространство постсоветского города: возможности для развития социальности и “кризис публичности” // Журн. социологии и социальной антропологии. 2017. Т. 20. № 1. С. 74–92.
- Макушин М.А. Пространственное развития рынка складской недвижимости Московской агломерации в постсоветский период // Изв. РАН. Сер. геогр. 2024. № 5. С. 657–670.
- Махрова А.Г., Медведев А.А., Нефедова Т.Г. Садово-дачные поселки горожан в системе сельского расселения // Вестн. Моск. ун-та. Серия 5. География. 2016. № 2. С. 64–74.
- Медведев А.А., Гунько М.С. Выявление признаков наличного населения по материалам дистанционного зондирования // Изв. ВУЗ. Геодезия и аэрофотосъемка. 2016. № 6. С. 85–91.
- Медведникова Д.М. Факторы неравномерности развития городов России с населением более 100 тыс. чел. в первые десятилетия XXI века // Изв. РАН. Сер. геогр. 2024. № 5. С. 738–756.
- Мкртчян Н.В. Стягивание населения России в крупные города и их пригороды // Журн. Новой экономической ассоциации. 2024. № 2 (63). С. 241–248.
- Полиди Т.Д. Эффекты влияния городской застройки и городской планировки на экономику города и иные городские процессы. М.: Фонд “Институт экономики города”, 2019. 31 с.
- Попов Ф.А. Размышления о целях и методах изучения зон ментального влияния городов // Городские исследования и практики. 2017. № 2. С. 12–32.
- Протасова Ю.А., Густова А.Ю. Методика анализа архитектурно-планировочной организации микрорайонов // Архитектура. Сб. науч. тр. Минск: БНТУ, 2023. Вып. 16. С. 148–152.
- Райсих А.Э. Определение границ городских агломераций России: создание модели и результаты // Демографическое обозрение. 2020. Т. 7. № 2. С. 54–96.
- Райсих А.Э. Парадоксы учета населения закрытых городов в СССР и последующая городская динамика // Изв. РАН. Сер. геогр. 2024. № 5. С. 770–786.
- Смирнов И.П., Виноградов Д.М., Алексеев А.И. В Москву или в Санкт-Петербург? Плотность населения Тверской области по данным интернет-сети “ВКонтакте” // Изв. РГО. 2019. Т. 151. Вып. 6. С. 69–80.
- Смирнов И.П., Смирнова А.А., Лебедев П.С. Мастер-план малого города: опыт предпроектного социально-географического исследования (на примере Бежецка Тверской области) // Изв. РАН. Сер. геогр. 2024. № 5. С. 836–852.
- Смирнягин Л.В. Агломерации: за и против / Городской альманах. М.: Фонд “Институт экономики города”, 2008. Т. 3. С. 152–168.
- Старикова А.В. Внутренние контрасты пространственной мобильности населения регионов Ближнего Севера (Ярославская, Костромская и Вологодская области): хроногеографический подход // Изв. РАН. Сер. геогр. 2024. № 5. С. 712–723.
- Стрельников А.И., Семенова О.С. Варианты определения границ агломерации в современных условиях на основе анализа социальных и экономических связей с применением расчетного моделирования // Транспортное дело России. 2010. № 8 (81). С. 145–155.
- Тархов С.А. Системы скоростного рельсового транспорта крупнейших городских агломераций КНР // Изв. РАН. Сер. геогр. 2024. № 5. С. 671–693.
- Трейвиш А.И., Нефедова Т.Г. Города – лидеры современных регионов: формальные и неформальные // Россия и ее регионы в 20 веке: территория – расселение – миграции. М.: ОГИ, 2005. С. 281–307.
- Федина А.Ю., Яшунский А.Д. Модели, связывающие межрегиональную миграцию и дружбу в России // Матем. моделирование. 2022. № 34 (11). С. 19–34.
- Babkin R., Badina S., Bereznyatsky A. Application of Mobile Operators’ Data in Modern Geographical Research // Encyclopedia. 2022. Vol. 2. № 4. P. 1829–1844.
- Bellentani F. The Meanings of the Built Environment a Semiotic and Geographical Approach to Monuments in the Post-Soviet Era. Berlin: De Gruyter Mouton, 2021. 188 p.
- Boix R., Veneri P., Almenar V., Hernández F. Polycentric metropolitan areas in Europe: towards a unified proposal of delimitation // 51st Congress of the European Regional Science Association: “New Challenges for European Regions and Urban Areas in a Globalised World”, 30 August – 3 September 2011, Barcelona, Spain, European Regional Science Association (ERSA), Louvain-la-Neuve, 2011. P. 1–31.
- Claval P. Les espaces de la politique. Paris: Armand Colin, 2010. 416 p.
- Debarbieux B. L’espace de l’imaginaire. Essais et detours. Paris: Edition du CNRS, 2021. 312 p.
- Dong L., Duarte F., Duranton G., Santi P., Barthelemy M., Batty M., Bettencourt L.M.A., Goodchild M., Hack G., Liu Y., Pumain D., Shi W., Verbavatz V., West G.B., Yeh A.G.O., Ratti C. Defining a city – delineating urban areas using cell-phone data // Nature Cities. 2024. Vol. 1. P. 117–125.
- Golubchikov O., Badyina A., Makhrova A. The Hybrid Spatialities of Transition: Capitalism, Legacy and Uneven Urban Economic Restructuring // Urban Studies. 2014. Vol. 51. № 4. P. 617–633.
- Gottmann J. The Significance of Territory. Charlottesville, VA: Univ. of Virginia Press, 1973. 169 p.
- Kolosov V.A., Zotova M.V. Evolution of the Political Landscape of Moscow as Capital // Reg. Res. Of Rus. 2023. Vol. 13. № S1. P. S40–S54.
- Li Z., Huang X., Ye X., Jiang Yu., Martin Y., Ning H., Hodgson M., Li X. Measuring global multi-scale place connectivity using geotagged social media data // Sci. Rep. 2021. № 11: 14694. P. 1–20.
- Raban J. Soft city: The art of cosmopolitan living. NY: Dutton, 1974. 229 p.
- Sheludkov A., Starikova A. Summer suburbanization in Moscow Region: Investigation with nighttime lights satellite imagery // Environ. Plan. A. 2022. Vol. 54. № 3. P. 446–448.
- Taylor P., Walker D., Catalano G., Hoyler M. Diversity and power in the world city network // Cities. 2002. Vol. 19. № 9. P. 231–241.
- Vale L.J. Capitals’ architecture and national identity // The Construction of Capitals and the Politics of Space / M. Minkenberg (Ed.). NY: Oxford, Berghahn Books, 2014. P. 31–53.
Дополнительные файлы