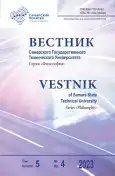Secular and religious values: their content and interaction
- 作者: Kosichenko A.G.1
-
隶属关系:
- Institute of Philosophy, Political Science and Religious Studies of the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Kazakhstan
- 期: 卷 5, 编号 4 (2023)
- 页面: 21-26
- 栏目: ОБЩЕСТВО. КУЛЬТУРА. ЧЕЛОВЕК
- URL: https://journals.eco-vector.com/2658-7750/article/view/624450
- DOI: https://doi.org/10.17673/vsgtu-phil.2023.4.4
- ID: 624450
如何引用文章
全文:
详细
For modern societies existing in conditions of ever-increasing challenges and threats, it is extremely important to consolidate them, first of all, ideological and spiritual consolidation, which underlies all other forms of unity of societies. Spiritual and ideological consolidation presupposes, among other things, a balance of secular and religious values that unite society at its deepest levels. Clarifying the content of these values, exploring the possibilities and limits of their productive interaction, identifying the difficulties of their dialogue is the purpose of this article.
全文:
Светские и религиозные ценности: их содержание и взаимодействие[1]
Поскольку речь в статье будет идти о ценностях, следует хотя бы кратко и схематично дать представление о ценностях как таковых. Ценности укоренены в бытии, но они обязательно должны быть приняты человеком, стать содержанием его личности, как об этом писал Х. Йоас: «…я четко ставлю перед собой конкретный вопрос, а именно, как возникают ценности и приверженность им, и даю на него четкий ответ: ценности возникают в процессе формирования самости и в опыте самотрансценденции» [1, с. 9]. Чрезмерная объективация ценностей естественна при понимании ценностей как некоего содержания, вне и до субъекта данного. Однако при этом упускается из виду, что только человек делает ценности ценностями, и, хотя их содержание объективно, но пока человек их не распредметит, они не могут именоваться ценностями.
После этого уточнения обратимся к содержанию и взаимодействию религиозных и светских систем ценностей. Религиозные ценности имеют истоком веру в Бога. Система религиозных ценностей иерархична: самое ценное — Бог, человек — любимое творение Бога. Выполняя Его заповеди, человек приближается к Богу, в некотором смысле, уподобляется Ему. Бог помогает человеку на этом пути — дает способы духовного развития; нормы такого развития (заповеди) дают человеку силы укрепляться в вере. Религиозные ценности: вера, любовь, свобода, покаяние, смирение, спасение и т. д. — направлены на духовное развитие человека, на избавление его от греха, на созидание в себе нового человека. Ценности религии постоянны и абсолютны, несколько меняясь лишь по формам проявления их в зависимости от исторических и иных контекстов и обстоятельств. Они воплощаются в жизнь верующим, он верит в эти ценности. Они образуют его личность. Религиозные ценности, будучи воплощенными верующим человеком, создают реальное пространство религии.
Но реализация религиозных ценностей требует от человека работы над собой, изменения себя. Религия стала значить очень мало для современности не потому, что она устарела и не отображает доминирующих форм современной жизни, а потому, что она, ее ценности и ее идеалы стали слишком высоки для современного человека, духовно ослабшего и не способного в массе своей соответствовать религиозным требованиям. Однако в последнее время многие крупные мыслители и исследователи задаются вопросом: так ли уж необходимо отказываться от религиозных ценностей, относя их к рудиментам прошлого. Например, в диалоге с Ю. Хабермасом Й. Ратцингер (папа Бенедикт XVI) отмечает: «Но остается открытым и общий вопрос: следует ли видеть в постепенном уничтожении религии, ее преодолении, необходимый прогресс человечества, ведущий его по пути свободы и универсальной толерантности, или же это не так?» [2, с. 90].
Некоторая часть из типичных светских ценностей (гуманизм, свобода, разум, равенство мировоззрений и религий, права человека, патриотизм) имеет свое основание в религии, другая часть возникла в противоположность религии. Светские ценности, как и религиозные, содержат нравственные максимы, но имеющие исток в гуманизме, как самоценности человека. Эти ценности порождаются трудами творцов светской культуры: писателями, художниками, мыслителями.
Со времени Великой французской революции, принципиально изменившей отношение к религии и официально введшей понятие светскости как формы государственного устройства, система светских ценностей дополнилась ценностями либерализма, о которых следует сказать особо, в силу их значимости для современного мира. Система либеральных ценностей господствует сегодня в мире, встречая лишь некоторое сопротивление и противодействие в основном со стороны традиционных религий. Квинтэссенцией либерализма являются так называемые права человека, причем человека, являющегося единственным творцом всей реальности; Бога эта система не предполагает. Поскольку человек — единственный творец всей реальности, то вопрос о том, каким должен быть человек, не стоит или стоит лишь в теоретической плоскости. Человек хорош таким, каков он есть, со всеми своими недостатками и грехами: коль скоро он единственный активный творец, то он всегда прав. Поэтому-то его права и выставлены в качестве основной ценности либерализма. Тем самым права человека «обожествляются», и вокруг этих прав создается своя квазирелигия, причем «религия» чрезвычайно жесткая. Либеральный гуманизм и либеральные ценности, несмотря на их заявления о свободе, которые они несут, реально выступают в современном мире в качестве новой тоталитарной идеологии, требующей подчиненности себе буквально во всех отношениях. Постлиберальная идеология через посредство концепции прав человека оказывает очень сильное давление на общественную мораль, и последняя сдает свои традиционные позиции, принимая ценности «новой религии». Именно на этой системе ценностей выстроены сегодня западные культура и цивилизация.
Либерализм ставит ложно понятые права человека выше всего остального. Религия, в частности православие, критически относится к так понимаемым правам человека. «Права человека не могут быть выше ценностей духовного мира… Недопустимым и опасным является истолкование прав человека как высшего и универсального основания общественной жизни, которому должны подчиняться религиозные взгляды и практика. Для многих людей, живущих в разных странах мира, не столько секуляризованные стандарты прав человека, сколько вероучение и традиции обладают высшим авторитетом в общественной жизни и межличностных отношениях» [3]. Итак, имеются религиозные ценности, светские ценности и ценности либерализма, который является крайне жесткой и агрессивной формой светских ценностей. Общество, стремящееся к консолидации, должно совместить эти системы ценностей непротиворечивым образом, но без «выдавливания» какой-либо одной из этих систем.
Продуктивное взаимодействие и диалог между светскими и религиозными ценностями возможны и реальны; светские и религиозные ценности, вступая в диалог, создают особое поле смыслов и некоего общего и тем и другим содержания. Сфера этого взаимодействия и диалога — ценности, в некотором смысле общие и религии, и светскости: духовность, нравственность, справедливость, патриотизм, дружба, взаимопомощь, солидарность и иные. В этой сфере возможно глубокое согласие и верующих, и светски ориентированных людей. Поэтому, стремясь к общественной консолидации, эти общие ценности надо поощрять. Связь их друг с другом надо улавливать и артикулировать. Но и различия и даже крайние противоположности в ценностях надо вводить в диалог; лучше обсуждать их в процессе диалога, нежели сталкиваться с ними в протестных формах.
Светские ценности в их сущности не обязательно носят атеистический характер. Когда религия не акцентирует своих преимуществ в сфере духовного, тогда и светское мировоззрение не склонно к атеистическим проявлениям. То есть для продуктивного диалога светских и религиозных ценностей нужен определенный компромисс, не выходящий за пределы допустимого для религии и светского мировоззрения. Сами же пределы допустимого определяются сущностью религии и светскости — они не должны утрачивать своей специфики и содержания.
В результате продуктивного взаимодействия светскости и религии возникает идейное пространство, вмещающее в себя как религиозные ценности в их гуманистическом проявлении, так и светские ценности на высшем пределе понимания ими сути духовных измерений жизни человека и общества. Светские ценности могут быть «партнером» религии в ее стремлении одухотворить общество, в усилении позитивного влияния религии на жизнь общества. Эта возможность коренится в нейтральном, а в чем-то даже позитивном отношении светских ценностей к религии (в отличие от аналогичного отношения либерализма). Религиозные ценности, со своей стороны, принимают светские ценности в их нравственно-оздоровляющем общество влиянии. Понятно, что и светские, и религиозные ценности должны пройти свою часть пути навстречу друг другу. Никакого насилия по отношению друг к другу со стороны этих ценностных систем при этом быть не должно. Помимо этого, светский характер государства, полагающий в основу невмешательство государства в дела религии в ее внутренней жизни, а также невмешательство религии в осуществление государством его функций, также позволяет развивать позитивные взаимодействия между светскими и религиозными ценностями.
Сколь ни продуктивно взаимодействие светских и религиозных ценностей, оно имеет пределы своих возможностей, причем пределы носят принципиальный характер. Ни религия, ни светское мировоззрение не отойдут от своей сути и не встанут на позиции друг друга; наличие общего содержания в системах этих ценностей не снимает различия между ними, не устраняет имеющихся противоречий между ними. Светские ценности доминируют в современном мире (особенно в форме либеральных ценностей, о чем выше было сказано), но их доминирование не абсолютно; как ни странно, они нуждаются в наличии ценностей более духовных, ставящих духовность выше всего остального, а таковыми являются в ближайшем смысле ценности религии. Здесь можно подчеркнуть, что именно это обстоятельство вскрывает сущностную связь светских и религиозных ценностей: они нуждаются друг в друге, и это — основа и для их взаимодействия, и для их диалога. Но как светские, так и религиозные ценности не должны «посягать» на место, роль и значение друг друга — малейшая агрессивность с любой стороны прерывает диалог между ними. К сожалению, сегодня в идейной и духовной сфере имеет место и агрессивность, и прострация, и смешение ценностных оснований. «Все это убедительно демонстрирует ценностную анархию в современном мире, которая для удобства и оправдания именуется плюрализмом, но означает только одно: современный мир утратил позитивные ценностные основания своей жизнедеятельности» [4, с. 198]. И в первую очередь, утрата коснулась духовных ценностей, что означает ни больше ни меньше как потерю сущностных оснований бытия человека.
Современный мир подталкивает религию к модернизации и принятию либерального мировоззрения, но авраамические религии не могут осуществить этого без того, чтобы не утратить свою сущность. Римско-католическая церковь после Второго Ватиканского собора (1962–1965 гг.) сделала весьма заметные усилия по «осовремениванию» своей догматики и канонических норм. Ожидалось, что эти изменения удержат и расширят паству католицизма и сделают католицизм привлекательным для современников. Но эти ожидания не оправдались. Протестантизм пытается соответствовать времени уже несколько веков, но также без существенных успехов: хотя протестантские течения в целом сохраняют объемы своих последователей, но ценой запредельной трансформации своих вероучительных основ. Периодически и православие делает попытки осовремениться: «обновленцы» в 20-х годах XX века в СССР, реформы календаря во многих православных церквях, второбрачие священников и ослабления поста — через все это в той или иной степени прошло вселенское православие. В настоящее время то одна, то другая автокефальная православная церковь делает шаги в сторону обновления, ссылаясь на непреодолимые обстоятельства. Но это — измена православию, и такие шаги не способны привести к желаемому результату. К тому же система автокефальных православных церквей, в отличие от Римско-католической церкви, не имеет единоначалия, и это благо, так как когда одна из автокефальных церквей делает поползновение к обновленчеству, то другие не поддерживают эти начинания, и эти «новации» со временем, как правило, затухают. Конечно, не все безоблачно в «семье» православных церквей — тому ярким свидетельством положение Украинской православной церкви в современной Украине, и все же англоязычный термин «ортодоксия» не случайно применяется именно к православной церкви — она в целом удерживает догматические и канонические истины.
Отмеченные трудности во взаимодействии светских и религиозных ценностей не прерывают данного взаимодействия, успехи в этой сфере также налицо. Более того, у человечества сегодня просто нет иного пути, кроме как выстраивать диалог между самыми разными мировоззренческими и духовными системами: в противном случае — хаос и крах цивилизации. Источником оптимизма, необходимого для преодоления негативных тенденций развития человечества, выступает сущностная духовность человека, которая неуничтожима при любых обстоятельствах.
1 Статья подготовлена в рамках финансирования КН МНВО РК (Грант №АР09260036 «Светские и религиозные ценности в современном Казахстане: взаимодействие и влияние на политику РК в сфере религии»).
作者简介
Anatoly Kosichenko
Institute of Philosophy, Political Science and Religious Studies of the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Kazakhstan
编辑信件的主要联系方式.
Email: anatkosichenko@mail.ru
doctor of philosophy, professor, chief researcher
哈萨克斯坦, Almaty参考
- Сassirer E. Filosofiya simvolicheskikh form. Vol. 2. Mifologicheskoe myshlenie. Moscow; Saint Petesrburg: Tsentr gumanitarnykh initsiativ; 2015. (In Russ.)
- Langer S. Filosofiya v novom klyuche. Issledovanie simvoliki razuma, rituala i iskusstva. Moscow: Respublika; 2000. (In Russ.)
- Mikhel’son OK, Polyakov NS. Pastafarianstvo kak vymyshlennaya religiya. Kul’tura i tsivilizatsiya. 2022;12(5–1):289–296. (In Russ.)
- Ryklin M. Kommunizm kak religiya. Intellektualy i Oktyabr’skaya revolyutsiya. Moscow: NLO; 2009. (In Russ.)
- Smolkin V. Svyato mesto pusto ne byvaet. Istoriya sovetskogo ateizma. Moscow: NLO; 2021. (In Russ.)
- Khorina VV, Mikhelson OK. «May the Lord Unfold!». Fictional religion in M. Atwood’s dystopia «The handmaid’s tale» and post-secular religiosity. Society: Philosophy, History, Culture. 2002;12(104):93–99. doi: 10.24158/fik.2022.12.15
- Campbell HM. The Philosophy of Ernst Cassirer and fictional religion. The Thomist: a speculative review. 1969;33(4):737–754.
- Cusack CM. Invented religions. Imagination, fiction and faith. Ashgate Publishing; 2010.
- Davidsen MA. Fiction-based religion: conceptualizing a new category against history-based religion and fandom. Culture and religion: an interdisciplinary journal. 2013;14(4):378–395. doi: 10.1080/14755610.2013.838798
- Luhrmann TM. Persuasions of the witch’s craft. Cambridge; MA: Harvard University Press; 1991.
- York M. Invented culture/invented religion: the fictional origins of contemporary paganism. Nova religio. 1999;3(1):135–146.
补充文件