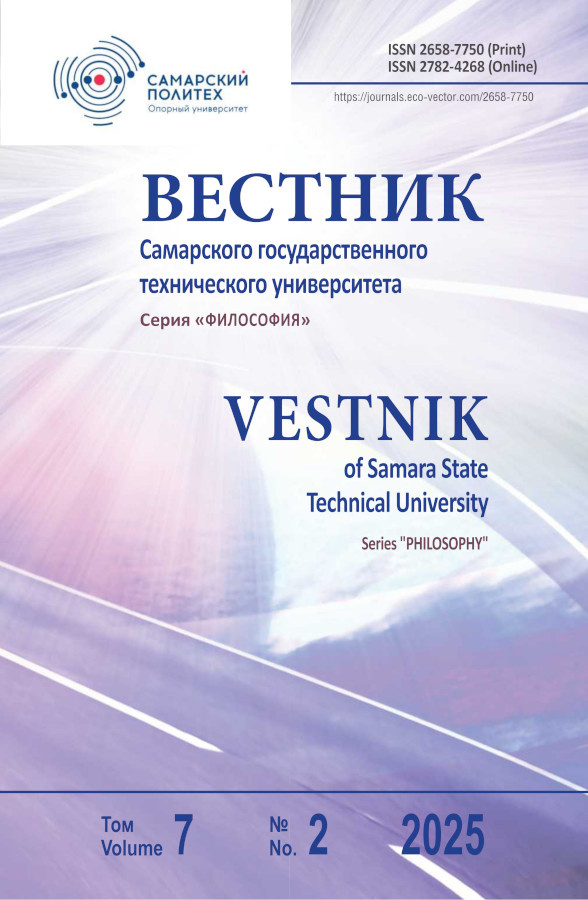Metaphysical grounds for the need to return the category of soul to the science of soul
- Authors: Nurullin R.A.1
-
Affiliations:
- Kazan (Volga region) Federal University
- Issue: Vol 7, No 2 (2025)
- Pages: 83-100
- Section: PHILOSOPHY AND THE MODERN WORLD
- URL: https://journals.eco-vector.com/2658-7750/article/view/692893
- ID: 692893
Cite item
Full Text
Abstract
The concept of the soul is not used in the science of the soul today, since modern psychology is unable to cover this phenomenon in its entirety. In psychology, as it exists today, issues related to the higher manifestations of the soul, such as spirit and spirituality, are not discussed. An attempt to see the quality of the soul based on the reflection of the body can only give limited knowledge of the summative qualities of the whole. The value of a person is still more determined by the emergent characteristics of his personality, such as spirit, soul, mind, intellect, consciousness and self-awareness, which are determined and conditioned by the existence of a person in the structure of systems of a greater order – society, humanity and the Cosmos.
Keywords
Full Text
Понятие души сегодня не используется в психологии и считается устаревшим, так как современная наука о душе оказывается неспособной охватить данный феномен во всей его полноте. В психологии в том виде, как она есть сегодня, не обсуждаются вопросы, связанные с высшими проявлениями души, такими как дух, духовность. Поэтому психология оказывается сосредоточенной лишь на исследовании различных аспектов составляющих души, которые связаны преимущественно с отражением функциональной архитектуры мозга, и на типологизации индивидов как материальных носителей психики. Исходя лишь из материалистических оснований рационалистической науки, психология в силу специфического характера объекта исследования не может реализовать отражения феномена души на всех уровнях системного бытия: субцелостных, целостных и метацелостных свойств. Поэтому вынуждена сосредотачивать свое внимание лишь на изучении и описании отдельных дефиниций психики: на особенностях функций различных зон головного мозга, на работе нервной системы, на уровнях бессознательного (подсознания, архетипов), составляющих сознания и самосознания (восприятия, рассудка, ума, разума, интеллекта). В отражении этого психология достигла определенных результатов, которые без стратегического представления о целом мало что могут сказать существенного о душе. Все это напоминает попытку выйти к отражению смыслов информации в компьютере по результатам изучения архитектуры компьютера или структуры программного обеспечения.
Попытка увидеть качество души на основе отражения тела, конечно, дает некоторое знание о суммативных (механицистских) качествах целого, но это знание не входит ни в какое сравнение со знаниями об эмерджентных свойствах системы. Именно к последнему типу свойств относятся «душа» и «сознание». Как бы хирург не искал сознание в голове человека, он его там никогда не найдет, поскольку оно возникло благодаря структуре нейронных связей, а не составляющим частям мозга. Душа и сознание не только выступают целостными характеристиками человека, но и обладают метацелостными свойствами, обусловленными влиянием социума и более общих структур бытия. Поэтому призывы к возврату категории души в лоно науки слышатся все более настойчиво – со стороны представителей как психологической науки, так и философии. Можно привести большой список известных ученых-психологов, придерживающихся такой точки зрения. Например, Б.С. Братусь очень убедительно выразил своё и многих других ученых мнение о необходимости возврата феномену души общенаучного и/или категориального статуса [1, с. 3–20].
Сегодня категория души активно используется преимущественно во вненаучных формах познания религиозного и/или философского толка, а также в паранаучных исследованиях. Современная наука как форма общественного сознания осознает пределы своих возможностей в познании. Поэтому сегодня наука уже не так категорично, как в недавнем прошлом, отрицает факты, которые относятся к сфере пока рационально необъяснимых феноменов. В силу того, что по отношению к этим ненаучным формам знания невозможно соблюсти принцип преемственности – от результатов теоретической науки к объяснению паранаучных явлений, в силу недостаточной развитости структуры теоретического знания в науке происходит лишь осторожная фиксация и накопление данных в этом направлении. При всей высокомерной позиции науки по отношению к данным паранауки последняя через СМИ все более активно начинает завоевывать информационное поле, влияющее на массовое сознание. Человек как потребитель вещей и информации не привык сам производить мысли и критически относиться к смыслам. Дело в том, что рационалистическая наука по определению оказывается ограниченной и бессильной в объяснении многих явлений психики. Наука с односторонними материалистическими основаниями все феномены идеального в психологии может рассматривать лишь в виде производных от активно развивающихся форм материи. С этих позиций феномен существования идеального, конечно же, не отрицается, а представляется вторичным свойством, возникающим лишь на определенном уровне развития материальных систем на Земле.
Понятие души в каком-то смысле (по отношению к своему материальному носителю) соотносится с понятием информации. Информация, согласно одному из множества определений, является обозначением содержания, полученного из внешнего мира, которое не зависит от своего носителя. Из теории информации известно, что информация, понимаемая как содержание, смысл того или иного события, не зависит от своего носителя и может быть представлена в различных формах. Поэтому информация способна распространяться в пространстве как содержание о некотором событии, которое не зависит от формы своего материального представительства, а потому одно и то же содержание информации может быть представлено разнообразными способами. Так, содержание события может иметь вид: символов текста на листке бумаги, акустических и электромагнитных волн, смыслов-образов в памяти головного мозга, нулей и единиц на флэшке и процессоре компьютера и т. д. [2, с. 79–87]. В этом смысле информация обладает свойством изоморфизма. Однако далеко не всякая материальная форма способна отразить тот или иной объект полностью без искажений, и в этом смысле информация зависит от природы канала связи, то есть зависит от свойств материала носителя информации. Метафорически говоря, качество поверхности зеркала начнет определять качество того, что в нем отражается.
Следует также отметить, что ни теория информации, ни психология не в состоянии ответить на вопрос о первопричинах возникновения информации и души соответственно. Существование информации в кибернетике носит характер постулата, принимаемого на веру. Поэтому теория информации изучает процессы передачи, распространения и приема данных по каналам связи оптимальным образом, здесь не обсуждаются проблемы рождения информации. Информация существует субстанционально. Так же обстоят дела и в психологии. Поэтому исследования в современной психологии напоминают попытку разобраться в содержании и смыслах души исходя из знания ее носителя – тела живого существа или человека. Все потуги психологии напоминают главенство в отражении феноменов психики принципов механицизма, который пытается понять смысл целостности души на основе анализа ее частей. Из теории систем известно, что знание частей системы не дает знания эмерджентных качеств как целостных свойств системы, не говоря уже о необходимости знания метацелостных свойств структур уровней бытия.
В основе методологии исследования лежит диалектика, которая позволяет создавать умозрительные конструкции сложных многомерных объектов на основе тождества противоположных категорий. В работе также используются общенаучные методы и принципы: соответствия, дополнительности, системности и синергетики, методы абстрагирования и идеализации, позволяющие в одной плоскости представить реальные изменения, происходившие в процессе эволюции живого на Земле за большие временные периоды.
Появление души в развитии систем бытия в направлении снизу вверх наукой рассматривается как естественная последовательность качественных переходов от уровня неживого к живому, от живого к человеку, от человека к обществу и т. д. Причем возникновение качественно нового уровня не перечеркивает предшествующих уровней. Поэтому становление качественно нового уровня мышления – сознания – будет рассматриваться как закономерный результат диалектического отрицания предшествующего уровня развития – бессознательного. Оно становится возможным с появлением человека в системе определенных (изменившихся) общественных отношений.
Философия как свободное критическое (в понятиях) мышление может смотреть на вещи шире, чем частные формы отражения, так как философия в отличие от других форм общественного сознания не детерминирована: во-первых, границами меры используемых ею категорий, которые, как правило, универсальны и безграничны; во-вторых, выбором исходных оснований, который часто бывает обусловлен значимостью результатов развития практики или той или иной господствующей в общественном сознании идеи, возведенной в ранг идеологии в определенный момент истории развития общества.
Потому характер любого частного философствования если и отражает объективные стороны бытия, то все же оказывается определенным авторским оформлением субъективной позиции самого мыслителя. У философии как формы общественного сознания имеются свои специфические принципиальные ограничения видения мира. Эти границы обусловлены не только невозможностью применения количественных методов научного отражения, но и тем, что философия, по факту существования «человека в мире», не может обойти один из основополагающих принципов софистов, который был сформулирован еще во времена Античности Протагором (ок. 485–410 гг. до н. э.): «Человек – мера всех вещей» [3, с. 696–704].
Различное отражение мира в философии происходит не по причине того, что каждый человек чувствует мир явлений по-своему, но потому, что он ментально думает о вещах по-разному, в особенности там, где ощущения перестают непосредственно отражать действительность, например, при создании целостных моделей мира из знаний о достижениях всех форм общественного сознания – онтологических учений – или при создании феноменального мира исходя из трансцендентных оснований как причин законов действительности – метафизики. Все это приводит к появлению множества субъективных, по-своему философски целостных (в силу привязанности суждений к общим исходным положениям) картин отражения в общем-то одного и того же мира. Таким образом, философия, хотя и стремится к предельно целостному отражению мира, сама как форма общественного сознания не тяготеет к созданию общепланетарного духовного учения, как это имеет место, например, с частными науками, в рамках которых исследования всегда носят аспектный (предметный) характер и не претендуют на категориальную универсальность выводов. Поэтому философия как свободное критическое (в понятиях) рефлексивное мышление не обязана ограничиваться лишь одними научными воззрениями, которые в силу своей значимости для развития социума сегодня возведены в ранг идеологии: в одном случае в виде сциентизма, а в другом – антисциентизма [4, с. 32–51].
Только в эпоху становления классической науки Просвещения XVIII века, когда человечество, воодушевленное своими первыми научными успехами, поверило в бесконечные возможности своего разума, наука стала возводиться в ранг идеологии. Пафос (то есть восторженный дух) того времени великолепно передал в своих литературных произведениях Жюль Верн (1828–1905) [5, с. 152–156]. Но еще раньше Д. Юмом (1711–1776) и И. Кантом (1724–1894) были высказаны сомнения в бесконечных возможностях рационального подхода в отражении явлений мира. К сегодняшнему дню наука в своем развитии прошла четыре научные революции, которые сопровождались сменой идеалов научной рациональности – от классического до постнеклассического. Причем новые идеалы не уничижают прежние, старые существуют в своих границах параллельно с новыми [6, с. 177–182].
Демаркация науки и ненауки всегда осуществлялась при помощи критериев научности. Но поиск четких границ был свойственен лишь науке XIX века. Затем начались разногласия по вопросу о значимости самих критериев научности (верификация, фальсификация, простота, красота, прагматизм, конвенционализм, этика), и в 70-е гг. XX века позиция, согласно которой возможно однозначное определение критерия подлинной науки, уже рассматривалась как анахронизм. Понятие научности перестали связывать с каким-либо одним или набором критериев; считалось, что границы научности должны быть заданы социально-культурными параметрами. С развитием науки неизбежно разрушаются привычные каноны. Наука развивается – и критерии должны соответствовать изменениям.
Все это в конце концов привело к смещению критериев достижения объективности научного отражения явлений от идеалов классической науки, требующих устранения субъекта из последнего теоретического суждения об объекте, в сторону определения этических норм, к субъекту в лице ученого, научного сообщества, общества в целом и человечества. Все эти представления о субъектах были сформированы в эпоху становления классической науки, сегодня в идеалах постнеклассического научного познания их необходимо рассматривать в качестве акторов в структуре субъектности – субъекта с инструментами.
Понятие субъектности впервые возникает в связи с оценками объективности знаний при изучении квантовых объектов. С переходом науки к отражению объектов микро- и мегамира, которые лежат за пределами непосредственного восприятия, в науке появляется необходимость использования специальных инструментов. Именно использование спецтехники позволяет субъекту-исследователю перевести неощущаемые изменения объектов в ранг наблюдаемых. Поэтому научные оценки требуют учета влияния на результаты наблюдений параметров используемых для этого приборов. Если идеалы объективности классической науки требовали устранения субъекта из конечного научного продукта – теории, а в неклассической науке возникала настоятельная необходимость учета влияния характеристик инструментов, используемых для наблюдения объекта, то в постнеклассической науке предъявляются определенные требования к личности субъекта в виде идеалов научности гуманитарной и гуманистической направленности [7, с. 127–129].
В частности, проблемы этики становятся особенно актуальными для бытия современного человека в условиях всевозрастающей опасности, связанной с увеличением плотности распределения потоков энергетического и информационного потребления в мире, обусловленных бурным развитием мировой цивилизации, что выражается в виде все увеличивающегося производства товаров и услуг. Само существование человека в условиях культа денег и, как следствие, падения нравственности в обществе превращает достижения науки в один из феноменов глобальных проблем человечества, угрожающих и способных отбросить развитие всего человечества к начальному этапу. Дело, конечно, не в самой науке, а в уровне нравственной культуры субъектов человечества, от духовности которых зависит использование результатов науки на благо всех людей на планете. В мире, где все измеряется деньгами, о должной нравственности не приходится говорить. Нравственное несовершенство человека сегодня превращается в главное препятствие для дальнейшего развития науки и техники. Все это приводит, в рамках философии науки, к осознанию новых границ возможностей научного познания, которые связаны с нравственностью личности [8, с. 536–560].
Представители неопозитивизма второй волны в лице участников Венского кружка стали прилагать усилия по реальному воплощению огюстовского лозунга «Каждая наука сама себе философия» и идейно освобождать науку начала XX века от метафизических воззрений представителей немецкой классической философии. Позитивисты считали, что наука стала достаточно самостоятельной и способной развиваться без вмешательства других форм общественного сознания, таких как философия, религия, мораль и др. Это сильно ограничило научное мировоззрение [9, с. 28–32].
Все эти усилия сегодня способствуют превращению классической науки в технонауку. К тому же наука в силу аспектного (предметного) характера отражения по определению оказывается неспособной дать однозначный ответ на многие мировоззренческие вопросы современности, а потому является ограниченной матрицей господствующей научной картины мира, которая к тому же единичному человеку (в силу ограниченности играемых им ролей в социуме) не дана в знаниях в целом. Но научная картина мира все же не может претендовать на то, чтобы быть единственной формой современного мировоззрения и рассматриваться в качестве достойной замены онтологии, так как онтология исследует не только достижения науки – она также пытается охватить достижения всех других форм общественного сознания – мифа, религии, искусства, морали, права, философии и др.
Ограниченность научного взгляда на мир обусловлена еще и тем, что научные измышления оказываются построенными на декларациях или вере в существование одного субстанционального начала – материи. Причем статус материи в науке однозначно не определен, и сегодня представления о нем подвергаются сомнениям со стороны естествознания, а именно в свете данных квантовой физики. С этих позиций научное отражение феномена души выглядит явно ограниченным изучением лишь психики, так как наука вынуждена рассматривать возникновение и развитие всего живого и его высших проявлений (психики и сознания) исключительно исходя из активности материальных систем на Земле.
Но ограниченность научного отражения обусловлена не только неопределенностью науки в формулировке исходных положений, трактующих начала бытия, но и особенностями методологии отражения феномена души. Научные представления приходится вынужденно строить на основе исключительно наблюдений в земной жизни. Самой развитой формой проявления души на Земле считается феномен человеческого сознания. Сознание определяется как способность человека созерцать порядок в беспорядке своих всевозможных чувственных отношений с миром явлений. В силу того, что человек вынужден отражать мир исходя из своего субъективного восприятия, в исследованиях духовных феноменов общества и человечества в целом он оказывается обреченным лишь на отражение механицистских (редукционистских) свойств целого. А если вопрос касается отражения явлений индивидуальной души, то наука оказывается вынуждена познавать одну душу через другую душу. Познание подобного подобным соотносится с методом аналогии и обрекает науку на перманентное моделирование [10, с. 174–175].
Метод аналогии сегодня получил широкое распространение в познании благодаря активному внедрению во все сферы жизни и науки компьютерных и цифровых технологий. Но метод аналогии всегда считался более слабым способом отражения по сравнению с дедуктивным методом, который используется в теоретических построениях. Революционные прорывы в любой науке происходят не в направлении от эмпирических данных, выступающих в качестве гипотез, к их логическому оправданию, а в направлении от выдвижения неожиданных умозрительных гипотез к построению теории, где теория является предельной формой научного познания. Поэтому эмпирическое познание и моделирование могут иметь смысл лишь в промежуточном или вспомогательном значении на пути к построению теоретического знания на этапе развития «нормальной науки». Нормальная наука, согласно Т. Куну, сосредоточена на решении мелких головоломок и, как правило, не нацелена на крупные открытия [11, с. 16–27]. Может оказаться так, что теоретическая психология вынуждена будет всегда плестись за мелкими приращениями эмпирических наблюдений, которые к тому же находятся в значительной зависимости от уровня развития в истории инструментальной базы, для обработки результатов эмпирических данных, которые сильно зависят от используемой методологии, и субъективных спекуляций форм интерпретации результатов исследований. Поэтому иногда психологию называют наукой о душе без души: в силу своей слабости она не способна учитывать влияние сфер более высокого порядка – духовной сферы личности, общества, человечества и Космоса [1, с. 3–20].
Но там, где не позволяют говорить об идеалах и нормах научного познания, становятся возможными философские спекуляции, в результате которых предлагается широкий спектр возможных путей развития исходя из самых разных авторских начальных предположений в качестве оснований. Поэтому все философские системы носят личностный и авторский характер. И не исключено, что со временем какое-то одно из философских направлений окажется способным определять новое научное направление исследований. А остальные предложенные идеи, которые не нашли своего воплощения в действительности, просто забудутся или будут храниться в анналах культуры, если повезет, и ждать своего звездного часа.
Философия по отношению к прошлому и будущему осуществляет разные функции. Так, если в ретроспективном плане философия выполняет мировоззренческую функцию в попытке онтологически синтезировать достижения всех форм общественного сознания, то в перспективном плане философия осуществляет методологическую функцию и может предложить целый спектр возможных подходов и путей развития человечества вообще и науки в частности. Именно благодаря создаваемой философией информационной избыточности в научном познании в дальнейшем возникает реальная возможность интеллектуального отбора из многообразия формально возможных направлений развития тех направлений, которые позволяют построить научные теории на основе выдвижения гипотез и их экспериментальной проверки количественными методами [12, с. 44–59].
Данный интеллектуальный отбор научных теорий в сообществе ученых напоминает позицию философа науки С. Тулмина (1922–2009). Центральным термином его концепции является «понимание», которое он отождествляет со знанием. Понятие одновременно выражает и понимание. По Тулмину, необходимо рассмотреть рост понятий (развитие понимания) в их исторической эволюции. Это требует создания «эпистемологического автопортрета». Инструментарий он заимствует из эволюционной концепции в биологии. Так, С. Тулмин вводит термины «эволюция человеческого понимания», «популяция понятий», «коллективные понятия», «концептуальные популяции», «интеллектуальный отбор», «интеллектуальная экология», «интеллектуальная ниша». Содержанием его эволюционной теории является изменение популяции понятий, характеризующих коллективную интеллектуальную деятельность. Концепция Тулмина может быть классифицирована как социально-биологическая эволюционная эпистемология. Суть концепции – научное познание коллективно; основу человеческого понимания определяет преемственность в единой системе «популяция идей – популяция ученых» [13, с. 4–7].
На наш взгляд, говорить о развитии идей в «популяции ученых», конечно, можно, но автор упускает из вида сам акт возникновения новых идей, который, как известно, не может иметь в качестве причины коллектив ученых. Генерация новой идеи есть дело исключительно индивидуальное, новая идея рождается в голове одной личности, а не коллектива. Научное сообщество может служить лишь провоцирующим фактором появления новых идей в голове отдельного ученого, причем далеко не самым важным. В каком-то смысле концепция Тулмина может рассматриваться в качестве частного случая идеи, которая была представлена еще раньше как механизм переоценки ценностей в обществе в концепции «социального дарвинизма» Ф. Ницше (1844–1900) [14, с. 68].
Возникновение сознания на Земле подобно появлению нового измерения (возможности изменения в новой плоскости) в системе более быстрого развития души, чем было ранее на животном уровне бытия, что позволяет душе в аватаре тела человека выйти на качественно новые уровни своего существования. Такая возможность позволяет человеку благодаря памяти свободно менять точки отсчета в отражении любых отношений. Это дает возможность сознанию не только наблюдать отдельные явления в масштабе реального времени, но и интегрировать их с опытом прошлого, получая новые пространственные образы. Другими словами, человек благодаря памяти и сознанию оказывается способным воспринимать протяженные во времени события как пространственные формы. Все это позволяет человеку осмысливать (наделять смыслами) и теоретически исследовать любые формы движения и развития систем в неживой, живой природе и обществе. Таким образом, человек с приобретением сознания одновременно приобрел необходимую составляющую развития в виде информационной избыточности, которая позволяет относительно замкнутым системам организма человека проявлять себя так, как будто он живет в неограниченно открытом мире возможных изменений внутреннего бытия [12, с. 44–59].
Если рассматривать человека как воплотившего в себе в свернутом виде на уровне бытия своего генома (в структуре своих клеток) и феноменов бессознательного (в своем головном мозге) достижения всех предшествующих уровней развития души у живых существ на Земле, то у человека благодаря сознанию возникает возможность взглянуть на себя как бы со стороны, с точки зрения стороннего наблюдателя, существующего подобно Богу вне времени. Думается, именно поэтому сознание способно служить основой самосознания, рефлексии и разума.
Сознание своим возникновением в качестве необходимого условия обязано определенному уровню развития своего бессознательного. Сознание как один из аспектов проявления души в виде нового качества как бы врывается в уже давно существующие структуры бессознательного души, из чего следует, что с появлением сознания оно неизбежно должно повлиять на свое основание – бессознательное, дифференцируя его. Одна часть бессознательного стала рассматриваться как опыт отношений живого с внешним миром, полученный за все время эволюции живого на Земле, который в конце концов постепенно привел к возникновению человека с возможностью дальнейшего развития его психики и появления сознания. Возможность сознания физиологически обусловлена началом формирования больших полушарий головного мозга человека, что было результатом нового эволюционного процесса. Архитектура мозга адаптировалась к решению новых задач в изменяющемся окружающем мире, но на каком-то этапе далее мозг стал функционировать как информационная сетевая структура, способная развиваться посредствам отражения относительно быстро меняющихся общественных отношений. Другая часть бессознательного обусловлена тем, что живое не может быть связано исключительно с процессами, происходящими на планете Земля. А потому душа любого живого существа по определению должна быть связана с системами, которые существовали до возникновения Земли – Космоса. Да и вообще появление человека, общества и человечества, скорее всего, не следует рассматривать как феномен, который определяется только случайным стечением всех обстоятельств на Земле. Его необходимо воспринимать как закономерное развитие и взращивание зерна космической души, попавшей на благодатную почву нашей планеты.
Но наука вынуждена судить о жизни, исходя исключительно из знания положения дел на Земле, поскольку у нее нет убедительных эмпирических данных о существовании жизни где-либо еще в Космосе. Таковы уж строгие правила научности. Придерживаясь философских мировоззренческих позиций, было бы наивно предполагать, что жизнь в Солнечной системе, где Солнце существует как рядовая звезда среди 1022 других звезд в системе актуально бесконечной Метагалактики, могла возникнуть лишь на Земле. Легче поверить в то, что феномен жизни все же относится ко всему Космосу, а потому отражение земной эволюции жизни, хотя бы на философском уровне, обязательно должно допускать метафизическую преемственность с жизнью всей Вселенной. Другими словами, эволюция земной жизни металогически (как частный случай) должна отражать общие процессы развития всего Космоса. Потому все процессы жизни на Земле относительно масштабов Космоса окажутся не уникальными и должны рассматриваться в качестве необходимых этапов взросления всего человечества [15, с. 56–59].
Поэтому связь развития души человека с высшими формами эволюции Вселенной металогически нельзя исключать – она должна быть обязательной. Феномен души, возникающей вместе с зарождением жизни, должен рассматриваться не только снизу – исходя из знания генезиса или данных изучения материальных предпосылок возникновения живых систем, но и сверху (холистически) – исходя из знания формально возможных метафизических конструкций, отражающих знания и учитывающих влияние на живое необходимых отношений систем метацелостного уровня. Именно из металогического допущения по отношению к человеку существования высших уровней – сфер космического бытия возникает вопрос: «Почему космические формы необходимо рассматривать как высшие формы по сравнению с формами жизни на Земле?» Это положение вытекает из соотношения возраста Солнечной системы, который составляет приблизительно 4,6×109 лет, и возраста Метагалактики – 14×109 лет соответственно. При этом сама бесконечно большая Метагалактика по определению никогда не сможет превзойти потенциально бесконечную Вселенную. Вселенная считается потенциально бесконечной, так как ее расширение происходит быстрее отражения. Феномен бесконечного расширения пространства, с одной стороны, отражает факт всеобщей деградации Вселенной, где энергия более высокого порядка переходит в энергию более низкого порядка. Так, ядерная энергия звезд постепенно переходит в электромагнитную энергию излучения, а последняя превращается в тепловую. Если мысленно проэкстраполировать эту последовательность превращений систем бытия на будущее, то можно заключить, что через сотни миллиардов лет может наступить тепловая смерть Вселенной. Об этом свидетельствует естественное стремление объектов Метагалактики, согласно второму началу термодинамики, к максимуму энтропии. Вместе с тем эта всеобщая направленность в сторону деградации всех процессов в мире создает необходимые условия для возникновения и развития самоорганизующихся систем живого, человека, человечества и т. д. Деградация систем неживой природы, по сути, путем рассеяния несвязанной свободной энергии в пространство создает необходимые условия для возникновения и саморазвития открытых, нелинейных, диссипативных систем на Земле: сначала в виде автокаталитических химических реакций, потом живых систем и далее человека, человечества. Также, думается, нельзя исключать существования (пока лишь теоретически возможного) разумных образований масштабов Галактики, Метагалактики и всей Вселенной. Получается, что состояние Вселенной можно соотнести с состоянием организма человека, который одновременно как материальное тело деградирует, а в духовном смысле – развивается.
Но при всей потенциальной неограниченности расширения Вселенной ее составляющие части – планеты, звездные системы, галактики, метагалактики и т. д. – по отношению друг к другу вполне допускают рассмотрение их в качестве актуально бесконечных малых и/или больших величин. Понятие актуальной бесконечности четко сформулировал и ввел в философию эпохи Возрождения Н. Кузанский (1401–1464). Это понятие имело решающее значение для возникновения и становления коперниканского видения мира и ломки аристотелевской модели физики и космологии [16, с. 17–70].
Так, например, галактика вполне может рассматриваться в качестве актуальной бесконечно большой системы по отношению к размерам Земли: по сравнению с галактикой планета представляет собой «пылинку» – актуально бесконечно исчезающую материальную точку. Смещение источника точки сборки живого не отменяет материалистического основания в развитии феномена души, с той лишь разницей, что теперь источником возникновения и развития души становится не только пространство событий маленькой Земли, – нужно учитывать также влияние всего Космоса. Следует также отметить, что эти допущения никаким образом не опровергают представления современной науки. Но феномен жизни души на Земле благодаря этому смещению может теперь рассматриваться как результат взаимодействия нижнего материального и верхнего космического уровней бытия. Оценивая темпы развития человеческой цивилизации и культуры на Земле и на тот уровень, которого она смогла достичь всего лишь за несколько тысяч лет, прошедших от появления первых систем клинописи до создания систем искусственного интеллекта, можно говорить о нелинейном характере развития интеллектуальных способностей людей. И теперь можно себе представить, каких же высот мог бы достичь космический разум, который по своему развитию должен опережать человечество на десять миллиардов лет. И это только если ограничиваться рамками рассмотрения нашей Метагалактики, которая, думается, является лишь частью Вселенной [17].
Именно эти измышления не позволяют четко ответить на вопросы о возникновении и становлении живых систем с душой на Земле. Если считать, что жизнь возникла случайно из неживой материи, то подсчеты ученых показывают: вероятность такого события настолько невероятна (p ≈ 10-1081), что при естественном ходе событий для возникновения жизни не хватило бы времени существования не только Земли, которой около 4,5 млрд лет, но и всей Метагалактики, возраст которой оценивается в 14 млрд лет [18, с. 1–3].
Если в своих рассуждениях уйти в другую крайность и рассматривать возникновение живого в качестве результата деятельности Абсолютного ума Бога, то возникают вопросы типа: «Зачем тому, кого можно считать Абсолютом, развиваться и вообще куда-то двигаться?» Для Абсолюта нет необходимости развиваться, так как Он Сам – предел всего. Если Абсолюту потребуется развиваться, то Он перестанет быть Абсолютом. Двигаться и развиваться можно только от недостатка чего-то. По Сартру, «сознание как ничто, отрицательность пусто и всегда испытывает неутолимую потребность быть полным, целым»[19, с. 119]. Хотя Сартр говорит о сознании человека, логика его рассуждений не лишена смысла также и для анализа космического Сознания, если, конечно, предположить, что данный феномен методологически имеет место. При таком абсолютном значении Абсолюта становится трудно обосновать переход абсолютного знания Бога (что для человеческого сознания является информацией о законах развития действительности) в энергию вещей реального движения. Поэтому можно предположить, что представления об Абсолюте могут иметь лишь относительный статус и являться актуально бесконечно большими величинами лишь для своих актуально бесконечно малых составляющих [20, с. 130–138]. Потому нашей задачей становится обоснование относительности возникновения живого на нашей планете как результата взаимодействия между нижними и верхними уровнями бытия.
Земля возникает на определенном уровне развития Космоса, а потому способна выступить лишь чем-то производным по отношению к чему-то более совершенному, прошедшему более длительный путь в своем развитии в истории Вселенной. Без этого допущения влияния метацелостных уровней бытия на возникновение и развитие различных форм систем души на Земле (как на животном уровне, так и на уровне человека) при своем отражении по определению системы окажутся неполными и ограниченными. Не найдут своего объяснения такие явления психики, как феномен опережающего отражения, феномен интеллектуальной интуиции, творческие озарения и паранормальные явления. При этом, как известно, интуицией могут обладать не только люди, но и животные, которые не обладают человеческим сознанием. Другими словами, феномен связи земных душ с космическим уровнем бытия вовсе не связан с появлением у человека качественно нового уровня развития души на Земле – сознания, а существовал всегда и на всех уровнях бытия. В объяснении этих феноменов рационалистическая наука оказывается, как правило, бессильной, так как наука признает существование лишь одной реальности – вещественной, которая при глубоком рассмотрении с позиций самой науки не может даже быть равной материи. Другими словами, материя может оказаться вовсе не материальной (скорее, невещественной), исходя из современных представлений теоретической физики.
Сегодня человечество активно пытается осознать феномен виртуального бытия, который получил новый импульс своего философского осмысления. Первое переосмысление виртуального бытия было связано с попыткой адаптации концепции бытия Аристотеля к представлениям христианства. Так, Фома Аквинский, модернизировав представления Аристотеля, предложил многоуровневую модель организации души человека [21, с. 81–102]. Сегодняшнее переосмысление бытия в контексте виртуальной реальности, думается, связано с экстраполяцией и мировоззренческой абсолютизацией достижений в сфере информационных технологий и систем искусственного интеллекта (ИИ). Онтологически виртуальное бытие отождествляется с информационным, а потому материя как общее основание всех форм существования – вещей – может оказаться далекой от современного понимания материального, а если быть точнее, то далекой от существующих на сегодняшний день определений материи. Материя при всей своей формальной простоте быть вещью – одно из самых трудноопределяемых понятий. Сегодня существуют два основных определения понятия «материя». Начнем с более позднего по времени, но более распространенного ленинского определения, которое лежит в основе диалектико-материалистических формулировок этого термина. Материя – это философская категория для обозначения объективной реальности, которая дана человеку в ощущениях его, которая копируется, фотографируется, отображается нашими ощущениями, существуя независимо от них [22, с. 131]. Второе определение связано с воззрениями Платона и Аристотеля, которые под материей понимали пустое пространство как возможность появления постоянно становящегося и исчезающего мира чувственно воспринимаемых вещей. Материя в этом смысле созвучна с понятием «апейрона» Анаксимандра (611–546 гг. до н. э.), который впервые понял, что в качестве первоначала вещей не может быть никакая вещь, и предложил в качестве субстанции «апейрон», в дальнейшем послуживший прообразом материи [23, с. 104–112]. По Платону, мир локализованных в миге вещей, находящийся под миром существующих идей, одновременно «везде и нигде» [24, с. 451–456].
В таком представлении трудно установить связь между непрерывно размазанным полем эйдосов-мыслей (законов природы) по всему Космосу и локализованным миром становления и исчезновения ощущаемых вещей. Аристотель попытался устранить данный недостаток в онтологии Платона. Аристотель дифференцирует платоновский мир вещей на форму, выражающую идею конкретной вещи (гетерогенность), и материю (гомогенность). Материя по Аристотелю – это первичный материал, потенция вещей. Форма же как целевая причина конца выступает активным началом в придании материи актуального состояния, то есть форма превращает материю из возможности в действительность [25, с. 18–20].
Получается, что материя как общее основание существования всех возможных форм сама по себе ни в какой форме не может быть представлена. Материю, выражаясь современным языком, можно представить в образе «черного ящика», из которого живой Космос благодаря своему мышлению (или бытию) может получать, согласно своим конечным причинам или целям в виде общеродовых идей – сущностей, любые формы как отражение ощущаемых человеком вещей. Известно, что человеку для восприятия доступны только формы, но никак не основание – материя сама по себе, которую и представить-то невозможно, так как любая попытка представления уже есть оформление. Другими словами, все то, что не имеет формы, более походит на Хаос, который не имеет порядка и потому как для Космоса, так и для человека немыслим и непознаваем.
Интересно, что эти античные представления перекликаются с современными данными науки. Так, из данных теоретической квантовой физики известно, что определяющая все физические явления планковская длина составляет 1,616×10-35 метра, а планковское время – 5,391×10-44 секунд. Сегодня у человечества нет такого прибора, который смог бы зафиксировать скорости взаимодействия объектов предельных размеров для нашей реальности. Чтобы представить уровень эмпирических возможностей современной науки и определить, что это за порядки, приведем лишь один пример. Самый чувствительный инструмент, который имеется у современной науки, – это электронный микроскоп, разрешающая способность которого составляет 10-8 см, что сопоставимо с размерами атома, которые гораздо больше размеров электрона. Все эти возможности современной физики оказываются невообразимо далекими от планковских величин.
Квантовая природа пустого пространства может быть обусловлена необходимостью движения. Как показал еще Зенон Элейский (490–430 гг. до н.э.) в своих апориях, в непрерывном пространстве мыслей Космоса или бытия, описанном Парменидом (ок. 540 или 515–470 гг. до н.э.), движение оказывается немыслимым без противоречий [27]. Под виртуальными частицами в квантовой физике понимаются такие частицы, которые непосредственно не наблюдаются, поскольку существуют чрезвычайно короткое время в процессе взаимодействия между наблюдаемыми частицами. Физика считает, что виртуальные «как бы частицы» проявляют себя как любое квантовое число и участвуют во всех реальных взаимодействиях элементарных частиц в вакууме и с вакуумом, которые необходимо возникают для выполнения законов сохранения энергии. А поскольку физика не может отказаться от законов сохранения, на которых основывается, считается, что любое физическое взаимодействие происходит с участием вакуума, где вакуум ведет себя как любое квантовое число, которое как бы все время добавляет из вакуума недостающее. Таким образом, материя может оказаться чем-то вовсе не материальным (точнее, невещественным), а представленным квантовыми числами, существующими за пределами планковской длины и времени. Тогда весь вещественный мир окажется набором квантовых чисел, основание которых будет выступать виртуальным уровнем другого порядка. Может, действительно прав был Пифагор, говоря: «Все есть число» [29, с. 129–139], но в отношении не натуральных, а квантовых чисел. В этом смысле душа есть у любой вещи как информационное отражение уровня бытия зазеркалья-основания или так называемой константной виртуальной реальности [30], недоступной для прямого отражения из мира реального.
Но и связь души с высшими уровнями устройства мира тоже имеет под собой рациональные основания, если к ним относиться не как к абсолютному, раз и навсегда заданному уровню Бога, а как к бытию чего-то более высокого уровня.
Заключение
Понятие души сегодня стараются не использовать в психологии, так как современная наука о душе оказывается неспособной отразить данный феномен во всей своей полноте. В психологии, в сегодняшнем ее виде, не обсуждаются вопросы, связанные с высшими проявлениями души, такими как дух, духовность. Попытка увидеть качество души на основе отражения тела может дать лишь ограниченное знание о суммативных качествах целого. Ценность человека все же более определяется эмерджентными характеристиками личности, такими как «дух», «душа», «разум», «интеллект» и «сознание», которые обусловлены бытием человека в структуре систем большего порядка – общества, человечества и Космоса.
Рационалистическая наука, исходящая только из материалистических оснований, оказывается ограниченной и бессильной в объяснении высших явлений психики метацелостного уровня отражения. Понятие души в каком-то смысле соотносится с понятием информации. Из теории информации известно, что информация, понимаемая как содержание смысла того или иного события, не зависит от своего носителя и может быть представлена множеством форм. Поэтому исследование феномена психики в качестве информационных процессов организма не может сводиться к исследованию лишь его материального основания, как это имеет место в современной психологии.
Сегодня наука вообще и психология в частности находится в мировоззренческом кризисе, который обусловлен, с одной стороны, чрезмерным возвышением значимости методов естествознания в общественном сознании, а с другой – ограниченностью науки материальным основанием. С этих позиций научное отражение феномена души выглядит явно ограниченным, а именно нацеленным лишь на изучение частных аспектов души – психики, так как наука вынуждена рассматривать возникновение и развитие всего живого и проявление его высших форм (психики и сознания) исходя исключительно из активности материальных систем на Земле.
Другим фактором кризиса науки является отсутствие четких критериев научности. Научность сегодня перестала связываться с каким-либо одним или набором критериев (верификация, фальсификация, простота, красота, прагматизм, конвенционализм, этика). Стало понятно, что границы научности должны быть заданы социально-культурными параметрами. С развитием науки неизбежно разрушаются привычные каноны. Наука развивается, и критерии должны соответствовать ее изменениям. Сегодня на роль такого некритического (перманентно переосмысливаемого идеала) критерия научности претендует этика. Проблемы этики становятся особенно актуальными для бытия современного человека в условиях возрастающей угрозы, связанной с увеличением плотности распределения потоков энергетического и информационного потребления в мире, которая обусловлена бурным развитием мировой цивилизации, что проявляется в виде все увеличивающегося производства товаров и услуг. Само существование человека в условиях культа денег и, как следствие, падения нравственности в обществе превращает достижения науки в один из феноменов глобальных проблем человечества, угрожающих и способных отбросить развитие всего человечества к начальному этапу.
Меняются также идеалы объективности научного знания. Если идеалы объективности классической науки требовали устранения субъекта из конечного научного продукта – теории, а в неклассической науке возникала настоятельная необходимость учета влияния характеристик инструментов, используемых для наблюдения за объектом, то в постнеклассической науке предъявляются определенные требования к личности субъекта в системе субъектности в виде идеалов научности гуманитарной и гуманистической направленности.
В силу того, что человек вынужден отражать мир, исходя из субъективных представлений, в исследованиях духовных феноменов общества и человечества в целом он оказывается неизбежно обреченным лишь на отражение механицистских свойств целого. А если вопрос касается отражения явлений индивидуальной души, то наука оказывается вынужденной познавать одну душу через другую душу. Познание подобного подобным соотносится с методом аналогии и обрекает науку на перманентное моделирование.
Сознание как один из аспектов проявления души в виде нового качества как бы врывается в уже давно существующие структуры бессознательного души, из которого следует, что с появлением сознания оно неизбежно должно повлиять на свое основание – бессознательное, дифференцируя его. Если одна составляющая бессознательного преобразуется в подсознание под непосредственным влиянием сознания, то другая, более древняя и глубинная часть должна включать области, которые остались под влиянием процессов, происходящих не только на планете, и области, развитие которых происходило под влиянием систем, существовавших до возникновения Земли. Таким образом, феномен души, появляющейся вместе с зарождением жизни, должен рассматриваться не только снизу – исходя из знания генезиса или данных изучения материальных предпосылок возникновения систем живого, но и сверху (холистически) – исходя из знания формально возможных метафизических конструкций, отражающих знания и учитывающих влияние на живое необходимых отношений систем метацелостного уровня. Последнее требует использования возможностей философии, язык категорий которой не знает ограничений.
About the authors
Rafail A. Nurullin
Kazan (Volga region) Federal University
Author for correspondence.
Email: nurulla958@mail.ru
SPIN-code: 4472-3348
Doctor of Philosophy, Professor of the Department of General Philosophy
Russian Federation, KazanReferences
- Bratus B.S. To the problem of man in psychology. Questions of psychology. 1997;5:3-20. (In Russ.)
- Nurullin R.A. Metaphysics of virtuality. Kazan: Publishing House of Kazan state technol. University, 2009. 544 p. (In Russ.)
- Volkova N.P. Protagoras' Measure of Things as a Criterion of Truth. Scholae. Philosophical antiquity and classical tradition. 2019;2(13):696-704. (In Russ.)
- Gusev D.A. Scientism and antiscientism as two images of the philosophy of science, two worldviews and two systems of human life navigation (historical, philosophical and general theoretical aspects). Philosophical thought. 2020;1:32-51. (In Russ.)
- Simbirtseva N.Yu. VERN (Verne) Jules (1828–1905). Literary encyclopedia of the Russian diaspora (1918–1949). 2001;1(4):152-156. (In Russ.)
- Stepin V.S. Philosophical Anthropology. Moscow: Higher School, 1992. 191 p. (In Russ.)
- Pugacheva N.P., Dorofeeva T.G., Dmitrieva S.Yu. Prospects for the search for a universal ideal of science. National Health. 2020;2:127-129. (In Russ.)
- Lebedev S.A. Philosophy and Methodology of Science. Moscow: Publishing House of Moscow University, 2024. 575 p. (In Russ.)
- Ilyichev A.A. The topic of fact in the philosophy of B. Russell and L. Wittgenstein. News of the University of Saratov. Series Philosophy. 2011;2(11):28-32. (In Russ.)
- Kurashov V.I. Beginnings of the philosophy of science. Kazan: Publishing House of Kazan University, 2004. 516 p. (In Russ.)
- Kuhn T. Structure of scientific revolutions. Moscow: Progress Publishing House, 1975. 287 p. (In Russ.)
- Nurullin R.A. Philosophical problems of determining the phenomenon of information redundancy. Socio Time/Social time. 2023;2(34):44-59. Availaible from: https://www.volgatech.net/sociotime/archive/ (In Russ.)
- Barаnova O.M., Kashin V.V. Evolutionist concept of understanding Stephen Tulmin. Bulletin of the University of Orenburg. 2003;1:4-7. (In Russ.)
- Heidegger M. European nihilism. Five main headings in Nietzsche's thought. Time and being. Moscow: Republic, 1993. 452 p. (In Russ.)
- Stepanova I.N. Life as a phenomenon of human existence. Bulletin of the Kurgan Humanitarian University. Humanities Series. 2013;4(31):56-59. (In Russ.)
- Chernyak V.S. Evolution of creative thinking in astronomy of the XVI–XVII centuries. Copernicus, Kepler, Borelli. Philosophy of Science. 2003;9:17-70. (In Russ.)
- Hawking S. A brief history of time. Per from Engl. A.K. Dambis. Moscow: AST, 2022. 320 p. (In Russ.)
- Stern B., Markov A., Mulkidzhanyan A. Probability of the birth of life. Trinity option – Science. 2019;6(275):1-3. (In Russ.)
- Sartre J.-P. Being and Nothingness: The Experience of Phenomenological Ontology. Moscow: Republic, 2000. 639 p. (In Russ.)
- Loschits I.V. The history of the concept of infinity from antiquity to Nikolay Kuzansky. Questions of philosophy. 2014;12:130-138. (In Russ.)
- Shilov E. The teachings of Thomas Aquinas about the soul: old problems, new solutions. Prerequisites for "tomistic synthesis". Bulletin of the Orthodox St. Tikhon Humanitarian University (PSTGU). Series 1. Theology. Philosophy. 2012;6(44):81-102. (In Russ.)
- Lenin V.I. Materialism and Empiriocriticism. The Complete work. In 55 vol. Vol. 18. Moscow: Publishing of political literature, 1968. 526 p. (In Russ.)
- Ignatenko E.A. Anaximander and his "apeiron". Siberian Philosophical Journal: History of Philosophy. 2023;2(21):104-112. (In Russ.)
- Plato. Collected works. In 4 vol. Vol. 3. Moscow: Thought, 1994. 654 p. (In Russ.)
- Polyarush A.A. The category of matter and form in Aristotle's philosophy as the theoretical basis of creative thinking. International Journal of Humanities and Natural Sciences: Philosophical Sciences. 2021;11-1(62):18-20. (In Russ.)
- Akulin E.V., Sviridova L.E. Black box cybernetics and artificial intelligence. Collection of scientific articles based on the materials of the VII International Scientific and Practical Conference 21.12.2021. Ufa: scientific and publishing center "Bulletin of Science", 2021. Pp. 43–46. (In Russ.)
- Asmus V.F. Elea School. Ancient Philosophy. Moscow: Higher School, 2005. 408 p. (In Russ.)
- Myakishev G.Ya. Virtual particles. Ed. by D.V. Shirkova. Moscow: Soviet Encyclopedia, 1980. 528 p. (In Russ.)
- Erovenko V.A., Mikhailova N.V. The role of Pythagoras and his school in the philosophical ideal of new mathematical knowledge. Mathematical flow tours and modeling. 2022;4(64):129-139. (In Russ.)
- Nosov N.A. Manifesto of Virtualistics. Moscow: Way, 2001. 17 p. (In Russ.)
Supplementary files