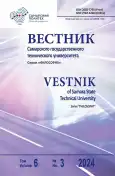Конструирование прошлого: между историей и памятью
- Авторы: Цымбал А.Г.1
-
Учреждения:
- Минский государственный лингвистический университет
- Выпуск: Том 6, № 3 (2024)
- Страницы: 61-67
- Раздел: ОБЩЕСТВО. КУЛЬТУРА. ЧЕЛОВЕК
- URL: https://journals.eco-vector.com/2658-7750/article/view/692986
- ID: 692986
Цитировать
Полный текст
Аннотация
В статье анализируются основные подходы к проблеме соотношения истории и памяти в работах исследователей. Рассматриваются концепции М. Хальбвакса, П. Нора, П. Хаттона, Э. Хобсбаума и др. Особое внимание уделяется дискуссиям о политике памяти и роли истории в формировании идентичности.
Ключевые слова
Полный текст
В последние десятилетия активно обсуждается проблема взаимоотношений истории и исторической памяти. Этот интерес обусловлен рядом факторов. Во-первых, в условиях глобализации активно идет процесс конструирования новых идентичностей, при этом апелляция к прошлому играет важную роль. Во-вторых, отмечается политизация истории, когда она используется в качестве инструмента текущей политики. Наконец, развитие новых технологий существенно расширило доступ к прошлому и возможности его репрезентации.
В связи с этим актуализировалась дискуссия о соотношении объективного исторического знания и субъективной исторической памяти. Одни исследователи подчеркивают их принципиальное различие, другие указывают на их тесную взаимосвязь и влияние памяти на историописание. Особое внимание уделяется использованию прошлого в политических целях, например, посредством создания новых традиций и ритуалов.
Цель данной статьи – проанализировать основные подходы к проблеме соотношения истории и памяти в работах теоретиков и практиков исторической науки. Акцент будет сделан на различных интерпретациях этой междисциплинарной проблемы.
Исторические и социальные науки не только заложили основы междисциплинарных исследований памяти, но и являются сегодня наиболее активными в области изучения «memory studies». Историческое сознание и память в социальном контексте – ключевые компоненты национальной идентичности.
Фундамент исследований памяти заложили несколько ученых. Одним из первых исследователей, обратившихся к феномену памяти, был французский социолог Морис Хальбвакс. В работе «Социальные рамки памяти» [1] он рассматривал память как явление коллективное, формирующееся под влиянием социальных групп. Хальбвакс ввел понятие «коллективная память», обозначив ею память группы людей об общих событиях прошлого.
Другой французский историк Пьер Нора выделил особые «места памяти» (lieux de mémoire) – символические элементы прошлого, которые концентрируют историческую память нации. К ним относятся памятники, музеи, архивы, юбилеи и пр. Нора подчеркивал разрыв между историей и памятью в современном мире [2].
Важное значение имеет концепция культурной памяти Яна Ассмана. В книге «Культурная память» он анализирует механизмы сохранения и трансляции коллективных воспоминаний в разных культурах через тексты, ритуалы, изображения. Ассман выделяет коммуникативную память о недавнем прошлом и институционализированную культурную память о событиях, уходящих в глубь веков [3].
С начала 1970-х гг. в контексте набиравшего популярность конструктивистского подхода исследователи обращают внимание на соотношение истории и памяти. В центре дебатов находится вопрос о том, не является ли сама историография формой культурной памяти, поскольку исторические источники представляют собой культурные артефакты, которые не отражают реальность прошлого, а скорее реконструируют или даже конструируют ее. Более того, историки не являются абсолютно объективными и беспристрастными в своих исследованиях и оценках. Они привязаны к своей исторической социальнокультурной позиции и личной перспективе. Отбор источников, исторических событий, конструирование нарратива посредством риторических приемов, придание смысла и неизбежная интерпретация приводят к тому, что историописание становится конструктивистским и нарративным процессом, обусловленным социально-политическими условиями и культурой.
Признание данного исходного положения привело к последующей дискуссии о доминирующей социальной функции историографии: научной или мемориальной. Должна ли история стремиться быть объективной и неангажированной или может иметь актуальную повестку и отражать чью-либо позицию? Данный вопрос являлся по сути центральным в так называемом немецком «споре историков» 1986–1987 гг. Вскоре практически во всем мире дихотомия истории и памяти стала одной из основных парадигм современных интеллектуальных дискуссий и «войн памяти». Собственный травматичный исторический опыт инструментализируется в публичной сфере различными группами идентичности. Память противопоставляется официальной «истории» для достижения целей в настоящем. Пьер Нора, анализируя данную дихотомию, говорил о «тирании памяти» [2], считал, что французскому обществу угрожает переписывание истории с точки зрения различных групп идентичности.
Ян Ассман [4, c. 9], пытаясь сгладить оппозицию «история против памяти», предложил термин «мнемоистория», определяя, что исследования памяти не противоположны истории, а являются ее поддисциплиной, наряду с интеллектуальной, социальной историей или историей идей.
Британский историк Патрик Хаттон развивал идеи о тесной взаимосвязи истории и памяти. В книге «История как искусство памяти» [5] Хаттон анализирует как классическую, так и постмодернистскую историографию с точки зрения работы историка с памятью. Он показывает, что любое историческое исследование опирается на определенную культурную память, избирательно относится к прошлому. Развивая концепцию «истории-памяти», он подчеркивает, что историки неотделимы от коллективной памяти своего времени. По его мнению, задача историков – не отрицать субъективность памяти, а понимать ее природу и взаимодействовать с ней. Разделение истории и памяти является условным. Историческая наука неразрывно связана с процессами коллективного воспоминания и не может существовать в отрыве от них.
В книге «История и память» Жак Ле Гофф представляет актуальную историю памяти с момента ее возникновения. В предисловии он кратко описывает свое понимание взаимоотношений между двумя формами обращения к прошлому. Для него это два разных, хотя и взаимовлияющих процесса организации прошлого. История как научная дисциплина должна стремиться быть объективной и оставаться основанной на вере в историческую «правду». Память – это сырье для истории. Она является живым источником, из которого историки черпают информацию. Историческая наука в свою очередь питает память и вступает в диалектический процесс памяти и забвения, переживаемый людьми и обществами [6, с. 11–12].
Аналогичным образом Дэвид Ловенталь в своей фундаментальной работе «Прошлое – чужая страна» проводит четкое разграничение между памятью и историей. В известной формулировке он подчеркивает, что прошлое – это чужая страна, черты которой формируются сегодняшним днем. Память и история обоснованно различаются: память неизбежна; история условна и поддается эмпирической проверке [7, с. 187].
Истоки оппозиции «история против памяти», столь распространенной в современных общественных дискуссиях, можно проследить в дебатах, вызванных работами социальных историков 1960-х годов, которые стремились написать «историю снизу» в марксистской традиции, противопоставляя «народную память» официальным документам прошлого. Например, постколониальная историография в направлении Subaltern Studies переписала колониальную историю с точки зрения колонизированных крестьян или «дважды маргинализированных» женщин. Сочетая подходы из антропологии и истории, используя письменные и устные свидетельства, историки пытались прочесть колониальные документы «между строк», обращая внимание на умолчания и пропуски [8, с. 39–43]. Память в этой традиции историографических работ обозначается как «контрпамять». Работа с «памятью» в этой традиции означает восстановление прошлого опыта, который был забыт или подавлен официальной историографией, репрессирован официальной историографией [9].
Иной подход к проблеме истории и памяти использовал Бернард Льюис, указавший на то, что существуют функции «историографии как памяти». Он различает: запомненную историю, т. е. коллективную память, по определению Хальбвакса; восстановленную историю, историографическую реконструкцию элементов прошлого, подавляемых коллективной памятью (которую Льюис рассматривает как современный европейский феномен), и выдуманную историю – версию истории, преследующую идеологическую цель [10].
Одним из наиболее глубоких размышлений о соотношении истории и памяти является основополагающая работа Питера Берка «История как социальная память», которая предвосхитила многие последующие разработки в области изучения памяти. Следуя за Хальбваксом и опираясь на современные исследования историописания, он рассматривает историографию также как продукт социальных групп [11, с. 98]. Как отбор, так и интерпретация исторических событий в историографии социально и культурно обусловлены. Однако он не отрицает возможностей, которые имеет в своем распоряжении историческая наука для создания методологически обоснованных, надежных и правдоподобных рассказов о прошлом. Берк призывает к созданию «социальной истории памяти», руководствуясь вопросами: кто хочет, чтобы кто помнил, что и почему? Чья версия прошлого записывается и сохраняется? По мнению Йорна Рёзена, «историческая память» является неотъемлемой частью исторической культуры, которая, в свою очередь, может быть определена как «область человеческой жизни, где история является частью социальной реальности» [12, с. 4]. История – это «содержательная связь между прошлым, настоящим и будущим». Историческое сознание, которое всегда формируется нарративом и основано на памяти, «имеет дело с прошлым как опытом; оно открывает нам паутину временных изменений, в которую вплетена наша жизнь» [12, с. 25]. Таким образом, одна из центральных функций исторического сознания заключается во «временной ориентации». Рёзен различает эстетическое, политическое и когнитивное измерение отношения к прошлому. Только последнее из них он относит к области исторических исследований, которые от всех других форм работы с сознательной памятью отличаются тем, что претендуют на научность. Претензии на истину и рациональность придают истории статус академической дисциплины или науки в широком смысле.
Иной подход к проблеме соотношения истории и памяти предложил британский историк Эрик Хобсбаум. В работе «Изобретение традиций» [13] он проанализировал, как в XIX веке в Европе активно создавались новые общественные традиции и ритуалы. Хобсбаум показал, что многие «древние традиции» на самом деле были изобретены заново или сконструированы в ответ на потребности современности. По мысли Хобсбаума, изобретение традиций – это способ конструирования особой исторической памяти, формирования национальной идентичности и лояльности граждан. С помощью ритуалов, символов и мифов создается иллюзия непрерывности с прошлым, хотя на самом деле эти традиции носят современный характер.
Хобсбаум продемонстрировал тесную взаимосвязь между историей и политикой памяти. Его концепция показывает, как историческая память может конструироваться в соответствии с нуждами настоящего. Данная проблема тесно связана с вопросом о роли истории в конструировании идентичности. Мобилизуя память о славном прошлом, политические акторы формируют чувство общей судьбы и единства нации. Однако историки указывают, что идентичность является гораздо более сложным и многослойным феноменом. В дискуссиях о памяти, которые ведутся среди историков, все большее значение придается тому, как историческая память представлена в индивидуальном сознании и какой эффект она порождает. Именно индивидуальное сознание производит посредством медиальной экстернализации органической памяти то, что впоследствии используется в качестве исторических источников (письма, документы и т. д.). Как можно описать такие процессы интернализации и экстернализации при написании истории – данный вопрос также актуален для исторических и междисциплинарных исследований [7, с. 44].
В дискуссиях вокруг «истории и памяти» возникло много проблем, поскольку эти два термина, как правило, рассматриваются параллельно для определения их различий и влияния на идентичность. Когда речь идет об истории, память часто функционирует как антоним, противоположность, а не дополнение истории. Сторонники данного подхода настаивают на принципиальном различии научной истории и субъективной коллективной памяти. Другие указывают на их тесную взаимосвязь и диалог. Историческая память проявляется в рамках комплексных культур памяти, в которых присутствует множество других способов запоминания. Таким образом, история может рассматриваться как одна из символических форм обращения к прошлому. Помимо истории в формировании культурной памяти участвуют и другие символические формы, такие как религия, миф, литература. Точно так же историография может выступать одним из носителей исторической памяти. Взаимодействие истории и памяти по-прежнему остается актуальной дискуссионной проблемой. От ее решения зависит не только развитие исторической науки, но и характер общественно-политических процессов. Особенно важно понимание механизмов взаимодействия истории и политики памяти, которая стала актуальной для многих современных государств.
Об авторах
Александр Георгиевич Цымбал
Минский государственный лингвистический университет
Автор, ответственный за переписку.
Email: aleksander.g.t@gmail.com
SPIN-код: 9796-2736
кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и социальных наук
Белоруссия, г. МинскСписок литературы
- Хальбвакс, М. Социальные рамки памяти / М. Хальбвакс. – Москва: Новое издательство, 2007. – 346 с.
- Nora, P. La France est malade de sa memoire / P. Nora // Le Monde. – 2006. – № 2 (105). – Pp. 6–9.
- Ассман, Я. Культурная память: Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности / Я. Ассман. – Москва: Языки славянской культуры, 2004. – 368 с.
- Assmann, J. Moses the Egyptian: The Memory of Egypt in Western Monotheism / J. Assmann. – Cambridge, MA: Harvard University Press, 1997. – 288 p.
- Hutton, P. History as an Art of Memory / P. Hutton. Hanover, NH: University Press of New England, 1993. – 255 р.
- Le Goff, J. History and Memory / J. Le Goff. – New York: Columbia University Press, 1992. – 265 р.
- Lowenthal, D. The Past Is a Foreign Country / D. Lowenthal. – Cambridge: Cambridge University Press, 1985. – 489 p.
- Erll, A. Memory in culture / A. Erll. – London: Palgrave, 2011. – 210 p.
- Фуко, М. Ницше, генеалогия и история / М. Фуко // Философия эпохи постмодерна: сборник переводов и рефератов. – Минск: ООО «Красико-принт», 1996. – С. 74–97.
- Lewis, B. History: Remembered, Recovered, Invented / B. Lewis. – Princeton, NJ: Princeton University Press, 1975. – 111 p.
- Burke, P. History as Social Memory / P. Burke // Memory: History, Culture and the Mind. – New York: Blackwell, 1989. – Рp. 97–113.
- Rüsen, J. History: Narration, Interpretation, Orientation / J. Rüsen. – Oxford: Berghahn Books, 2005. – 236 p.
- Hobsbawm, E. The Invention of Tradition / E. Hobsbawm, T. Ranger. – Cambridge: Cambridge University Press, 1992. – 322 р.
Дополнительные файлы