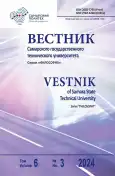Оборотная сторона цивилизации
- Авторы: Костецкий В.В.1
-
Учреждения:
- Санкт-Петербургский государственный академический Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина при Российской академии художеств
- Выпуск: Том 6, № 3 (2024)
- Страницы: 15-26
- Раздел: ОБЩЕСТВО. КУЛЬТУРА. ЧЕЛОВЕК
- URL: https://journals.eco-vector.com/2658-7750/article/view/692970
- ID: 692970
Цитировать
Полный текст
Аннотация
В статье излагается позиция, во многом противоположная той, что представлена в монографии Г. Маркузе «Эрос и цивилизация». Во-первых, труд никогда не свести к игре; во-вторых, эрос в цивилизации имеет репрессивную функцию. У труда в цивилизации есть не только экономическое значение, но и психотехническое. При игнорировании психотехнической роли труда начинаются изменения в социальной психологии, приводящие к навязчивым идеям в области политики и эротики. Ориентация общества на роскошь дополнительно провоцирует навязчивые идеи на грани безумия, охватывая институты власти, экономические проекты и сексуальные отношения. Не случайно при возникновении античной цивилизации под запрет попадала не только роскошь, но и комфорт.
Полный текст
«Созидающий башню сорвётся,
Будет страшен стремительный лёт, И на дне мирового колодца
Он безумье своё проклянёт».
Н. Гумилёв
«Безумие всегда связано с цивилизацией и её неуютностью».
М. Фуко
Наверное, вряд ли кого удивят такие, например, выводы: если в яблоневом саду в этом году был урожай яблок, то, возможно, он будет и в последующие годы, а, может, был и в предшествующие. Конечно, выводы на основе логики – еще не факт, но для того, чтобы их отвергнуть, аргументов понадобится много. Точно такая ситуация с человечеством: на планете Земля это сезонное явление. Антропологи на эволюцию «хомо сапиенс» отводят десять миллионов лет; между тем природные условия, пригодные для существования человечества, имеются как минимум пятьсот миллионов. То есть «эксперимент» с человечеством на Земле мог повторяться в прошлом регулярно, раз пятьдесят, а, возможно, столько же будет повторяться и в будущем. Как яблони не цветут весь год, так и человечество на Земле появляется лишь «весной».
В нашей короткой «истории людей» значительная часть приходится на «первобытную культуру», культуру ритуального огня. Почему ритуального? Потому что других целей не было: климат был тёплым, мясо не ели, ночью не работали, металлургией и керамикой не занимались. Огонь был востребован не для хозяйственных целей, а для психотропных воскурений с последующим развитием ритуала вокруг него. Еще Геродот писал о том, что германцы перед боем бросают в костёр белену, а скифы бросают коноплю на досуге. С галлюциногенными воскурениями связана трансовая практика как «руководящая и направляющая сила» всей «первобытной культуры», превратившаяся в итоге в «шаманизм». Археологи находят следы костров, которым более миллиона лет.
То, что историки относят к цивилизации (монументы, письменность, города, скотоводство, земледелие, гигантомания строительных работ), появилось на Земле в виде отдельных очагов не ранее пятнадцати тысяч лет назад. Связующим звеном между первобытной культурой и цивилизацией является только шаманизм, преобразованный в эпоху цивилизаций в жречество. Что касается образа жизни, то происходит полное его изменение с возникновением цивилизации. До цивилизации люди не приручали животных, не пахали, не строили жилища из камня, не жили на одном месте и не селились там, где «не цветут абрикосовые деревья» (Библия). Помехи в первобытный образ жизни внесли оледенения, роль которых не следует преувеличивать, поскольку большая часть человечества мигрировала в теплые края, а цивилизации появлялись исключительно в жарком климате.
Естественно, возникает вопрос: почему в разных частях планеты без особых причин прерывается устоявшийся образ жизни человечества? Причем традиционный образ жизни не просто прерывается, а меняется нелепым образом. А именно: по инициативе жрецов появляется общественная повинность – например, на ровном месте насыпать гигантский холм. У холма изначально нет назначения: просто холм. Но есть скрытое значение: требовать труда, причем «в поте лица своего». В дальнейшем жрецы трудовую повинность усилят тем, что задействуют способ «собирать камни» – просто в кучу. Лишь позднее складу камней найдут применение – складируют в башню, зиккурат. Жрецы организуют под видом строительства именно труд как таковой, причем «сизифов» – по принципу «лишь бы наработаться».
Философия истории начинается с проблемы «сизифова труда» ранних цивилизаций. Цивилизация в её современном виде ценит труд за его прагматическое значение (техническое, экономическое), хотя исторически это не исходное и не основное его значение. Уже олимпийская мифология помещает бога труда Поноса в свиту Танатоса вместе с божествами болезней и старости. Символическое значение понятно: труд не есть путь к жизни, а есть способ умирания совместно с болезнями и старостью.
Интересно, что студенты на вопрос «Как христианство относится к труду?» отвечают уверенно и не задумываясь: положительно. Между тем всё не так однозначно. Первые христианские общины, ориентируясь на аскетизм, к труду относились отрицательно: труд – путь к обогащению и, соответственно, чужд нравственности. Отношение христиан к труду изменилось столетия спустя после появления монастырей, причем по весьма пикантным обстоятельствам. Как известно, монастырская жизнь требует соблюдения аскезы и воздержания от любой «страстности». Оказалось, что можно за счет силы воли переносить голод, холод, половое воздержание, но в аскезе есть одно слабое место: ночные сновидения, которые непроизвольно приобретают эротический характер. Как показал монастырский опыт, «прелесть» сновидений неистребима. После упорной «борьбы с блудом» выход неожиданно нашёлся: им оказался длительный и тяжёлый труд перед сном, именно с точки зрения затрат физической силы. Так труд в христианстве был оправдан – ради борьбы с ночными эротическими сновидениями. Формой «труда» стало таскание камней и поднятие целины. В итоге монастыри обросли монументальными каменными стенами и распаханными полями, что положительно сказалось на обороноспособности и системе питания. Труд оказался не только источником экономики, но и средством профилактики эротических сновидений – этому был посвящен мой доклад в Смольном на одном из Петербургских экономических форумов [1]. Связь труда и эротики в понимании цивилизации оказалась не прямолинейной, но далеко не случайной.
После работ З. Фрейда сексуальная проблематика в социально-гуманитарных науках стала дежурной, причем в самом банальном толковании. Примером может служить монография Г. Маркузе «Эрос и цивилизация» (1955 г.). Логика выстраивается просто: цивилизация не существует без труда; труд подавляет либидо; молодёжь страдает от подавления либидо и бунтует, – правильно делает. В этой логике полностью отсутствует не только понимание истории, но и понимание позиции З. Фрейда. По Фрейду, репрессивную роль для человечества играет именно либидо, которое возникает не к месту и времени и даже не в интересах человека и человечества. У животных половое влечение, в отличие от человеческого либидо, кратковременно и своевременно – возникает на период брачных отношений и более не беспокоит. З. Фрейд как врач фиксировал чрезмерность либидо, его несоразмерность даже физическим возможностям человека, отчего и предполагал необходимость сублимации. Г. Маркузе произвольно отождествил «либидо» в учении З. Фрейда с Эросом как «принципом удовольствия», «влечением к жизни». Послевоенная Европа восторженно приветствовала ошибочные построения модного философа.
Странный факт чрезмерности либидо Фрейд как врач фиксировал, но, не находя достаточных оснований, как честный ученый отказался комментировать. В результате желающих «досказать за Фрейда» по всему миру оказалось предостаточно. Фрейдовское «Оно» на подиуме теорий как только не крутили: «инстинкты», «архетипы», «природа человека», иррациональное «бессознательное». При этом никто не удосужился заглянуть в анналы этнографии. Между тем еще при жизни Фрейда в России вышла монография академика Штернберга, в которой совершенно недвусмысленно назывался источник навязчивого либидо – это эротические сновидения, обязывающие становиться шаманом или шаманкой.
Как показали исследования сибирского шаманизма, проведенные под руководством академика Л.Я. Штернберга, шаманом становятся не по «выбору профессии», а по принуждению методом навязчивых эротических сновидений самого нескромного характера. Эротика шаманских сновидений – это не эротика романса или брачных отношений, а эротика «Кама сутры» – с невероятными позами при невероятных обстоятельствах, причем на протяжении всего времени сна – во вред здоровью. Будущий шаман не может избавиться от навязчивых эротических сновидений иначе, чем заключить брачный «завет» со своим сновиденческим персонажем, который мучает его весь период полового созревания. Л.Я. Штернберг назвал шаманизм «сексуальным избранничеством», осуществляемым в сновидениях неким персонажем методом принуждения, угроз, шантажа, насилия.
В своей монографии «Первобытная религия в свете этнографии» [2] Л.Я. Штернберг показал, что шаманизм основан на личном общении шамана с неким «духом предков» (противоположного пола) в рамках сначала сновидений, потом ритуального транса. Причем эротика сновидений исходит именно от «духа предков» и по воле его (её) фантазий, с характером принуждения. Весь период полового созревания ночные эротические сновидения просто изматывают подростка, погружая его в «шаманскую болезнь». В сновидениях подросток оказывается в положении наложника (наложницы) «духа», на котором осуществляются сексуальные практики, неведомые не только ему, но и традициям его народа. В случае отказа от навязчивых приставаний обязательно следует серия угроз, а затем и наказаний.
«Шаманская болезнь» исчезает после заключения «завета» – согласия на брак методом сновидений, – так возникает феномен культуры под названием «иерогамия» – священный брак.
С принудительным характером сексуальных отношений знакома и Библия, начиная с Ветхого Завета. В Книге Бытия упоминается о том, что некие «сыны Божии» входили к дочерям человеческим и те рожали. После чего следует «гнев Божий» – за «растление». Наказаны, как известно, были не проказливые «сыны», а все «твари Божии», что призывались «плодиться и размножаться». Олимпийская мифология тоже не свободна от сюжета соблазнения богами земных женщин, начиная с известного мифа о проказах Зевса по отношению к Данае.
Ветхозаветная история с появлением Адама (без женщины) полна тех же смыслов. Адам появляется в укромном райском саду («будуаре») не случайно без женщины, поскольку Она (в вежливой форме «Они» – «Элохим») ему уготована сновидениями в откровенных позах. Так было задумано. Но что-то пошло не так. Адам воспротивился эротическим сновидениям и затребовал телесную женщину, телесно подобную ему самому. Женщину изготовили «на скорую руку», после чего выгнали обоих, причем посылая проклятия вслед, как при обычном скандале из ревности. Этот инцидент вызывает недоумение уже три тысячи лет. Почему Адама создают отдельно от всех людей и в выходной день, почему без пары (женщины), почему в укромном садочке рая, почему, наконец, столько гнева и проклятий на момент изгнания, почему «наказание»? Наконец, почему «Они» (напомню: уважительная форма личного местоимения в тексте Ветхого Завета без гендерных различий) так гневливы и в гневе зловредны? История шаманизма в свете этнографических знаний позволяет вполне компетентно отвечать на такого рода вопросы.
Для потомков Адама труд в качестве наказания не является ни свободным, ни добровольным. Потомки, конечно, могут исхитриться, превращая труд в «удовольствие» (механизация, автоматизация, творчество, доходность), но будут наказаны за это «свыше» неожиданным образом. Для «человека разумного» существует универсальная форма наказания: потеря разумности. Разум – не собственность человека, а аренда, пользование. Разум теряем. Не случайно возникла поговорка «Кого бог хочет наказать, того лишает разума». Безумие – реальная угроза человеку и человечеству. Как заметил Сенека, «мы безумствуем не только поодиночке, но и целыми народами» [3, с. 281]. Средневековое сжигание ведьм или концлагерь нацистов тому наглядный пример. Цивилизация изначально граничит с безумием, и прав М. Фуко: «Безумие всегда связано с цивилизацией и её неуютностью» [4, с. 507].
В цивилизации разумность человечества в тисках с двух сторон: со стороны труда и со стороны секса. При этом оказывается, что ни труд не является «естественно-историческим процессом» (К. Маркс, Ф. Энгельс), ни секс не является инстинктом продолжения рода. Это сферы манипуляции человечеством, реализующие программу наказания «сверху». Смысл наказания в том, что нельзя труд превращать в путь к богатству, а секс обращать в соматическое наслаждение. Собственно, это откровение давно зафиксировано – в религиозных текстах. Богатому в рай войти всё равно как верблюду пройти сквозь угольное ушко; не возжелай жены ближнего своего – такого рода тезисами поведение строго табуируется. Ветхий Завет писался в первом тысячелетии до нашей эры – опыт, накопленный цивилизацией, был богатым.
В настоящее время труд не перестаёт проявлять иррациональность. Например, двести лет назад был 16-часовой рабочий день, порой без выходных и оплачиваемых отпусков, без пенсий. Сто лет назад рабочий день сократился вдвое, но с тех пор пребывает в тех же границах, несмотря на невиданный рост производительности труда. Возникает вопрос: какую роль играет рост производительности труда, если рабочий день сто лет остается на уровне восьми часов? С учетом электрофикации, механизации, автоматизации, компьютеризации рабочий день мог бы сократиться до четырех часов, неделя – до трёх рабочих дней, в году могло бы быть четыре оплачиваемых отпуска, а пенсионный возраст мог бы понизиться до сорока лет. Но ничего подобного в мире не происходит. Труд удерживает человечество в стабильно жестких рамках. Возникает тогда вопрос: куда деваются избытки богатства при несоразмерно большом количестве труда (в сравнении с потреблением)?
«Общество изобилия», о котором уже начали было писать, вдруг перестало демонстрировать свои рекордные показатели. Причина проста: как-то «само собой» начался безумный рост цен на предметы роскоши, причем вне всяких соотношений с «трудозатратами». Миллионы за холст, миллиарды за яхту. Спрос на модную роскошь стал приобретать маниакальный характер навязчивых идей, которым разум как таковой не способен противостоять. Богатые не могут остановиться, вовлеченные в сети навязанной тяги к роскоши и игромании. В результате жупел «сизифова труда» вновь и вновь повисает над цивилизацией. Собственно, цивилизация оказывается наказанной подобно Сизифу, причем тем же способом обращения трудовых усилий миллионов людей в ноль.
В трактате Г. Маркузе «Эрос и цивилизация» надо отдать дань восхищения названию – эрос понимается абстрактно, как «принцип наслаждения». Не менее абстрактно понимается и труд – в контексте «ходить на работу». Для философии конструирование абстрактных объектов означает совершенно провальное занятие. Как понятия «труд» и «эрос» интересны именно в своей конкретике, которая быстро уводит от бытовой наглядности. Так, слово «эротика» приучает связывать значение слова с сексом, между тем это не более чем антропоморфизм. В более широком значении эротика связана с переключением внимания на телесность. Например, человеку нравится медная статуэтка, медная турка для кофе, медная пряжка ремня. Очевидно, что плоть имеет значение. И это значение сводится к тому, что чувственное восприятие не хочется прерывать: нравится долго смотреть, ощущать, трогать, слушать, вдыхать запахи, забывая о времени. Кому-то нравится всё золотое, кому-то овальное, кому-то розовое. Пристрастное отношение к телесности со стороны плоти и формы образует основу эротики. Мифологическое значение Эроса как бога, причастного к космогенезу, тоже ориентировано на чувство плоти: этот мир плотский – в контексте библейского «это хорошо» на момент сотворения мира.
Как всякое «хорошее дело», эротику можно испортить. Миф про царя Мидаса тому пример. Нельзя из любви к золоту всё превращать в золото, особенно пищу. Однако цивилизация запрограммирована на совершение этой ошибки. Как только часть общества освобождается от труда, так западает на эротику в крайних формах: пристрастие к моде, роскоши, сексу, насилию, чревоугодию, сребролюбию. Ж. Батай, исследовавший историю эротизма в искусстве, писал: «Едва появившись на свет из этого темного мира, эротизм, еще расплывчатый, грубый, поражает нас ужасной гармонией с садизмом» [5, с. 302].
В животном мире животные функции организма не эротизируются. Никому не доставляет удовольствия смотреть на то, как кто-то жуёт, совокупляется или избавляется от продуктов метаболизма. Внимание животных не сосредотачивается на подобных вещах. В человеческой культуре, напротив, все животные функции организма проходят через цензуру эротизации: приём пищи, половое общение, комфортное сидение на унитазе. Люди едят за столом, спят на кроватях, строят туалеты, – в итоге возникает оппозиция культуры и природы. Хомо сапиенс становится не столько разумным, сколько цивилизованным.
Появление «труда» в момент гигантомании строительных работ в эпоху первых цивилизаций ставит общество в оппозицию и к природе, и к культуре. Дело в том, что труд – это не промысел, не деятельность типа заготовки дров, огородничества, хлопот по хозяйству. В понятии труда фиксируются только затраты на усилия и соответствующее время. Существует много телесных усилий, которые не относятся ни к труду, ни к промыслу: например, жевать твёрдую пищу или испытывать затруднения с пищеварением. В первобытной культуре нет труда; точно так же, например, дети с трудом учатся ходить, – но это не труд. Труд – феномен цивилизации в её оппозиции, как было замечено в начале ХХ века, к культуре и природе: у людей разгульный праздник – не труд, у животных добыча пищи – не труд. Труд из материалов природы делает машину, а человека обращает в разумный придаток машины, постепенно теряющий разум за пределами этой самой машины.
Как показала история, цивилизация разумным путём впадает тем или иным способом в безумие. Бесконечный труд поглощается роскошью, а бесконечная роскошь приводит к войнам на самоуничтожение и к массовому извращению телесности в самых разнообразных формах – от ожирения до сексуальных перверсий. В пресловутом «закате Европы» нет ничего странного: цивилизация попалась в расставленные силки. Культура держится не на «ценностях», а на табу. Трактовать табу как «репрессивность», подобно Г. Маркузе, значит не понимать ни культуру, ни цивилизацию. И дело не в том, что тот или иной автор не проявляет способностей к философии истории, а в том, что на фоне так называемой научной картины мира понять человеческую историю в принципе невозможно. Человек не есть естественный продукт эволюции животных (Ч. Дарвин), и труд не есть «естественно-исторический процесс» (К. Маркс), и религия не есть «встреча дурака с обманщиком» (Т. Гоббс), и даже «либидо» не есть «природа человека» (З. Фрейд). В Ветхом Завете можно найти больше исторической правды, чем в научных монографиях современных экономистов и гуманитариев.
Исходное появление «труда» в человеческой культуре – не рыбалка и собирательство, а противостояние сновидениям, которые принимают античеловеческий характер, вплоть до нарушения устоявшихся табу. Например, могут быть сновидения с подстрекательством к каннибализму, причем навязчивого характера. Ночные сновидения – это настежь раскрытые ворота к человеческому разуму. Они могут быть раскрыты для советов «культурного героя», но могут оказаться раскрытыми для «врага человеческого рода», что реально случается время от времени как с отдельным человеком, так и с народами. Религия с её гигантоманией строительных работ возникает не на пустом месте. Реальная угроза массовой потери рассудка как раз и рождает собой «труд»: сначала как психотехнику, а в дальнейшем «труд» мотивируется целесообразностью типа «выживание», «обогащение», «покорение природы», «прогресс цивилизации», «рост продолжительности жизни». Цивилизация не может отрешиться от решения этих «важных» задач. Однако, как говорят военные, можно выиграть битву, но проиграть войну. Аналогичным образом цивилизация при всех своих выигрышах обречена «проиграть войну» за прогресс. Нельзя создать вечный двигатель или обыграть казино. Цивилизация запрограммирована на самоуничтожение, и средства уничтожения заранее запасены: это труд и секс. То, что не разрушит в человеке труд, разрушит секс и наоборот.
Почти три тысячи лет назад древнегреческий поэт Гесиод писал о том,
что человечество на Земле время от времени меняется, существуя в своих определенных пределах. Пределы могут быть разными, связанными с возрастом, образом жизни, отношением к труду или войне, даже отношением к «загробной жизни». Эпоху нашего человечества – «пятого поколения» по ходу поэмы – Гесиод охарактеризовал следующим образом:
Если бы мог я не жить с поколением пятого века!
Раньше его умереть я хотел бы иль позже родиться!
Землю теперь населяют люди железного века:
Не будет им передышки от труда, забот и несчастий!
Дети – с отцами, с детьми – их отцы сговориться не смогут,
Чуждыми станут товарищ товарищу, гостю хозяин,
Больше не будет меж братьев любви, как бывало когда-то.
Старых родителей скоро совсем почитать перестанут:
Будут их яро и зло поносить нечестивые дети
Тяжкою бранью. Не зная возмездия богов, не захочет никто
Доставлять пропитания родителям старым.
Правду заменит кулак! И не возбудит ни в ком уважения
Ни справедливый, ни добрый. Скорей наглецу и злодею
Станет почёт воздаваться. Где сила, там будет и право.
Стыд пропадёт. Человеку хорошему люди худые
Лживыми станут вредить показаньями…
К вечным богам вознесутся тогда, отлетевши от смертных,
Совесть и стыд. Жесточайшие, тяжкие беды останутся людям.
От зла избавленья не будет.
Три тысячи лет миновали со времён Гесиода, но «железный век» всё еще проглядывает сквозь все исторические трансформации. Рождаются царства, исчезают империи, техника демонстрирует невиданные успехи, но конца взлётам и падениям не видно. Все человеческие отношения на пике развития общества обращаются в наглость. Наглость в отношениях людей проявляется не в качестве единичного случая, а системно – в сферах от политики и экономики до быта. Вот пример заурядной наглости на сегодняшний день:
Кот надоел перед отпуском:
Старый, больной.
Его отвезли на окраину,
Пусть скотиной живет сам собой.
На отпуск заняли денег,
Отпуск-то дорогой.
А отдавать не стали –
Просто дружбу долой.
С отпуска выйдя, сменили работу:
В компании прибыли нет.
Ушли к конкурентам, с собою забрав
Опыт прожитых лет.
На юбилее друзья величали:
«Как вы умеете жить!»
А кто-то кота помянул ненароком,
Что ушёл к конкурентам – дожить.
До тех пор, пока цивилизация поощряет «умение жить», она будет полным ходом идти в тупики заготовленного Лабиринта. Ландшафтом человеческой истории являются не реки и моря, горы и пустыни, а лабиринты с ходами из разума и безумия. Разумность во многом определяется способностью вовремя отступать, не углубляясь в тупики безумия. В истории цивилизации есть позитивные примеры. Когда царства древнего мира при всей роскоши дворцов превратили жизнь в историю войн, началась массовая миграция ариев из Индии в Европу с переходом к деревенскому образу жизни. Технологический опыт сохранился, но человеческим отношениям возвратили человечность. Экономисты до сих пор не понимают того, что в деревне нет труда: есть промыслы и «работы по хозяйству». В русском языке слово «труд» образовано от глагола «трудить», с ударением на первом слоге. «Трудить» означало понуждать себя к нужной деятельности. То есть речь идет о психотехнике, а не о производительной деятельности. Трудовой психотехнике в деревенском образе жизни места хватает, спору нет. Сенокос – тяжёлые работы, но если сено заготавливают для своей скотины и работают на себя, свою семью, своих детей, то вступает в силу поговорка «своя ноша не тянет». Подобная ситуация явно прослеживается в ранний период возникновения античной цивилизации: физический труд на себя и на открытом воздухе почётен для владельца собственного каменного дома-фабрики («экоса»). Позорен труд не на себя, в закрытом помещении, в сидячем положении. Без установки на физический труд на свежем воздухе домовладельцы античного полиса никогда не смогли бы создать «гражданское общество», по физической силе превосходящее любое военное сословие. Избавление от физического труда в цивилизации оправдано для экономики, но не для человечности. Не случайно горожане стремятся на дачу. Сначала дачники радовались именно физическому труду: огород развести своими руками, деревья подрезать, траву покосить. Однако Лабиринт истории разворачивает дачную жизнь в сторону комфорта: санузел, отопление, водопровод, веранды-мансарды, – и вот уже дача уподобляется городской квартире. Дом превращается в «машину для жилья». Уставший труженик города возвращается на дачу «отдохнуть» – посидеть в шезлонге на солнышке, шашлыком загрузиться под вечер. А там и мысли внезапно приобретают характер фантазий, сворачивая на эротическую тему. Это не индивидуальный ход мысли отдыхающего, это бег по лабиринту истории, по его тупикам. И конец предсказуем, как в «Анне Карениной».
При деревенском образе жизни семья не может распасться: слишком много физических работ, которые традиционно считаются женскими и мужскими. Само «разделение труда» выступает прежде всего психотехникой сохранения семьи, ведущей хозяйство «для себя» – суверенно. В хозяйствующей семье труд меняет своё назначение, его значение не сводится к экономике. Но и сексуальность претерпевает значительные трансформации. Эротика выстраивается параллельно сексу и удерживается в этой параллельности «средствами культуры». Девиантные фантазии теряют почву; они становятся если не скабрезными, то как минимум смешными. Психология стыда закрепляет параллелизм эротики и секса, лишая тем самым либидо своей «бессознательности».
На определенном этапе развития цивилизации прогресс состоит в том, чтобы вернуться к деревне с её физическим трудом и натуральным хозяйством, а не в том, чтобы наращивать объемы мегаполисов. Человек изначально есть существо, способное выжить благодаря личному физическому труду в условиях минимального комфорта. Этим нетрудно пренебречь, но тогда путь к безумию будет открытым. Ящик Пандоры открывается просто: комфортом. Эллада, родина западной цивилизации, веками осознанно избегала комфорта, к которому население новой России пока так безудержно стремится.
Когда Россия заявляет о себе как особой цивилизации, то её особенность состоит не в химерическом единении Европы с Азией, а в том, что этно-ландшафтные отношения веками держались на сезонном характере физического труда. Сезонный труд кратковременный, но интенсивный, «до седьмого пота». Это сенокос, заготовка дров, рыбалка, охота, сбор ягод, грибов, орехов и бортничество, огородничество, хлебопашество, скотоводство, ткачество, заготовка сырья для товарного производства. А межсезонье заполняется праздниками с массовыми веселыми гуляниями, в которых эротика не сводится к сексуальности. При деревенском образе жизни эротика идёт не от секса, а к сексу – от общего чувства плоти. От стали топора навострённой, от перламутрового блеска рыбьей чешуи, от пота любимой лошади, от налитых колосьев хлебов. Деревня – не задворки цивилизации, а её чистилище, без которого любая цивилизация захлебнётся в собственном безумии.
Г. Маркузе, озабоченный выходом цивилизации из тупиков «одномерного человека», настаивал на свободе эроса и сублимации труда в игру. Но именно это и ведет цивилизацию к безумию, к феномену которого настойчиво привлекал внимание М. Фуко. В отличие от Фуко Маркузе мыслит, как подросток: «Путь к разумной системе общественного труда пролегает через освобождение времени и пространства для развития индивидуальности за пределами неизбежно репрессивного мира труда. Игра и видимость как принципы цивилизации подразумевают не преображение труда, но его полное подчинение свободно развивающимся возможностям человека и природы… Игра…порывает с репрессивными и эксплуатативными чертами труда и досуга» [6, с. 202]. Г. Маркузе, как до него и Й. Хейзинге, прогресс цивилизации видится в переходе к формации «игрового способа производства». Если учесть, что Й. Хейзинга совершенно не различал игру и дурачество, о чем я уже писал ранее [7], то понятно, что именно в дурачестве «одномерный человек», по мысли Маркузе, обретёт себе другие измерения. Но у труда в цивилизации есть своя роль, причем прежде всего не экономическая – удерживать разумность «хомо сапиенс» от полного поглощения дурачеством с последующим безумием.
В словах Гесиода «от зла избавленья не будет» есть странный оптимизм: неутешительный прогноз не касается наглых людей, «которым станет почёт воздаваться». Единственное, что им угрожает в отличие от всех прочих, так это расчеловечивание. Наглость людей обращает их либо в «бесов», то есть одержимых бесовством, либо в «машины» достижения успеха.
«Бесы» и «машины» представляют собой универсальные метафоры цивилизации на пути к безумию. Как тут не вспомнить киника Диогена, который на вопрос, много ли людей было в театре, ответил: «Народу было много, а людей – почти никого». Можно только добавить, перефразируя Ф. Ницше: всё, что не превращает нас в бесов и машину, делает человечнее.
Об авторах
Виктор Валентинович Костецкий
Санкт-Петербургский государственный академический Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина при Российской академии художеств
Автор, ответственный за переписку.
Email: kostavictor@yandex.ru
доктор философских наук, профессор
Россия, г. Санкт-ПетербургСписок литературы
- Костецкий, В.В. Парадоксы культуры с глобальными экономическими последствиями / В.В. Костецкий // Нева. – 2010. – № 8. – С. 134–140.
- Штернберг, Л.Я. Первобытная религия в свете этнографии. Исследования, статьи, лекции / Л.Я. Штернберг. – Ленинград: Изд-во Института народов Севера, 1936.
- Сенека, Л. Нравственные письма к Луцилию / Л. Сенека. – Кемерово: Кемеровское книжное издательство, 1986. – С. 281.
- Фуко, М. История безумия в классическую эпоху / М. Фуко. – Санкт-Петербург: Университетская книга, 1997. – 576 с.
- Танатография эроса. Жорж Батай и французская мысль ХХ века. – Санкт-Петербург: Мифрил, 1994. – 346 с.
- Маркузе, Г. Эрос и цивилизация / Г. Маркузе. – Киев: Гос. библиотека Украины для юношества, 1995. – 313 с.
- Костецкий, В.В. Анти-Хейзинга: другая философия игры / В.В. Костецкий // Вопросы философии. – 2020. – № 2. – С. 196–204.
- Античная литература. Греция. Антология. – Москва: Высшая школа, 1989. – 512 с.
Дополнительные файлы