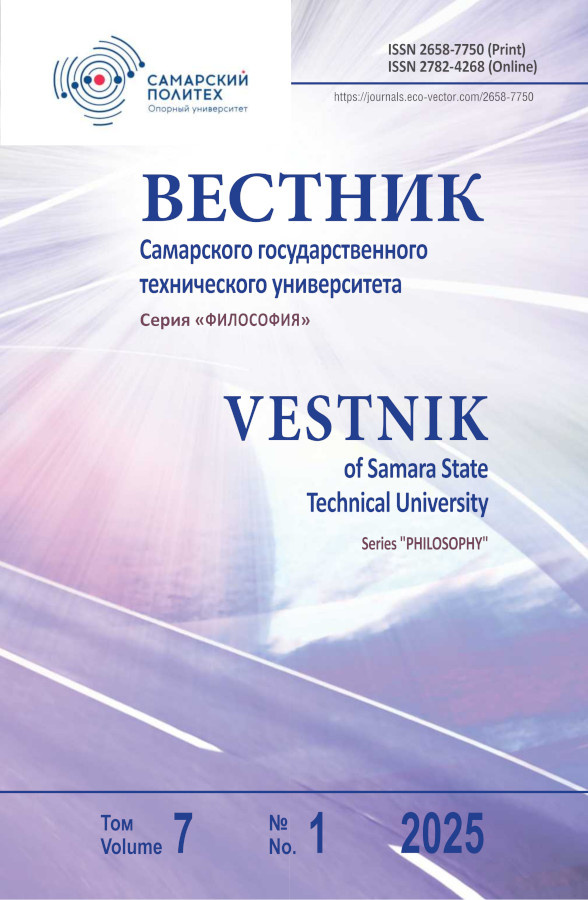The test of post-humanism: should a white heterosexual repent?
- 作者: Fatenkov A.N.1
-
隶属关系:
- Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod
- 期: 卷 7, 编号 1 (2025)
- 页面: 5-9
- 栏目: ОБЩЕСТВО. КУЛЬТУРА. ЧЕЛОВЕК
- URL: https://journals.eco-vector.com/2658-7750/article/view/692880
- ID: 692880
如何引用文章
全文:
详细
The theory and practice of post-humanism, as presented by Francesca Ferrando, is critically assessed in the text. The author defends the main opponent of post-humanistic speculations – a heterosexual white man rooted in contradictory humanity.
全文:
Не верю в покаяние. В озвученное и прописанное не верю совсем. Сожаление – да, возможно, но и оно под сомнением: что сделано, то сделано. От переживаний, конечно, никуда не уйти. Бывает, что и с экспрессией, – но без мазохистской услады и без игры на публику.
Категорически не приемлю идею коллективной вины. Коллективны некоторые проступки и преступления, вина всегда персональна.
Говоря о белом гетеросексуале, имею в виду прежде всего себя. Не собираюсь ни отказываться от этих идентификационных характеристик, ни каяться в их сбережении – пусть даже кто-то из моих предков был колонизатором, порол жён по субботам и неэкологично относился к природопользованию. Я естественным образом солидарен со своей фамилией – той ветвью человечества, которая подарила мне жизнь, – и это состояние изменению не подлежит. Со многими животными готов поладить, как и с немалым числом людей. Но универсальную солидарность отвергаю. Ни с киборгами, ни с инопланетянами встречаться вообще нет никакого желания. В искусственном интеллекте не нуждаюсь – хватает своего. Физико-техническое бессмертие квалифицирую как сциентистский бред. Таков вчерне обороняемый мировоззренческий плацдарм, как бы он не оценивался со стороны. Возраст тут в помощь. Пока есть человек, который мне дорог и которому сам небезразличен, и мы вместе чай пьём, цивилизация со всеми её трендами может лететь в тартарары. Ничего удивительного: привычный экзистенциалистский настрой.
«Я не гуманист – и к людям отношусь по-человечески. Кого-то люблю, кого-то ненавижу…» [3, с. 45]. Не идентифицируя себя с гуманизмом, видя в нём уязвимые места, сегодня союзнически поддерживаю его в пространстве пересечения идиллической гуманности и реалистичной человечности. У нас общие недоброжелатели: фанатики от религии (фидеизм), науки (трансгуманизм) и медиамультиверсума (постгуманизм). В противовес им уверен: человек со всеми его завихрениями не настолько плох, чтобы нуждаться в кардинальном изменении, в какой-то пересборке или достройке.
Остановлюсь далее на разборе позиции постгуманизма, представленной в монографии Франчески Феррандо [4]. Признаться, с трудом, преодолевая антипатию, прочитал её текст.
Философский постгуманизм характеризуется в книге как «онто-эпистемологический, а также этический подход, который выражается в виде философской медиации, которая отказывается от любых дуализмов, служащих основанием для конфронтации, а также от унаследованных иерархий; именно поэтому его можно трактовать в качестве постгуманизма, постантропоцентризма и постдуализма» [4, с. 49–50]. Характеристика-декларация почти дословно воспроизводит интеллектуальную установку постмодернизма. Его вариацией – с акцентом на феминистскую, постколониальную и спекулятивно экологическую децентрацию человека – постгуманизм и является. Впрочем, он и не скрывает своего постмодернистского происхождения, хотя при этом выказывает намерение представить себя сквозным трансисторическим феноменом, отсылая своих сторонников и оппонентов к архаичным изображениям кентаврических существ и отыскивая отдельные штрихи своей позиции в творческом наследии маститых интеллектуалов прошлых времён.
XVIII век. Карл Линней. Он поместил человека в одну систему природы вместе с животными (наряду с обезьянами в разряд приматов). Но, по интерпретации Феррандо, его Homo sapiens именовал преимущественно мужчину, тогда как женщина оказывалась скорее существом не разумным или знающим, а вскармливающим: великий шведский ботаник и попутно многодетный отец был сторонником кормления новорожденных грудным материнским молоком. К тому же он, выделив пять расовых таксонов, предвзято будто бы назвал европейца белым (albus) и совсем уж опрометчиво допустил таксон Homo monstrosus. Стоит заметить, однако, что половая и расовая дифференциация не выпадает вовсе из постгуманистической стратегии «размножения различий» (термин Рози Брайдотти): это «размножение» надо с чего-то начинать. Вместе с тем вряд ли кто-то из неприемлющих постгуманизм окончательно останавливается на половом и расовом различении людей. Гуманизм, как известно, апеллирует к конкретному человеку – к уникальной, неповторимой личности или индивидуальности. И в своих аутентичных версиях не противопоставляет человека зверю, в чём надуманно обвиняется Феррандо, которая спекулятивным образом уравнивает гуманизм с картезианским мейнстримом западной мысли и с любой версией антропоцентризма. Разумеется, надо держать в уме, что в рамках антропоцентризма могут возникать разные формы социального принуждения, для распознавания и отторжения коих требуются немалые экзистенциальные усилия, и что дуализм твари душевной (картезианской «мыслящей вещи») и твари бездушной (картезианского животного) есть очевидное механистическое урезание гуманизма, бьющее и по животному, и по человеку. Оставаясь верным себе, гуманизм стратегически тяготеет к естественному, а не к искусственному. Творчество для него – вид порождения. Животное – никак не машина. Отличает Линней его, по примеру Конрада Лоренца, и от скотины: в зависимости от того, обнаруживает или не обнаруживает в особи «высокодифференцированные способы поведения» [2, с. 35]. Вегетарианство, кстати, – история нам подтвердит – не гарантирует искоренения садистских и некрофильских наклонностей.
XIX век. Фридрих Ницше. Для постгуманистов (как и для трансгуманистов) он привлекателен тем, что трактовал человека не целью, а этапом, переходным звеном от обезьяны к сверхчеловеку. Но вот ставка немецкого иррационалиста на иерархию (вполне подходящая для трансгуманизма) не укладывается в постгуманистические декларации. При том что в тексте той же Феррандо без труда просматривается завуалированная иерархия: различие для неё несомненно предпочтительнее (стало быть, рангом выше) тождества. Да и с ницшевским сверхчеловеком, если вернуться к нему, не всё так однозначно. Быть может, он никакой не постчеловек, а лишь тот среди нас, кто будет сильнее, умнее и честнее нынешнего индивида. И, как философ в Турине, без раздумий бросится на защиту лошади от артикулирующего рациогегемона.
XX век. Мартин Хайдеггер. У него, с точки зрения Феррандо, масса недостатков: он не только нераскаявшийся сторонник тоталитарного режима, но и нарцисс, «у которого были сексуальные отношения со многими из его студенток» [4, с. 82]. Однако позвольте, если он нарцисс (что вполне допускаю), то вряд ли домогался кого-то – скорее поклонницы вешались ему на шею. И кому здесь предъявлять претензии? Но, несмотря на возмущение, прислониться к знаковой интеллектуальной фигуре столетия стремится и теоретик постгуманизма. Хайдеггеровское отношение к технике, уход философа от категоричных оценочных суждений «за» – «против» видится Феррандо перспективным в плане апелляции к технике как к вспоможению для проникновения в потаённое, конкретнее, для актуализации постчеловеческих потенций – того, что было историческим гуманизмом отправлено в разряд маргинального.
Выскажу ряд возражений, начав с прямой цитаты из «Чёрных тетрадей», с записи о том, что «техника и человеческая сущность в равной мере затянуты в водоворот… бытия как махинации…» [5, с. 453]. Понятно, «махинация» указывает здесь не столько на мошенничество, сколько на движущуюся машинерию, однако и «мошеннические» смыслы тут налицо. Далее к традиционному сюжету хайдеггерианы: технэ у немецкого философа имеет положительную ценность тогда и только тогда, когда оно сопряжено с поэзисом, выступая, по сути, его сподручным; в отрыве от поэзиса, что как раз характерно для современной цивилизации, технэ негативно. В подтверждение чего сошлюсь на критикующего хайдеггерианство и не близкого мне по умонастроению Эммануэля Левинаса, на его приветственную констатацию того, что техника находится по ту сторону пастушества бытия: она не втягивает, напротив, «вырывает нас из хайдеггеровского мира…» [1, с. 522]. Теперь о толковании Хайдеггером и его комментаторами алетейи – истины, становящейся доступной нам не без помощи техники. Для Феррандо алетейя есть нечто открытое, для меня – несокрытое. Речь не о степени полноты раскрытия, а о том, оставляет ли полнота раскрытия ген потаённости-сокровенности в истине, защищающий её от падения в область мнений, конвенций и товарноденежных медиапрактик, – или же потаённость-сокровенность и эксклюзивность-элитарность истины искореняются напрочь. Постгуманизм, в том числе и в вопросе об истине, пародирует демократию. Хайдеггер – и не пародист, и не демократ.
Нахождение истины предполагает остановку в череде идентификационных процедур и трансляцию того, что истинным образом найдено тобой, в твои последующие жизненные состояния. Постгуманизм с его перманентным расщеплением индивидуальности и запретом на всякую устойчивую тождественность заведомо отступает от истины в угоду псевдоистинным, донельзя релятивным конструкциям, возводимым посредством медиаинструментария.
Постгуманистический сценарий, будучи реализованным, превратит индивидуума в сингулярию или актантшу – пустышку, готовую к наполнению любым материалом; в содержанку системы медиапрактик, не способную к сопротивлению внешнему прессингу. Перед нами, по сути, отзеркаленный аспект ницшеанства: вместо вечного возвращения того же самого – вечное убегание перманентно инакового. Хотя итог схож: асимптотическое приближение к состоянию по ту сторону добра и зла. Прогрессирующее умножение различий неуклонно ведёт к финальному неразличению некогда различаемого. Дозированно, не целиком, принимая антропологиче-ский пессимизм Эмиля Мишеля Чорана, соглашусь с ним в том, что помешанный на новациях человек цивилизации, а сегодня он молится на пришествие постчеловека, «хотел бы, чтобы в жизни властвовала одна сплошная, монотонная, рутинная аномалия…»; ускользающие от неё обвиняются «в обскурантизме и всяческих чрезмерностях» [6, с. 47].
Тот, кто противится опустошению и потере идентифицирующих констант, становится по факту новым другим и оказывается включённым в ту же дуалистическую (с некоторой корректировкой) схему, против которой в своих декларациях постгуманизм активно выступает. Да, это и не строгий дуализм картезианского типа с двумя противостоящими друг другу средоточиями (включая делёзовскую оппозицию «хорошего» шизофреника и «плохого» параноика), и не диалектическая дуальность единого (даосского типа, например). В панораме сущего у Феррандо только один, вызывающий у неё нескрываемое раздражение, полюс средоточия. Его удерживает на последнем рубеже белый мужчина гетеросексуальной ориентации. Другой полюс раздроблен, размыт, опустошён. Но и будучи таковым, он существует как апофатически определяемая полярная координата.
Практикуемый постгуманизмом недиалектический отказ от дуализма в пользу тотальной плюральности требует дискредитации и разрушения мировоззрения, пренебрегающего феминистскими и постколониальными стандартами. С этой целью белому гетеросексуалу навязывается чувство коллективной вины. Отчасти логичный, конечно, но оттого не становящийся менее отвратительным приём. Феррандо без стеснения говорит о «мести» аутсайдеров. Что ж, пусть усердствуют. Вот только перспектив никаких. Всякая месть фатально запаздывает. И всякому аутсайдеру следовало бы изначально знать: к каждому в этой жизни относятся так, как он позволяет к себе относиться.
Чем ответить? Экзистенциальной крепостью своих природно-культурных качеств. И никакого покаяния – не дождутся.
作者简介
Alexey Fatenkov
Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod
编辑信件的主要联系方式.
Email: fatenkov@fsn.unn.ru
SPIN 代码: 6226-1098
Doctor of Philosophy, Professor of the Department of Industrial and Applied Sociology
俄罗斯联邦, Nizhny Novgorod参考
- Levinas E. Difficult freedom. Transl. from French. G.V. Vdovina. Favorites: Difficult freedom. Moscow: ROSSPEN, 2004. Pp. 319–590. (In Russ.)
- Lorenz K. Eight deadly sins of civilized humanity. The socalled evil. Transl. from German A.I. Fedorova, ed. by A.V. Smooth. Moscow: Cultural Revolution, 2008. Pp. 7–83. (In Russ.)
- Fatenkov AN. Idyll of humanism and the realities of humanity. Man. 2009;4:32-47. (In Russ.)
- Ferrando F. Philosophical posthumanism. Transl. from Engl. D. Kralechkina; ed. by A. Pavlova. Moscow: Ed. House of the Higher School of Economics, 2022. 360 p. (In Russ.)
- Heidegger M. Reflections VII–XI (Black notebooks 1938–1939). Transl. from German A.B. Grigoriev; ed. by M. Mayatsky. Moscow: Publishing House of the Gaidar Institute, 2018. 528 p. (In Russ.)
- Choran EM. Fall during. Transl. from French V.A. Nikitina. Moscow: Opustoshitel, 2022. 160 p. (In Russ.)
补充文件