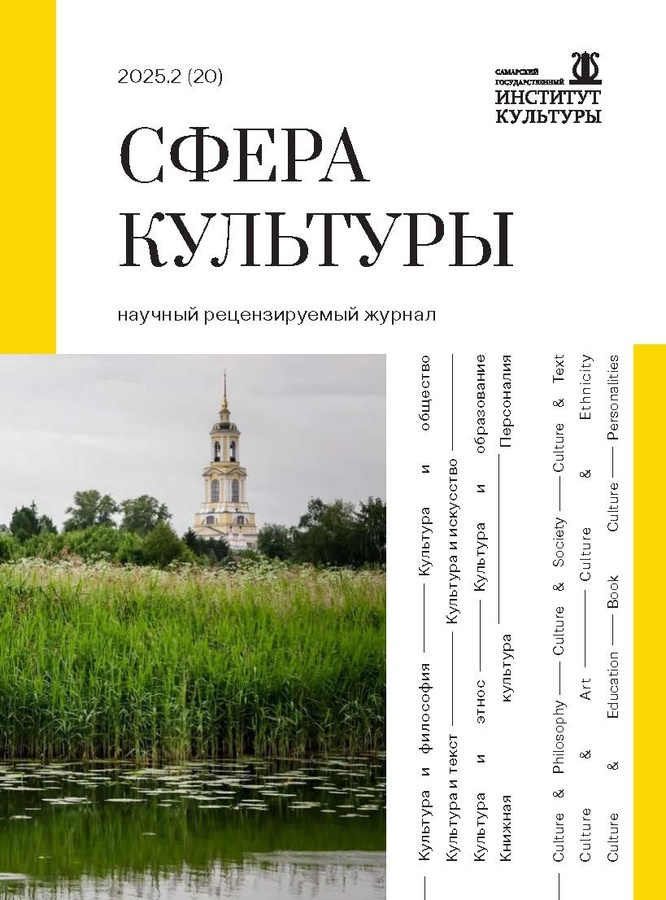Understanding the revolutionary events of 1905-1907 in the work of Tomsk fiction writer V. Kuritsyn
- 作者: Mogilatova M.V.1, Zhilyakova N.V.1
-
隶属关系:
- Tomsk State University
- 期: 卷 6, 编号 2 (2025)
- 页面: 41-53
- 栏目: Culture & Text
- ##submission.datePublished##: 05.07.2025
- URL: https://journals.eco-vector.com/2713-301X/article/view/641807
- DOI: https://doi.org/10.48164/2713-301X_2025_20_41
- ID: 641807
如何引用文章
全文:
详细
The events of the First Russian Revolution were widely reflected in the fiction of Russia in early XXth century, dividing authors not only by the extent of their talent, but also by ideological orientation. Tomsk poet and writer Valentin Vladimirovich Kuritsyn (1878-1911), who served as a clerk at the Siberian Railway administration, happened to be a direct eyewitness to the revolutionary events. With specific examples, the authors of the study show that the revolution was the context of a significant part of his works written in different genres (poetic, satirical, “novel-chronicle” genres). Using his work experience on the railway and, apparently, eyewitness accounts, V.V. Kuritsyn created texts full of sympathy for the revolutionary movement and workers who were prosecuted for their political views.
全文:
Революция 1905–1907 гг. оказала сильнейшее воздействие на российских писателей, отразившись во многих текстах, в которых осмыслялись как революционные события, так и духовное состояние общества, трансформация его политических, экономических, нравственных основ. В произведениях провинциальных поэтов и прозаиков начала XX в. также можно обнаружить рефлексию творческой интеллигенции на события Первой русской революции – увидеть реакцию разных представителей российского общества, неожиданно оказавшихся вовлеченными в противостояние власти и революционных сил, а затем и в бурную политическую жизнь.
Одним из авторов, творчество которого получило мощный «толчок» во время революционных событий 1905-1907 гг., был Валентин Владимирович Курицын (1878–1911) – томский поэт и писатель, получивший известность в начале XX в. как создатель целой серии авантюрных романов (под псевдонимом Не-Крестовский). Исследование «творческой траектории» литератора приводит к мысли о том, что именно оживление общественной жизни во время Первой русской революции способствовало усилению социально-политической направленности его произведений и вызвало рост публикационной активности.
Цель настоящего исследования заключается в определении особенностей рецепции исторических революционных событий в произведениях В.В. Курицына. Источниками послужили публикации писателя в томской периодике, выявленные и подготовленные к печати для первого собрания его сочинений, а также архивные материалы и отзывы современников.
Творчество В.В. Курицына в последние годы находится в центре исследовательского внимания: издан сборник материалов [1], защищена диссертация по авантюрным романам автора, напечатанным в томской дореволюционной периодике [2], выходят статьи, посвященные рецептивным приемам в произведениях сибирского писателя [3], специфике его романного творчества [4, с. 97-111] и другим аспектам. В 2020 г. были впервые в полном объеме переизданы его авантюрные романы «Томские трущобы», «Человек в маске», «В погоне за миллионами»1; готовится к изданию первое собрание сочинений В.В. Курицына. Однако тема влияния Первой русской революции на творчество томского автора до настоящего времени исследователями не рассматривалась.
Сохранившиеся биографические данные о Курицыне, весьма немногочисленные, позволяют утверждать, что во время революции 1905-1907 гг. он жил в Томске. Уроженец города Барнаула Томской губернии (родился в православной мещанской семье 28 июля 1879 г.). После окончания Барнаульского горного училища работал на частных золотых приисках, а затем в начале 1900-х гг. переехал в губернский центр. С 1901 г. В.В. Курицын начал работу в Управлении Сибирской железной дороги в должности конторщика стола заказов материальной службы дороги [1, с. 3]. С этого времени он постоянно жил в Томске, отлучаясь только «по домашним обстоятельствам» или на время лечения.
Изучение архивных дел Сибирской железной дороги позволяет сделать вывод о том, что на протяжении всего 1905 г. – времени «активной фазы» Первой русской революции, ознаменованной демонстрациями, забастовками и вооруженными столкновениями с революционно настроенной частью общества, – Курицын жил обычной жизнью конторщика, не выезжая из города надолго. Единственным событием, которое отразилось в архивном деле в 1905 г., стала переписка Управления материальной службы Сибирской железной дороги, находившегося в Томске, с Барнаульской мещанской управой по поводу окончания срока старого паспорта Курицына и выдачей ему нового паспорта. Документы, проясняющие этот сюжет, датированы 3 февраля 1905 г. (запрос Управления материальной службы за № 2238)2, 22 марта 1905 г. (ответ Барнаульского мещанского старосты за № 679)3, 5 апреля 1905 г. (расписка в получении нового паспорта начальника Управления материальной службы)4 и 25 апреля 1905 г. (сообщение начальника Управления материальной службы о препровождении Томского отделения Жандармского полицейского управления Сибирской железной дороги документов Курицына для прописки)5. Прошения об отпусках в данный период времени нам обнаружить не удалось.
Но эта спокойная бюрократическая переписка ни в малой степени не отражала тот факт, что именно рабочие Сибирской железной дороги стали чуть ли не главной революционной силой в Томске, а во время черносотенного погрома, произошедшего в Томске 20-22 октября 1905 г., сгорело здание Управления Сибирской железной дороги с запертыми внутри людьми, пришедшими получать в эти дни жалованье (полная реконструкция этих трагических событий приведена в работе М.В. Шиловского) [5].
В настоящий момент невозможно точно судить о том, насколько Курицын был вовлечен в революционную деятельность. Он уцелел после черносотенного погрома и пожара, так как различные службы Сибирской железной дороги были разбросаны по разным томским зданиям: согласно «Путеводителю по г. Томску и его окрестностям» (1905), составленному Н.С. Чирковым, начальник дороги В.М. Павловский работал в доме Орловой (Ямской переулок, дом № 3), бухгалтерия находилась на Почтамтской, дом № 8, а материальная служба (где работал В.В. Курицын) – на улице Ефремовской, в доме № 7. В сгоревшем же здании на углу улицы Почтамтской и Московского тракта находились службы пути и тяги [6, с. 97-98].
Но Курицын, конечно, знал о трагических томских событиях октября 1905 г., и это сильно повлияло на его самочувствие. Архивное дело отразило ухудшение здоровья писателя зимой 1905 – весной 1906 года. Курицын писал в докладной записке на имя начальника материальной службы Сибирской железной дороги: «С начала весны текущего года состояние здоровья моего значительно ухудшилось. На почве острого малокровия развилось полное истощение организма: отсутствие аппетита, слабая деятельность сердца, шум в ушах. Часто, в особенности по утрам, я переживаю состояние, близкое к обмороку. На прошлой неделе все эти симптомы проявились с такой силой, что я не мог продолжать свои занятия. Железнодорожные врачи, лечившие меня, как за последнее время, так и ранее – в течение зимы [выделено нами. – М.М., Н.Ж.] – высказались за необходимость пройти курс лечения кумысом…»6. Действительно, пережитый стресс мог привести к обострению легочных заболеваний. Медицинское освидетельствование, которое прошел Курицын, выявило диагноз «катар верхушки правого легкого»; также врачи отметили, что лицо пациента было «бледно-желтое, несколько одутловатое», а «грудная клетка плоская»7.
Несмотря на то, что архивы и документы не сохранили сведений о том, что делал и как жил писатель во времена Первой русской революции, у исследователей его творчества есть основания для того, чтобы утверждать: томский беллетрист с большим вниманием относился к происходящим событиям, сочувствовал революционерам и осуждал расправу с ними. Эта авторская позиция отразилась во многих произведениях Курицына, созданных в 1905-1906 годах.
Опыт сотрудничества с периодическими изданиями в начале XX в. у Курицына уже был. Буквально через год после того, как он начал работать в управлении, на страницах журнала «Сибирский наблюдатель» был опубликован его «рассказ из приисковой жизни» под названием «Подлость»8; в 1904-1905 гг. очерки, рассказы, стихотворения Курицына печатались в «Сибирском наблюдателе» и в газетах «Сибирский вестник», «Сибирская жизнь». Однако в 1906 г. количество произведений кратно возросло: не менее 25 текстов самых разных жанров было опубликовано в томских сатирических журналах «Осы», «Бубенцы», «Красный смех». Во многих из них осмысливались революционные события 1905 года. А в 1910 г. в романе «В зареве пожара» Курицын сделал попытку восстановить хронику революционного 1905 года.
Сатирические жанры позволили томскому автору показать отношение к изменениям, происходящим с обществом в период революции. В «Осах» поддержка революционного движения Курицыным выразилась в стихотворениях «Модное словечко» (Дон Валентино)9, «Над трупом героя» (Валентин Курицын)10, «Рабочий гимн» (Валентин Курицын)11; в единственном вышедшем номере журнала «Красный смех» – в произведениях «Песнь о веревке» (Дон Валентино), «Казнь» (В.К.), «Жертвы 20-го октября» (В.К.)12. Необходимо подчеркнуть, что «Красный смех», несмотря на то, что он был закрыт сразу же после выхода первого номера, не сохранившегося в томских библиотеках и архивах, жителям города был хорошо известен. Так, например, стихотворение «Казнь» из «Красного смеха» местный литератор Г. Гребенщиков процитировал в некрологе В.В. Курицына13; впрочем, вполне возможно, что Гребенщиков ориентировался на публикацию этого стихотворения во Втором литературном сборнике сибиряков14. Стихотворение «Песнь о веревке», в свою очередь, воспроизвел в своих «Рассказах о Томске» Сергей Заплавный15.
Если в «Осах» и «Красном смехе» отразились впечатления, полученные Курицыным во время революционных выступлений и томского октябрьского черносотенного погрома 1905 г., то в «Бубенцах» – сатирико-карикатурном приложении к «Сибирским отголоскам» – литератор запечатлел реакцию российского и томского общества на зарождавшуюся в глубокой российской провинции политическую жизнь. Первая русская революция 1905-1907 гг. всколыхнула размеренный рутинный быт отдаленных губерний, заставив обывателей задуматься, например, о своей «партийной ориентации» во время первых выборов в Государственную думу. Томск не был исключением из правил: и здесь, как и во всей России, в круг обывательских забот вошли такие понятия, как «военное положение», «аграрные волненья», «октябристы», «кадеты» и многие другие. Однако собственно реакции на черносотенный погром и революционные столкновения в «Бубенцах» не было.
Революционная тематика в творчестве Курицына проявилась в нескольких образах и повторяющихся мотивах. Прежде всего это образ «павшего героя» – сквозной и в поэтическом, и в прозаическом наследии автора. В стихотворении «Над трупом героя» это знаменосец, который ведет товарищей вперед «на смерть за свободу» и падает, «как сраженный стрелою орел». Подвигом героя является спасение красного замени: «На своей он груди его спас от врагов…»16. «Павшие герои» появляются и в стихотворении «Рабочий гимн»: это те, «кто на посту умирает, / Жертвуя честно собой»17. Молодой революционер, которого расстреливают солдаты туманным утром, с большим сочувствием изображается в стихотворении «Казнь»:
В зарисовке «Жертвы 20-го октября» Курицын, описывая жуткую смерть в огне людей, запертых в здании управления Сибирской железной дороги, подчеркивал: «Некоторые из них, обреченных на смерть, встречали ее спокойно и гордо – это были геройские сердца!»20. Также он обращал внимание читателей на эпизод – либо придуманный, либо действительно случившийся во время погрома:
Наряду с «героями» в зарисовке появляется образ «невинных жертв», ярко обрисованный Курицыным:
«Невинными жертвами» выступают и усмиряемые мужики из стихотворения «Песнь о веревке»: «усмиритель суровый» спешит к ним – «в голодный бунтующий край», захватив с собой веревку, которую сделали те же самые мужики23.
С образом «павших героев» и «невинных жертв» был тесно связан мотив памяти и отмщения: они не должны быть забыты, и их дело должно быть продолжено – настаивает поэт. В стихотворении «Над трупом героя» скорбящая по своему возлюбленному девушка отказывается от слез и утешений, но она жаждет мести: «Отомстить за него я должна!»24. В «Рабочем гимне» автор восклицает:
Зарисовка о жертвах 20-го октября заканчивается призывом к сохранению памяти о павших:
В отдельных произведениях Курицына можно проследить мотив формирования революционного братства. В стихотворении с характерным названием «Рабочий гимн» поэт выражал уверенность в объединяющем начале «рабочей песни»:
Противостоящие революции силы были представлены в обобщенных образах «палачей» и «трусов», которые остались живы. К этому же лагерю Курицыным причислялись и «кадеты» (стихотворение «Модное словечко» под псевдонимом Дон Валентино), которые на трагические события реагируют исключительно внесением «интерпелляции» в Думу:
Революционные образы и мотивы, разработанные и «апробированные» в 1900-х гг., оказались востребованы и в романном творчестве В.В. Курицына: в романе «В зареве пожара».
К 1910 г. Курицын уже приобрел определенную известность в томском литературном обществе как поэт и одновременно – стал скандально знаменит как создатель целой серии бульварных романов, издаваемых под псевдонимом Не-Крестовский. Тем более неожиданным для читателей стало появление в газете «Сибирские отголоски» романа «В зареве пожара» с подзаголовком «роман-хроника из событий 1905 года».
Роман «В зареве пожара» был опубликован в следующем виде: пролог «Побеждённые», первая часть «Весенние грозы» (31 глава), вторая часть «Под знамёнами свободы» (3 главы). Главы появлялись на страницах газеты «Сибирские отголоски» с января по июль 1910 г. (№ 16-102). Он не был закончен, поскольку «Сибирские отголоски» в 1910 г. перешли к другим издателям, но можно предположить, что в нем обязательно нашлось бы место и описанию томского черносотенного погрома – об этом свидетельствует вынесенное в заголовок «зарево пожара», произошедшего 20 октября 1905 года. В 2017 г. Томская ОУНБ переиздала роман в сборнике материалов, связанных с жизнью и творчеством В.В. Курицына [1, с. 78-209].
Публикация произведения в формате «газетного романа» определила специфику подачи материала. Во-первых, на газетной полосе каждая глава сопровождалась следующим блоком:
Это создавало в романе своеобразную напряженную атмосферу, поскольку все описываемые события – напоминало его название – в итоге вели к «зареву пожара». При переиздании этот концептуальный «рефрен» исчезает, что ведет к утрате особого восприятия «революционного романа».
Во-вторых, сегментированность произведения во времени и пространстве. Политическая, общественная и литературная газета «Сибирские отголоски» выходила два-три раза в неделю, главы романа размещались в «подвале» (нижней части) газетной страницы, были небольшого, примерно одинакового размера и представляли собой мини-сюжет, самостоятельный рассказ внутри большого произведения. Исследователь Н.Т. Пахсарьян обращала внимание на то, что недостаточно разделить текст на главы, «требуется определенная нарративная стратегия, создающая определенный ритм повествования и ритм романной интриги» [8, с. 14]. Чтобы удержать внимание читателя, автор усиливал динамику при помощи таких приемов, как интрига, резкие повороты фабулы, добавлял таинственных мотивов (обустройство подпольной типографии, тайный сговор), давал главам броские заголовки («Тайна типографии», «Нелегальные», «Преследование», «Блудный сын», «На панели»), нередко обещая рассказать о неизвестной стороне города.
В-третьих, главы нередко заканчивались на напряженном моменте. В первых авантюрных романах Курицын активно использовал такой литературный прием, как клиффхэнгер, в романе «В зареве пожара» этот прием был повторен. Так, первая глава завершается внезапной встречей уходившего от погони Ремнева с незнакомцем: «Тот шёл с видом беспечного фланёра и вдруг повернулся, слегка задев Ремнева плечом. Отблеск витрины пал на лицо последнего…»29. Читатель заинтригован: удастся ли Ремневу передать оригинал листовок для готовящейся обструкции или уже не избежать наказания? Вторая глава начинается с развязки этой встречи.
И наконец, в-четвертых, главы публиковались после новостных заметок, были вплетены в повестку дня, это добавляло динамику повествованию. Так, открывая № 22 издания «Сибирские отголоски», житель томской губернии читает заметку Де Ледвез-Терновского «Кое что о положении ссыльных в Сибири», узнает о непростом образе жизни, низких выплатах, «томительной скуке по оставленным товарищам», долгом ожидании разрешения «возвращения в Россию» и «необходимости организованной и планомерной» помощи ссыльным, затем читает о ходе заседания Государственной думы, а после знакомится с главой «Тайная типография», герои которой организовали подпольное распространение листовок и прокламаций и готовы «сделать первое открытое выступление», «сделать шаг вперед»30. Таким образом, художественное повествование можно считать попыткой рецепции окружающей действительности. Об этом говорил исследователь М.Е. Теренти: «Писатель ставит реальность в контекст художественного вымысла, творит, а не непосредственно “отражает”, обращается к области не идеально прекрасного, а повседневного» [9].
О том, насколько «документальным» был «роман с революционным пошибом» (как охарактеризовал его томский цензор31), можно предположить, основываясь на знании методов работы Курицына с «жизненным материалом», к этому времени вполне проявившихся в его творчестве. Многие произведения основывались на его личном жизненном опыте: прежде всего это очерки из жизни на золотых приисках, в которых отразились наблюдения автора за жизнью рабочих и служащих [10]. Документальная основа была характерна и для авантюрных романов Не-Крестовского [11]: описывались реалии дореволюционных Томска, Новониколаевска, Барнаула: улицы, рестораны, пристани, гостиницы, различные учреждения, кулинария, костюмы и т. д. Можно констатировать, что специфической чертой творческого метода Курицына было «наложение» вымышленных героев и сюжетов на документальную основу. Учитывая эту особенность творчества, можно действительно рассматривать роман «В зареве пожара» как опирающийся на реальные факты при воссоздании революционной хроники.
Обращает на себя внимание то, что роман о революции появился спустя пять лет после произошедших событий. Возможно, это было связано с цензурными соображениями, поскольку по прошествии времени события 1905 г. стали восприниматься как «история», а не «горячая современность». Однако можно сделать предположение, что «старт» романа был дан судебным процессом над участниками томского погрома, который прошел в Томске 17-28 августа 1909 г. [5, с. 105-111]. Курицын мог почерпнуть материал о революционном времени из выступлений очевидцев погрома либо познакомиться на заседаниях с человеком, рассказавшим ему подробности об организации революционного движения.
Действительно, исследователи неоднократно обращали внимание на то, что в основе романа лежали реальные события. В предисловии к сборнику материалов, подготовленному сотрудниками Томской областной универсальной библиотеки им. А.С. Пушкина, подчеркивалось: «Роман носит ярко выраженный публицистический характер, насыщен узнаваемыми томскими реалиями – демонстрация 18 (31) января 1905 г. и маёвка в 1906 г.; местами действия романа – Железнодорожное собрание (2-этажное здание сохранилось и расположено на пересечении ул. Розы Люксембург и пер. Совпартшкольного), Богородице-Алексиевский мужской монастырь, здание служб Сибирской железной дороги на Новособорной площади и т. д. На страницах романа любопытно описываются работа подпольной типографии томских революционеров и распространение выполненных на гектографе листовок и прокламаций. Роман окрашен определённой симпатией к революционно настроенной молодёжи Томска и представляет собой один из первых томских опытов беллетризированного описания событий 1905–1906 гг.» [1, с. 4].
Событийная канва романа «В зареве пожара» была выстроена следующим образом.
Повествование открывалось прологом с названием «Побежденные», в котором автор с большим знанием дела описывал обстановку «большой деповской станции», сохранившей следы вооруженного противостояния: «переплеты рам и самые стены депо хранили следы пуль», «местами виднелись кровавые пятна» и т. д. Присутствующие на станции персонажи – фельдфебель, жандармский вахмистр, телефонист, солдаты – готовятся к расправе с железнодорожными рабочими (в тексте упоминаются «насилу выкопанные» могилы, по списку вызывают рабочих, подчеркивается ощущение «нелепого кровавого кошмара»). Однако читатель не находил в тексте никаких подробностей относительно того, в каком населенном месте и когда происходили события, и почему «побеждённых» ждал расстрел. Пролог завершался открытым финалом, который, однако, не оставлял сомнений в том, что расправа состоится: «Точно холодное веяние смерти пронеслось над головами обреченных…»32.
Первая глава не описывала того, что происходило дальше: напротив, она переносила читателей к началу событий, к прогулке по городу революционера-нелегала Ремнева. Время – зима, обстановка – подготовка к демонстрации. В дальнейших главах автор описывал «банкет в железнодорожном клубе», на котором выступали социал-демократы и эсеры, а в конце вечера пели «Марсельезу»; рассказывал о подготовке к демонстрации и ее проведении (время действия – наступавшая весна), о «сходке в лесу». Во второй главе речь шла о подготовке и проведении забастовки железнодорожных служащих с помощью «химической обструкции» (назначенной на 1 июня, как следовало из текста).
В этих событиях принимали участие герои из двух «лагерей»: собственно революционеры (Ремнев и приехавшая к нему жена; «товарищ Фриц»; железнодорожный служащий, мечтающий поступить в университет, Василий Евсеев; революционер, скрывающийся под партийной кличкой Лорд и другие), а также обыватели, характерными представителями которых были выведены члены семейства Косоворотовых – консервативно настроенный отец-предприниматель, две дочери, сочувствующие революционному движению, и старший «блудный сын» Антон Косоворотов, представитель «богемы», «темных сил», которые в итоге, вероятно, противостояли бы революционерам.
Взаимоотношения между мужем и женой Ремневыми, возникновение симпатии между молодыми девушками и Василием Евсеевым, поиски своего места в жизни Антона Косоворотова разворачивались на фоне городской «революционной хроники». Курицын посвящал читателей в тайны революционного быта: так, например, он описывал устройство тайной типографии в подвале конспиративной квартиры:
Автор показывал «внутреннюю кухню» организации однодневной забастовки железнодорожных служащих:
Описывая обстановку внутри зданий железнодорожного управления, Курицын стоял на «твердой документальной почве»: он в них бывал и, вероятно, тоже испытал на себе все «прелести» вынужденной забастовки. Но Курицын подчеркивал одобрение революционных действий рабочими, передавая такие их реплики, как «мы, железнодорожные труженики, открыто заявили о своей солидарности со всем сознательным пролетариатом», «во всех службах обструкцию навели. Молодцы ребята!» и др.35.
О том, что такие методы организации забастовок действительно использовались в 1905 г., писал исследователь М.В. Шиловский: «Служащих из управления дороги выдворяли, в том числе используя химическую обструкцию – “подкладывалась колбочка с вонючим газом, и поневоле должны были протестовать”» [5, с. 23-24]. Следовательно, и сам факт «обструкции» не был выдуман Курицыным.
По страницам романа были «разбросаны» многочисленные указания на то, что описываемые события происходили в Томске – хотя город ни разу не был назван. Но здесь упоминались улица Большая, университет и политехнический институт (уже работавшие в это время в Томске), «Славянские номера» (томская гостиница), железнодорожный клуб и железнодорожное управление. Это вызывало дополнительный интерес у местных читателей.
Обращают на себя внимание приемы, которые Курицын применял для ухода от революционной конкретики. Он не раскрывал точного содержания, например листовок, которые набирались в тайной типографии, приведя буквально одну реплику, которую якобы не смогла разобрать наборщица:
Дальше же содержание листовки описывалось как «смелые огненные слова», которые набирались свинцовыми литерами.
В железнодорожном клубе «речи по содержанию приобретали агитационный оттенок», представляли собой «принципиальный спор между представителями двух лагерей» (социал-демократами и эсерами), а в конце вечера раздавались голоса: «Товарищи! Долой…». На брошенной листовке «выделялись начальные слова текста – Тысячи голодных рабочих» и т. д.37. Эти приемы ухода от содержательной революционной пропаганды без труда «считывались» читателями романа.
Даже в незавершенном виде в романе Курицына прослеживались характерные «революционные» образы и мотивы. В прологе мы видим поверженных «героев»; развернуто показано формирование революционного братства; намечены черты будущего противостояния «толпы» и «палачей», типы революционеров-героев. Это позволяет объединить роман-хронику с другими произведениями Курицына в систему материалов революционной тематики.
Революционные события 1905 г., происходившие в Санкт-Петербурге и Москве, могли отразиться в творчестве провинциальных авторов только опосредованно: мало кто мог лично присутствовать в столичных городах в это непростое время. В свою очередь о том, что происходило в провинции в это время, крупные русские писатели знали в лучшем случае только со слов очевидцев. Тем более ценными являлись произведения провинциальных авторов, в которых отразились как события 1905 г., так и реакция на них провинциального общества.
Исследование поэтического и прозаического наследия томского писателя Курицына дает основание говорить о том, что революция привела к повышению его публикационной активности и к усилению его внимания к социальным проблемам. Провинциальное общество в 1905-1907 гг. было расколото «по линии» симпатии к революционерам или же неприятия грядущих перемен. Томский черносотенный погром 20-22 октября 1905 г. произвел огромное впечатление на горожан: они увидели слабость и равнодушие власти, ощутили на себе силу невежественной, озлобленной толпы.
Таким образом, при анализе произведений В.В. Курицына мы обнаруживаем влияние народнической поэзии 1880-х гг., а также мотивы, образы и приемы Н.А. Некрасова. Подобно шестидесятникам томский писатель отражал противоречия социальной действительности, писал о произволе чиновников, возлагал большие надежды на революцию.
Поэзия В.В. Курицына – попытка передать драматизм времени, социально-политическую обстановку в отдельно взятом провинциальном городе. В его строках читаются некрасовские мотивы освобождения народа, мечты о счастливом будущем, призывы приблизить революцию. В.В. Курицын героизирует сторонников и жертв революционного движения: они горды и смиренны перед лицом смерти за идеалы и убеждения. Сибирский автор вслед за народниками вводил такой прием, как сюжетно-повествовательное начало, как в стихотворении «Песнь о веревке». Крестьян «усмиряют» веревками изо льна, который они же и вырастили. Речь идет не только о частных эпизодах крестьянской жизни, но и преступном состоянии страны в тот период. Освободительные идеи Н.А. Некрасова, его описания острого чувства социальной несправедливости и любви к угнетенному народу оказали влияние на гражданскую лирику В.В. Курицына.
В творчестве писателя не случайно занимает большое место образ «павшего героя» – человека, желавшего лучшего своим согражданам, но потерпевшего поражение. В то же время буквально «пунктиром» были намечены мотивы формирования революционного братства, которое пока не могло противостоять силе толпы. В текстах В.В. Курицына первичным является художественный мир, а не документальный, писатель в рассказах и очерках фокусировался на чувствах, демонстрировал разбитые о быт мечты одних героев и полную черствость, нравственное падение других, воспроизводил отражение среды, ее деструктивное воздействие. Работа В.В. Курицына в различных жанрах – поэтических, сатирических, романа-хроники – позволила с разных сторон подойти к осмыслению рецепции революционных событий. В настоящей работе представлен анализ нескольких аспектов этой темы, однако дальнейшие исследования могут прояснить другие вопросы, связанные с поэтикой романа и его значением в сибирской литературе.
1 Не-Крестовский (В.В. Курицын). Томские трущобы. Человек в маске. В погоне за миллионами: в 2 т. Т. 1 / подг. текста, вступ. ст., коммент. Н.В. Жиляковой, М.В. Могилатовой. Томск: Полиграф. компания; Интеграл. переплет, 2020. 598 с.; Т. 2. 568 с.
2 Государственный архив Томской области (далее – ГАТО). Ф. 214. Оп. 24. Д. 4577. Л. 31.
3 Там же. Л. 32.
4 Там же. Л. 33.
5 Там же. Л. 34.
6 ГАТО. Ф. 214. Оп. 24. Д. 4577. Л. 40.
7 Там же. Л. 49.
8 Курицын. Подлость // Сибирский наблюдатель. 1902. № 1. С. 3.
9 Дон Валентино. Модное словечко // Осы. 1906. № 20. С. 3.
10 Курицын В. Над трупом героя // Осы. 1906. № 20. С.2.
11 Курицын В. Рабочий гимн // Осы. 1906. № 21. С. 4.
12 В.К. Жертвы 20-го октября // Красный смех. 1906. № 1. С. 2. О журнале см.: [7].
13 Гребенщиков Г. Некролог // Сибирская жизнь. 1911. № 13. С. 3.
14 Курицын В. Красный смех // Второй литературный сборник сибиряков. Рассказы и стихи. Санкт-Петербург: Тип. «Север», 1908. С. 5.
15 Заплавный С.А. Рассказы о Томске. Новосибирск: Зап.-Сибир. кн. изд-во, 1984. С. 371-374.
16 Курицын В. Над трупом героя // Там же. С. 2.
17 Курицын В. Рабочий гимн // Там же. С. 4.
18 Курицын В. Казнь // Красный смех. 1906. № 1. С. 3.
19 Там же.
20 В.К. Жертвы 20-го октября // Красный смех. 1906. № 1. С. 2.
21 Там же.
22 Там же.
23 В.К. Казнь. С. 2.
24 Курицын В. Над трупом героя // Там же. С. 2.
25 Курицын В. Рабочий гимн // Там же. С. 4.
26 В.К. Жертвы 20-го октября // Там же. С. 2.
27 Курицын В. Рабочий гимн // Там же. С. 4.
28 Дон Валентино. Модное словечко // Осы. 1906. № 20. С. 3.
29 Не-Крестовский. Пролог. Побежденные // Сибирские отголоски. 1910. № 18. С. 3.
30 Не-Крестовский. Тайная типография // Сибирские отголоски. 1910. № 22. С. 3.
31 ГАТО. Ф. 3. Оп. 12. Д. 1347. Л. 181-182.
32 Не-Крестовский. Пролог. Побежденные // Сибирские отголоски. 1910. № 18. С. 3.
33 Не-Крестовский. Тайная типография // Сибирские отголоски. 1910. № 22. С. 3.
34 Не-Крестовский. Часть 2. Под знаменем свободы // Сибирские отголоски. 1910. № 88. С. 3.
35 Не-Крестовский. Глава 2. План выполнен // Сибирские отголоски. 1910. № 95. С. 3.
36 Не-Крестовский. Тайная типография // Там же.
37 Не-Крестовский. Глава 10. Звуки «Марсельезы» // Сибирские отголоски. 1910. № 9-10. С. 3
作者简介
Mariya Mogilatova
Tomsk State University
编辑信件的主要联系方式.
Email: newspaper_2401@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-3911-7789
PhD in Philology, senior researcher at the Academic Laboratory of Editorial and Publishing at the Faculty of Journalism
俄罗斯联邦, 36 Lenin Ave., Tomsk, 634050Natalia Zhilyakova
Tomsk State University
Email: retama@yandex.ru
Doctor of Philology, leading researcher at the Academic Laboratory of Editorial and Publishing at the Faculty of Journalism
俄罗斯联邦, 36 Lenin Ave., Tomsk, 634050参考
- Valentin Vladimirovich Kuricyn (Ne-Krestovskij): sbornik materialov [Valentin Vladimirovich Kuritsyn (Ne-Krestovsky): Collection of Materials] (2017). Tomsk Regional Universal Scientific Library Named after A.S. Pushkin; Compl. A.V. Yakovenko, Eds. S.S. Bykova, L.V. Cherednikova. Tomsk: Krasnoe znamya. (In Russian).
- Mogilatova, M.V. (2021) Specifika avantyurnogo romana v tomskoj dorevolyucionnoj periodike: na primere cikla romanov V.V. Kuricyna (Ne-Krestovskogo): dissertaciya … kandidata filologicheskix nauk [The Specifics of an Adventurous Novel in Tomsk Pre-revolutionary Periodicals: on the Example of a Series of Novels by V.V. Kuritsyn (Ne-Krestovsky): PhD thesis in philology]. Tomsk. (In Russian).
- Nisova, M.V. (2019) «Trushhoby`» peterburgskie i tomskie: ot podrazhaniya do xudozhestvennoj recepcii [The Petersburg and Tomsk “Slums”: from Imitation to Artistic Reception]. Sibirskij filologicheskij zhurnal [Siberian Philological Journal], No. 2, 73-86. (In Russian).
- Mogilatova, M.V. (2022) By`tovanie modeli avantyurnogo romana-fel`etona v neokonchenny`x proizvedeniyax sibirskogo pisatelya V.V. Kuricyna [The Existence of a Model of an Adventurous Feuilleton Novel in the Unfinished Works of the Siberian Writer V.V. Kuritsyn]. Voprosy` zhurnalistiki [Issues in Journalism], No. 11, 97-111. (In Russian).
- Shilovskij, M.V. (2010) Tomskij pogrom 20-22 oktyabrya 1905 goda: xronika, kommentarij, interpretaciya [Tomsk Pogrom of October 20-22, 1905: Chronicle, Commentary, Interpretation]. Tomsk: Tomsk University Publishing House. (In Russian).
- Chirkov, N.S. (1905) Putevoditel` po gorodu Tomsku i ego okrestnostyam [A Guide to Tomsk and its Surrounding Areas]. Tomsk: Parovaya tipografiya N.I. Orlovoj. (In Russian).
- Zhilyakova, N.V. «Poteryanny`j» tomskij zhurnal perioda Pervoj russkoj revolyucii «Krasny`j smex»: osobennosti soderzhaniya i oformleniya [A “Lost” Tomsk Magazine of the Period of the First Russian Revolution Krasny`j smex: Features of Content and Design]. URL: http://www.mediascope.ru/node/1510 (Accessed 15.12.2024). (In Russian).
- Paxsar`yan, N.T. (2004) Chitatel` i pisatel` vo franczuzskom romane-fel`etone XIX veka [A Reader and a Writer in the French Feuilleton Novel of the XIXth Century]. Filologiya v sisteme sovremennogo universitetskogo obrazovaniya: materialy` mezhvuzovskoj nauchnoj konferencii 22-23 iyunya 2004 goda [Philology in the System of Modern University Education: Materials from Inter-University Scientific Conference, June 22-23, 2004]. Moscow, Issue 7, 12-17. (In Russian).
- Therenty, M.-E. Contagions: fiction et fictionalisation dans le journal autour de 1830. URL: https://www.fabula.org/colloques/document7516.php (Accessed 10.10.2024). (In French).
- Nisova, M.V. (2016) Pervy`e ocherki V.V. Kuricyna v «Sibirskom nablyudatele»: osobennosti syuzheta i organizacii teksta [V.V. Kuritsyn’s First Essays in the Sibirskij obozrevatel`: Features of the Plot and Organization of the Text]. Zhurnalistskij ezhegodnik [Journalistic Yearbook], No. 5, 98-100. (In Russian).
- Nisova, M.V., Zhilyakova, N.V. (2018) Dokumental`naya osnova gazetny`x avantyurny`x romanov Ne-Krestovskogo [Documentary Basis of Newspaper Adventurous Novels by Ne-Krestovsky]. Tekst. Kniga. Knigoizdanie [Text. Book. Book Publishing], No. 16, 19-34. (In Russian).
补充文件